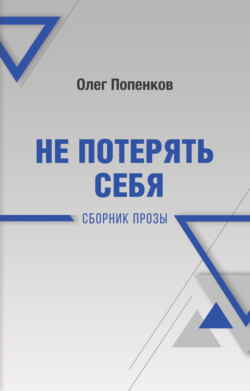Читать книгу Не потерять себя - Олег Попенков - Страница 5
Борька
(повесть)
Глава 1
ОглавлениеВ мае 1944 года войска 3-го Белорусского фронта вели бои местного значения на двух направлениях: оршанском и витебском. Шла активная фаза подготовки к одной из крупнейших операций всей Великой Отечественной войны – Белорусской, получившей кодовое наименование «Багратион». Так назвать операцию предложил сам Верховный главнокомандующий И. Сталин, придававший особое значение её успеху. В случае победы в ней наши войска, завершив освобождение всей территории Советского Союза, вступали бы в Западную Европу, получив отличные перспективы дальнейшего продвижения на Балканы, в Польшу, Румынию и Пруссию. Военный успех неминуемо перерастал в политический.
Фронт был образован в апреле того же года после разделения на 2-й и 3-й Белорусские ранее существовавшего единого Западного фронта. Впрочем, к частому формированию или расформированию объединений и соединений полковник медицинской службы Добров давно привык за более чем год войны. Его войны.
Всё это время Пётр Митрофанович руководил полевым госпиталем. Сначала – стрелковой дивизии, затем – корпуса и, наконец, армии. Хирург в третьем поколении, профессор, он видел войну, вернее, её отвратительную работу, ежедневно, проводя по шесть-восемь операций в сутки. На большее ему, человеку уже немолодому, не хватало сил. Да и то, что он делал, отдыхая лишь по три-четыре часа в день, засыпая урывками, где придётся, превышало человеческие возможности. Все самые сложные, порой безнадёжные операции доставались именно ему. Он не имел права на ошибку. От профессора ждали чуда, и он совершал его практически ежедневно, спасая жизни бойцов и командиров. Тогда глаза его «девчонок» (медсестёр) светились радостью, и они весело щебетали вокруг очередного спасённого, отдавая ему всю свою нерастраченную из-за войны девичью любовь и заботу.
Но были и неудачи. Добров старался не запоминать лиц и имён тех, кого оперировал, считая такую память для врача вредной, граничащей с отсутствием профессионализма. Нельзя же на самом деле всё пропускать через сердце! Так можно и погибнуть! И всё же помнил всех и по-человечески страдал, если не мог кого-то спасти. Сдёргивая с лица промокшую от пота повязку и уходя на свежий воздух из душной палатки после очередной неудачи, полковник боковым зрением замечал глаза своих девчонок, полные слёз, слышал сдавленные глухие рыдания за занавесками и злился на себя, проклиная войну. А ночью не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок.
– Боже, когда же окончится эта пытка?! – спрашивал он темноту, силясь уснуть или хотя бы расплакаться, чтобы облегчить душу. И не мог. – Люди, что вы творите?! Всему же есть предел!
Но темнота упрямо молчала. Ухали дальние разрывы, да крестили чёрное небо прожектора противовоздушной обороны. И полковнику безумно хотелось курить. Но он запрещал себе это, вспоминая в минуты слабости о сыне, его Женьке, тоже хирурге, с блеском окончившем мединститут в Воронеже. Парень специально уехал учиться в другой город, чтобы известность отца не мешала ему шагать по жизни своим путём.
Евгения оставили на кафедре, и он поступил в ординатуру. Ему пророчили большое будущее. Но началась война, и, имея бронь, Женя сам явился в военкомат и попросился на фронт. Когда Добров с женой, Елизаветой Матвеевной, проводили сына на войну, он решил для себя, что негоже и даже стыдно ему, умелому и опытному хирургу, торчать в тылу. Его пытались удержать все: руководство института, где он читал лекции студентам, отцы города, уважавшие учёного, и, конечно же, супруга. Но он страдал, и, поняв, что его не удержать, Елизавета Матвеевна сдалась.
Лёжа под шинелью на тесной пружинной кровати, полковник вспоминал, как на прошлой неделе прямо на его госпиталь выскочила пытавшаяся вырваться из окружения подвижная немецкая группа. Она состояла из автоматчиков на мотоколясках, была усилена двумя танками. Добров организовал отражение атаки силами своего медперсонала и легкораненых бойцов. Он и сам стрелял в немцев из автомата и, как ему показалось тогда, даже в кого-то попал. А потом подоспели наши, подожгли вражеские танки и взяли оставшихся в живых фрицев в плен. И его сестрички делали пленным перевязки и уколы.
– Какой нонсенс – доктор с автоматом в руках! – сокрушался профессор. – Спасать жизни и тут же их отбирать!
В прифронтовой полосе щёлкал в ночи сбитый с толку соловей, повинуясь вечному весеннему инстинкту. То слева, то справа раздавались его переливчатые трели.
«Господи, а ведь эта маленькая серая птаха умнее нас всех! – думал старый доктор. – Жизнь – вечна! А война – это безумие человечества! Мы все – безумцы!»
Хозяйство доктора Доброва располагалось в редком перелеске, отросшем за годы войны на месте бывшего колхозного поля.
Когда-то большое белорусское село, к которому примыкало несколько деревень, было, судя по постройкам, многолюдным. Имело свой собственный храм. Сейчас же лежало в руинах, ощерившись жерлами торчавших в небо печей. Фашистов выбили отсюда недели две назад, и картина разгрома была ужасающей. Повсюду осколки железа, почерневшие от огня фундаменты изб, груды обгоревшего домашнего хлама. Местных жителей совсем немного: две-три то ли женщины, то ли старухи, замотанные в платки, – не поймёшь! Бродят среди пепелища в поисках чего-нибудь уцелевшего. И юркий белоголовый мальчик лет шести-семи. Пацан вёл себя независимо, неожиданно появлялся и так же неожиданно исчезал.
Полковник давно заприметил ребёнка и всё хотел поговорить с ним или хотя бы подкормить. Да тот всё пропадал куда-то.
Фронт неумолимо двигался на запад, и подобных картин в памяти Доброва накопилось предостаточно: вымершие города и деревни, почерневшие скелеты сгоревших строений, одинокие женщины и старики. Стаи одичавших собак, терзавшие тела погибших.
«Неужели всё это можно вернуть к жизни?» – не раз задавал себе невесёлый вопрос полковник.
От этих мыслей его спасала работа: операции следовали одна за другой. В перерыве короткий отдых, стакан крепкого чая – и снова к операционному столу.
В последние дни стало намного легче: армия не вела активных боевых действий, в основном – зачистка местности. Раненых поубавилось, и появилась возможность прикорнуть на полчаса-час в дневное время прямо в госпитале. Здесь, в углу палатки, где оперировал доктор, за занавеской из простыней стоял старый протёртый топчан, на котором в редкие минуты затишья отдыхал полковник. Его сон оберегали и старались будить только в крайнем случае. Добров начал практиковать дневной отдых после неприятного случая, произошедшего с ним недавно.
Окончив очередную напряжённейшую операцию, он вдруг упал в обморок, пролежав в чёрном провале несколько минут. А когда очнулся и увидел встревоженные лица своих коллег, попытался подняться, но… не смог. Пришлось прописывать самому себе постельный режим, аж на целых два дня! Хорошо, что произошло это с ним не в дни наступления!
О предстоящем рывке на запад усиленно заговорили с приходом нового командующего фронтом генерал-полковника И. Д. Черняховского. Красивый, энергичный тридцативосьмилетний полководец, он уже отличился во многих боевых операциях, снискав славу непобедимого. В боях под Киевом осенью сорок третьего Иван Данилович, командовавший 60-й армией, получил свою первую звезду Героя за решительные и смелые действия.
Однажды генерал приехал в госпиталь с лёгким ранением в руку, которое получил во время рекогносцировки. Пётр Митрофанович, присутствовавший при перевязке, невольно поймал себя на мысли, что он годится в отцы этому молодому черноволосому парню, уже ставшему легендарным военачальником.
Когда перевязка была окончена, командующий, не проронивший во время неё ни звука, вдруг так хорошо, белозубо улыбнулся делавшей её молоденькой медсестре, что та вся зарделась, смутившись.
«Эх, молодёжь, – позавидовал тогда Добров, – вам бы не воевать, а жениться да детей нарожать!»
Полковник ехал в трофейной «эмке» на службу из передового подразделения, где проводил личный осмотр окопников, и вспоминал свою встречу с Черняховским. Его путь пролегал мимо сожжённой деревни и обгоревших печных труб. Вдруг он увидел знакомую фигурку мальчика, сновавшего у развалин.
– Останови, Сёма! – приказал своему водителю Пётр Митрофанович в обычной для себя просительной манере. Молчаливый Семён, мужчина лет сорока, аккуратный, дисциплинированный водитель, бывший колхозный механик, остановил машину. Выйдя из неё, полковник подошёл к мальчику, глядевшему на него с нескрываемым любопытством. Пацан был бос, в грязных лохмотьях. Кожа лица и рук красновато-грязная и сильно обветренная.
– Мальчик, ты что тут делаешь?
– Я здесь живу!
– Где? – удивился полковник.
– Тут, при печке!
Приглядевшись, Добров увидел лаз, а проще говоря, чёрную дыру, ведущую вниз под основание печи.
– А где твоя мама?
– Погибли все, когда немцев гнали. С нашей деревни человека три осталось. Да только ушли они отсюда.
– Так ты что же, совсем один? – изумился полковник.
– Почему один? В соседней деревне, километрах в трёх отсюда, есть люди. Только они не местные, а пришлые.
– А звать тебя как?
– Борька.
– А лет тебе сколько?
– Семь уже!
– Боря, поедем со мной, я тебя чаем угощу! С сахаром!
– А не обманешь? – хитро прищурился пацан.
– Конечно, нет! Я здесь рядом работаю, в госпитале.
– Я вас знаю. Вы у них главный! – поделился ценным наблюдением Борька.
Вот так появился у пожилого полковника то ли сынок, то ли внук, да только прикипело к нему сердце доброго человека. И уже никуда далеко от себя не отпускал его Добров, оберегал и жалел сироту.
И было наступление их фронта, в результате которого освободили города Витебск и Могилёв. А потом – замечательная победа под Минском и окружение стотысячной группировки противника. Сражения в Польше и Пруссии. Убитые и раненые, огонь и кровь и бесконечные операции с изнурительным стоянием часами на ногах. Но у Доброва теперь был Борька, и в его немолодом уже сердце поселился светлячок.
А потом грянула долгожданная победа. И вернулся полковник, весь в орденах и медалях, в свой родной Липецк погожим летним днём. И рядом с ним вышагивал подросший мальчик по имени Борька, который с почтением называл его по имени и отчеству – Петром Митрофановичем.
Когда они шли по улицам города, прохожие радостно приветствовали их, а женщины дарили цветы.
Дом полковника был разрушен, и теперь он искал новый адрес, который прислала ему в последнем письме на фронт жена Елизавета Матвеевна. Она сообщала, что их сын Евгений, капитан медицинской службы, вернулся с войны ещё в марте и теперь работает в госпитале.
«Боже мой, какое счастье! – думал полковник, идя по залитой солнцем улице, не замечая раскорёженных домов и дорожных рытвин. – У людей горе – мужья и сыновья с войны не вернулись, а нас теперь даже больше стало!» Он косился на мальчика, гордо шагавшего рядом в военном обмундировании и сапогах, хлюпавших на его худых ногах, и в сердце Доброва теплело.
Наконец Пётр Митрофанович остановился у двери, которую искал, и, убедившись, что звонок отсутствует, постучал по ней костяшками пальцев. Послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла Елизавета Матвеевна. Её глаза были полны счастья и слёз.
– Вот, мать, принимай пополнение! Это Борька! – бодро отрапортовал полковник, но в следующий момент бросился ловить оседавшую без чувств супругу.
Вечером вернулся с работы Евгений. Крепко, порывисто обнялся с отцом. Они, мужчины, прошедшие дорогами войны, понимали друг друга без слов.
– Ну, давай знакомиться, братишка! – протянул руку Евгений. – Как тебя зовут?
– Бен! – важно выпятил губы пацан и залихватски с размаху двинул своей узкой ладошкой по ладони старшего брата.
– Как-как?! – удивились все и больше других – сам полковник, никак не ожидавший такого фортеля от сорванца.
– Да побратался я в Берлине с одним американцем. Так что теперь он – Борис, а я – Бен, – пояснило юное создание.
В следующий момент смеялась вся кухня, где за накрытым праздничным столом в полном составе расположилась новая Борькина семья.
Мальчика определили в местную школу, на территории которой рос замечательный яблоневый сад. Деревья были старыми, и их ветви достигали верхних этажей трёхэтажного строения. Иногда, убегая с уроков, школьные проказники «выходили» из класса, завидев учителя, прямо в окно, повисая на яблонях.
Подобные фокусы выделывал и Борис. Учиться ему было неинтересно, тем более с «малолетками», как презрительно называл своих школьных друзей девятилетний переросток. Он днями пропадал со своими ровесниками и друзьями постарше на улице, таскал в дом и прятал в потайных местах найденное оружие и боеприпасы, на которые время от времени натыкалась делавшая уборку Елизавета Матвеевна.
– Боря, ты нас когда-нибудь подорвёшь! – сетовала она после очередной находки.
– Борис, ты уже взрослый человек! – воспитывал сына Пётр Митрофанович. – Когда, наконец, возьмёшься за ум? В школе одни двойки и тройки! Так и вырастешь неучем!
– А я военным хочу стать! – парировал пацан. – Автомат я собираю и разбираю с закрытыми глазами, команды все знаю!
– Что ж, по-твоему, военному знания не нужны? Теперь техника сложная, и без математики и физики ни танк, ни самолёт водить не сможешь! А стрельба из артиллерийского орудия – одни математические расчёты!
– Да, – соглашался со вздохом Борька, – математику подучить придётся.
– И математику, и русский язык тоже! – заключил полковник. – А иначе боевой приказ грамотно не напишешь!
Несколько месяцев назад семья Добровых переехала в новый, только что построенный шестиподъездный дом. Пётр Митрофанович, как старший офицер, фронтовик и работающий профессор, въехал в трёхкомнатную квартиру на третьем этаже. Старший сын Евгений женился и уехал в Хабаровск, получив назначение на должность начальника хирургического отделения окружного военного госпиталя. И у Борьки теперь была своя отдельная комната.
В такое верилось с трудом. Мальчик зачарованно ходил по квартире, спрашивая у взрослых:
– Мы что же, здесь одни будем жить?
– Конечно! – радостно отвечал профессор, у которого наконец-то появился собственный кабинет.
– А кто со мной в комнате будет жить?
– Никто, ты один. Теперь тебе никто не будет мешать делать уроки!
В доме проживало много фронтовиков. Некоторые из них имели серьёзные боевые ранения, и Пётр Митрофанович считал своим долгом наведываться в такие квартиры. Носил лекарства из своего госпиталя, делал уколы и перевязки и никогда не брал за это никаких денег. Старый доктор всегда имел при себе видавший виды потёртый саквояж со всем, что могло пригодиться ему при осмотре больного. И весь двор, наблюдая высокую сутулую фигуру профессора с коричневым баулом в руке, по-доброму посмеивался:
– Скорая помощь пошла!
Полковник знал боевых офицеров лично, автоматически считая их своими пациентами. Со всеми был на короткой ноге, несмотря на своё профессорство.
Однажды он зашёл навестить боевого лётчика-штурмовика, жившего в соседнем подъезде. Офицер недавно похоронил жену. Детей у него не было. Гвардейский ас, носивший в своём теле несколько осколков, которые в своё время побоялись трогать полевые хирурги, воевал лихо: его мундир украшали ордена Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, орден Александра Невского, орден Отечественной войны, медали за отвагу и победу над фашистской Германией. Всего двенадцать боевых наград. Теперь же он был абсолютно одинок. На улицу выходил редко. А если это случалось, то лишь в погожие тёплые дни. Выйдя из подъезда на перебитых негнущихся ногах, лётчик (как звали его все во дворе), опираясь на палку, делал несколько шагов до лавки, стоявшей тут же у подъезда, и тяжело опускался на неё на полчаса-час погреться на солнышке.
В однокомнатной квартире у офицера почти не было мебели: стол, стул и кровать с панцирной сеткой, на которой он и лежал. Да ещё в дальнем углу стоял угрожающего размера трофейный чемодан, который на сленге фронтовиков называли «Великая Германия». Чемодан был настолько огромен и крепок, что мог играть и в разное время играл роль стула и стола одновременно.
– Привет, Лукич! – приветствовал фронтовика Пётр Митрофанович, лишь для приличия постучав в дверь, прежде чем войти. Были времена, когда двери не запирали!
– Здорово, Митрофаныч! – обрадовался Степан Лукич (так звали лётчика). – Знаешь, я давно хотел поблагодарить тебя за всё, что ты для меня делаешь! За дружбу! Но особенно – за сына!
– За сына? – удивился полковник.
– Ну да. Ты же знаешь, я почти не выхожу, а Борька твой у меня ежедневно. И в квартире приберёт, и в магазин сбегает, чай заварит. А потом сядет вот так же, как ты, у кровати и просит, чтоб я ему про войну рассказал, про бои, о том, где и как ранен был. Если б не он… Признаюсь тебе, я уж тут грешным делом пару раз свой наградной парабеллум доставал, когда совсем хреново было.
– Да ты что, Степан! Разве ж можно?!
– Прости, Митрофаныч. Что было, то было! Хороший у тебя парнишка. А у меня вот никого. Я только удивляюсь, как это его со школы так часто отпускают? Говорит: учителя заболели, а то – отпустили, мол, за успехи в учёбе!
– Да нет, учится-то он как раз весьма посредственно. Только живёт в нём война и уходить не хочет. А натерпелся он за свою недолгую мальчишескую жизнь столько, что не одному взрослому на век хватит!
– Понятно. Ты, говорят, с войны его привёз?
– Да. Подобрал сироту на пепелище сгоревшей белорусской деревни.
– А родители где же?
– Погибли при отступлении немцев. Каратели постарались!
– Какое счастье, что не видел я этого ничего! Для нас ведь война – кабина пилота. А ты, медицина, с матушкой-пехотой протопал!
– Да уж… – задумался, вспоминая былое, старый доктор. – Ну ладно, давай я тебя посмотрю!
– Да чего там смотреть-то? Расписался на мне немец на всю оставшуюся!
– Держись, брат, держись! Я тебе сейчас обезболивающее сделаю, поспишь.
Умер боевой лётчик в самом конце 40-х, не дожив двух дней до очередной годовщины праздника Победы. На столе в его убогой квартирке нашли записку. Нет, он не застрелился – умер от ран. Перед смертью же просил передать свой мундир и все награды на нём Борьке. На память. Как сыну.