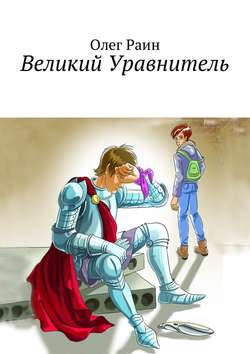Читать книгу Великий Уравнитель - Олег Раин - Страница 8
1Часть 1
Глава 6 Накануне…
ОглавлениеВосьмой класс – все-таки не седьмой, это мы сразу почувствовали – с самого 1-го сентября. У половины парней голоса пошли ломаться, и за лето все вытянулись – прямо жуть. Я тоже подрос, но как-то скромно – сантиметра на два-три. А вот Генка Маханюк аж целый дециметр прибавил – таким лосярой стал, даже Вано обогнал. Да и других сложно было пацанами называть. Мы и обращались друг к другу уже иначе: «але, мужики, привет!», «как дела, мужики, все путем?». Мужики, ха-ха!.. Послушать со стороны – ухохочешься, но вот как-то оно на автомате пошло – рукопожатия, солидность в движениях, разговоры… Одни, значит, проблемы «апгрейда» обсуждают, другие беседуют о пользе и вреде энергетиков, о готовящемся чемпионате по футболу. Но особенно весело было слушать «знатоков» тюнинга – и впрямь заговорили так, словно у каждого в гараже по паре-тройке тачек стояло. И все при этом знали, что машин ни у кого нет. То есть, у Лешкиного дяди и впрямь имелась старенькая джига шестой модели, Людкины родители мотались в сад на потрепанном «Оппеле», а отец Геныча владел мотоциклом «Урал», но на этом перечень, пожалуй, и заканчивался. Цапля про себя особо не рассказывала, а Макса Гурницкого я даже и не считал – он был не совсем из наших. Уже при первом его появлении все сразу уяснили, что «буратинка» из богатеньких – без особого пафоса, но со своими тухлыми наворотами. Потому что сходу попытался подкупить всех бесплатной «угощаловкой» в местном кафе. От угощения народ не отказался – схряпали все за милую душу, однако особого уважения Макс этим не заработал – разве что выбил себе право присутствовать на тусовках и время от времени молвить свое не самое пустое слово.
В общем, в начале учебного года народ выделывался, как мог – глаза пучил, пальцы гнул, вразвалочку ходил. Само собой, хватило нас ненадолго – уже через неделю стали снова хохмить, верещать да дурачиться. Как и прежде. Хотя, конечно, здорово, что догнали, наконец, девчонок по росту. А то ведь класса до шестого они были верзилами, мы – лилипутами, какое уж там ухаживание – смех один! Только сейчас все пришло в относительную норму. Я, понятно, затылком к Цапле не прислонялся, но тайные меточки на стенах для себя обозначал – там, значит, где она останавливалась. Когда не видел никто, подбегал к ним и вставал рядом. По всему выходило, что выше она меня была всего ничего. Если же ей надеть туфли без каблуков, а мне стельки тройные сделать, то можно и вовсе не стесняться. Но это было в прошлом году, а теперь я вроде стал даже чуточку выше ее – тем более что шпилек она никогда не носила.
Кстати, девчонки и тут четко разделились. Некоторые-то влезали на такие шпильки-шпилищи, что их как башни коломенские стороной обходили. За версту было видно, что эти «предательницы» взяли курс на старшаков. Впрочем, таких было немного. Большинство одноклассниц щеголяли в обычных кедах-кроссовках – обуви вполне человеческой. Вот и Цапля ходила в своей обычной униформе – джинах, блузке и кроссовках. Хотя при ее фигурке – ей бы любая одежка подошла – хоть платье до пят, хоть самое жесткое мини. Но про «мини» я, честно сказать, боялся даже думать. Поскольку на фоне наших «коров» Цапля сразу взмыла бы в форменные принцессы. А тогда… Тогда и старшаки за ней ринулись бы табунами, и все наши гиппопотамы. Может, и Вано, наконец, понял бы, какой он слепой дуролом. Ему-то, остолопу, и ухаживать не пришлось бы – только щелкни пальцами (а у него это звонко получалось!) – и поскакала бы моя Цапля за ним, полетела бы и помчалась.
Был еще страх, что в восьмом у нас поменяют математика, но Григорьич, по счастью, остался на своем законном месте. Он и пришел-то к нам в школу в прошлом году – незадолго до появления Цапли, но сразу взял всех в крепкий оборот. В том смысле, что прежнюю математичку мы не любили и боялись. Были, конечно, свои успевающие, но лично я не понимал ничегошеньки. Ну, прямо напрочь! И мнение о себе, как о безнадежном тупице, подкреплял практически на каждом уроке. В этом плане Василий Григорьевич меня просто спас. Да чего там! – его у нас сразу все заценили, как препода мудрого и необычного. В том смысле, что учиться у него оказалось, на удивление легко и весело, и уже в первую неделю я с удивлением понял, что, кажется, начинаю что-то понимать и имею все шансы выбраться из двоечно-троечного болота на твердую почву.
Он, кстати, и начал свой первый урок необычно. Стремительно влетев в класс и оглядев всех смеющимся взглядом, громко объявил:
– Все взяли себя за нос. Все, все! Не ленимся! А теперь осторожно потянули. Только не отрывая. И запоминаем то, что сказал великий Эйнштейн: «Математика – это наиболее совершенный способ водить самого себя за нос». Знания – ничто, воображение – все! Поэтому на каждый урок приносим листочки для почеркушек. Забыли – спрашиваем у препода. Препод – это я, Василий Григорьич. За глаза можно звать Васей или просто Григорьичем. Ну, а всевозможных листочков у меня всегда навалом.
– А зачем нам листочки? – поинтересовался кто-то из ребят.
– Рисовать, черкаться, тренировать воображение – водить мысль на кончике пера. Кто не рисует и не черкается – вяжет себя по рукам и ногам, надевает в темной комнате черные очки и пытается отыскать потерянные ключи.
В классе захихикали.
– Нам же это… Рисовать на уроках запрещают. Даже на ИЗО.
– Ну… – Василий Григорьевич картинно развел руками. – У каждого свои методы. Мой метод разрешает и черкаться, и рисовать. Именно черновики позволяют избегать ошибок. Не бойтесь ошибаться! Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. Это, между прочим, тоже сказал Эйнштейн! Будьте ручейками и не превращайтесь в болото, и тогда все у вас получится – непременно доберетесь до своей Мечты, до своего Моря-Океана. Не понимаете чего-то – отлично! Значит, вы перед очередной ступенькой. Задаете вопрос преподу, получаете ответ – и поднимаетесь на ступеньку вверх. Когда все легко и понятно, это даже подозрительно. Радуйтесь непонятному. Это всегда подножка, которую несложно перепрыгнуть.
– А если впереди не подножка, а целая баррикада? – ехидно осведомился Макс.
– Значит, чего-то вы не замечали прежде – возможно, тех же маленьких подножек. Испуганно обходили стороной – вот и накопилась куча-мала из маленьких непониманий размером с баррикаду…
Так вот оно все и завертелось… Мы сходу принялись «черкаться» и «рисовать». А «удивительный чувак», как выразилась о нем влюбившаяся в учителя Томка, в несколько уроков сделал из нас своих верных поклонников. А уж сколько цитат он высыпал на нас ежедневно – из Кьеркегора, из Паскаля, из своего любимого Альберта Эйнштейна – просто офигеть!
Я даже в справочниках потом специально про Эйнштейна листал – и нашел кучу других классных высказываний. Больше всего мне понравилось такое:
«Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть».
Я сразу сообразил, что это относится все к той же теме черновиков. Черкаешься – значит, ищешь, «играешь», а не сидишь пнем, мучительно пытаясь что-то вспомнить, боясь написать лишнюю циферку. В итоге ничего не вспоминается – и получается полный облом-обломище. Гребешь к доске и огребаешь…
У Григорьича (простецкое «Вася» к нему не пристало) все было иначе – и даже тишина, как таковая на уроках, не приветствовалась. Есть вопрос – спрашивай, не молчи. Нашел интересное решение, топай к доске, делись с народом! Никто тебя за это не осудит и не повесит. Что-то не так – ржать, может, и будут, но двояка по любому не ставят – и даже наоборот, неверная попытка порой оценивалась тем же пятаком! Так сказать, за жизненное любопытство, за проявленную отвагу. Новый наш математик умел шутить, никогда не орал и не ругался. Математику он как-то легко совмещал с геометрией, позволяя обходиться вовсе без учебников, а весь урок превращал в азартное состязание. Всех скучающих и болтающих он очень по-семейному делил пополам: «злостным» честно предлагал прогуляться (безо всяких обид и репрессий), всех прочих сгонял табунком к широченным доскам, предлагая резко повысить успеваемость доказательством теорем, решением задач и примеров. Как-то здорово у него это получалось, потому что и впрямь выходило вроде соревнования. На пальцах и вполне наглядно он разжевывал всем стоящим у доски секреты решений, все прочие слушали, мотали на ус, черкали мелками. Половина – обычными, половина интерактивными перьями – кому уж какая доска доставалась. Всем остальным предлагалось скоренько решить все примеры из рабочих тетрадей, за что тут же щедро ставились пятерки. Потом в ход шли карточки (а ими, как и бумагой для почеркушек, у Григорьича был забит весь портфель), и за каждую решенную карточку он опять же выставлял пятерку. Четверок у него было мало, а троек и двоек не было вообще! Тех, кто решал неверно и делал ошибки, он попросту усылал «разбираться» – к доске или за парту. И куда деваться – разбирались, конечно. Кто-то списывал, кто-то подглядывал – Григорьич разрешал все! Даже про шпаргалки он как-то сказал, что «вещь – это крайне полезная, поскольку тренирует зрение, память и сообразительность». Типа, значит, пока сочинишь иную шпаргалку, уже и поймешь все, выучишь и выжжешь клеймом на обоих полушариях…
Короче, прежнюю зубрильную стратегию он форменным образом сломал об колено. С уроков мы уходили без единого домашнего задания, возбужденные и довольные, унося разом по три-четыре, а кто и по пять-шесть пятерок. Может, на первых уроках он, таким образом, нас только завлекал и разогревал, но старшак Гусь (Гусев Витька) из десятого на перемене подтвердил, что у них с Григорьичем та же «ботва». Троек и двоек нет, четверок с гулькин хрен – и то только на контрольных. Короче, мужик чумовой, и, похоже, скоро съедет в Москву. Мы даже приуныли тогда – ну, почему, блин, так-то? Как путевый кто вынырнет – группа музыкальная, бизнесмен или учитель – сразу либо за кордон сваливают, либо в столицу. Словом, жизнь с появлением нового математика существенно изменилась. Мы ведь даже на олимпиады впервые стали команды посылать! Выше четвертого места, правда, пока не поднимались, но раньше-то школа вообще ни о чем подобном не помышляла!
Вот и сегодня первых двух уроков у нас вроде как и не было, поскольку сразу за математикой сразу шла геометрия, но то и другое мы и за урок не считали. Скорее – можно было сравнить с посещением зала игровых автоматов. Послушав и поглядев на «дундуков» у доски, я быстро въехал в изучаемую тему, разобрался с правилом возведения дробей в степень – и дальше все пошло-поехало само собой. Кругом тоже вовсю скрипели ручками. Кто-то радостно гоготал, решившие вскакивали с места и мчались к учительскому столу за отметками. Прямо цирк какой-то! Даже не заметили, как пролетело время, и свои законные две пятерки я снова получил. И вновь вспомнил, как мучились мы год назад у Тамары Тимофеевны, дамы с голосом надсадно-скрипучим, ставившей за урок не менее десяти двоек, то и дело писавшей кляузы и жалобы родителям. Именно у нее я однажды, под уговоры одноклассников выступил с дурной речью. Это, кстати, Машка, заговорщица, спланировала, ну и остальные поддержали. А я… Я и отказаться не мог – испугался. А может, хотел приколоться перед народом, лишний раз показать себя не пустым местом. В общем, надо было завернуть что-нибудь эдакое, чтоб у учительницы уши повяли, вот я и завернул. На полном серьезе расписал ей доказательство теоремы из программы второго вузовского курса, при этом дал пояснение, в котором и сам ни бельмеса не понял. Что-то вроде: «Остаточный член – это разность между заданной функцией и функцией ее аппроксимирующей. Тем самым оценка остаточного члена является оценкой точности рассматриваемой аппроксимации. Этот термин применяется, например, в формуле ряда Тейлора…»
Не такая уж замысловатая фишка, но одноклассники знали, что я неплохо выучиваю сложные тексты, и надежды их я полностью оправдал. У Тамары Тимофеевны отвалилась челюсть, глаза в панике забегали. Она явно не понимала того, что я говорю, но, глядя на мою вечно постную невинную физиономию, никак не могла понять, в чем тут подлянка и в чем подвох. Тем более что и класс помалкивал. С двух точек наши придурки снимали все на телефоны, а Тамара Тимофеевна стремительно закипала… Ничего у нас тогда не получилось. Двойку мне, конечно, влепили, и наорать – наорали, но, видимо, Машка-Машуня ожидала какой-то более нестандартной реакции. А криков – их у нас хватало на всех уроках. Фиг, кого удивишь.
Вот и на химии мы махом порастеряли весь пыл. Точно после математического раскаленного горна нас сунули в мерзлый снег. Аннушка (так звали мы химичку) что-то писала на доске, часто путалась в формулах и химических элементах, но срывалась, понятно, на нас. Чем больше путалась, тем больше сердилась. Мне даже жалко ее становилось. Ну, вот зачем было иди в учительницы? Да еще по такому дремучему предмету? Я понимаю, если бы мы разбирались, как делают стекло, керамику, вникали бы в формулу булата и обычной стали. Или нам бы рассказывали, как из леса и бамбука бумагу делают, а из глины – кирпичи с кувшинами. Нет, ну, правда! – мировая же наука, столько всего интересного! А нам гнали какую-то пургу про основания, таблицу растворимости заставляли учить, валентность с зарядами. Я глядел на наших девчонок и пытался представить, как все эти знания потом выручат их в жизни, как помогут где-нибудь на кухне или на пляжах Испании, в парикмахерских или ночных клубах. Ну, ржачка ведь, реально! И лет в семьдесят какая-нибудь Танька Мокина или Ксюха Самохвалова однажды посмотрит в зеркало, погладит свои седые пряди, и по морщинистой щеке скатится ностальгическая слеза. В памяти всплывут уроки, где изучали кислоты и щелочи, и где она, зевая и втихаря играла с телефоном, пропустив столько вселенских истин…
Впрочем, весело мне не стало. После математики на юмор реально не тянуло. Я, кстати, и по другим ребятам это подмечал. Что-то такое проделывал с нами всеми Григорьич – странное и непонятное. Не тянуло больше придуриваться и юморить, а хотелось вот также азартно в считанные минуты глотать иные предметы и учебники, прыжком перемахивать перекладины теорем и правил, а после фигачить в тетрадях или у доски, сыпать цифрами и формулами! И чтоб побольше успеть, да потруднее – хоть на секундочку ощутить себя маленьким гением – не Лобачевским, так тем же Менделеевым. Короче, человеком с большой буквы! А домой потом приволочь кучу пятерок и ворох новых знаний. Только вот Григорьич был один-единственный на всю школу, и все эти мечты можно было смять в ком и упихать в одно место. Так что Аннушку я скоро совсем перестал слушать, вернувшись к своему обычному занятию – ковырянию в ушах, черкотне в блокноте и лицезрению одноклассников. Слева я видел байроновский профиль Макса, главного своего соперника, справа – полупрофиль моей милой Цапельки. Вано я видеть не мог, поскольку его законное место всегда располагалось на галерке. Впрочем, и он скоро напомнил о себе, сначала шарахнув по моему затылку жеваным катышем, выплюнутым из раскрученной ручки, а после перебросив мне записку. Наталья, моя соседка, попыталась схватить бумажный квадратик, но я успел раньше.
Поочередно поглядывая то на Наташку (чтоб не выхватила записку), то на Аннушку, я быстро прочел:
«Не забыл про СЕГОДНЯ? После школы дуем домой и со шмотками встречаемся у храма».
В напоминаниях я не нуждался, все было оговорено десять раз. Просто Вано тоже тосковал на химии – вот и развлекался, как мог. Его бумажные снарядики то и дело тюкали по затылкам впереди сидящих ребят. Народ реагировал на удивление одинаково: сперва грозно и резво разворачивались, но после, разглядев сияющую физиономию Вано, тут же стирали с лиц всю злость. Одни укоризненно качали головами – вроде как осуждая баловство, другие радостно улыбались – типа, классный прикол, шуточка из клёвых. Я в миллионный раз позавидовал Вано – уже привычно, как завидуют старики своим любимым внукам. Попробуй я плюнуть жевышем в какого-нибудь Геныча, Жигу, Макса или Лешика, и последствием будет некролог в школьной стенгазете. Хотя и некролога никакого не будет. А будет как в той давней советских времен песне: «Отряд не заметил потери бойца и „Яблочко“ песню допел до конца…» Вот и допоют преспокойно – до самого выпускного класса…
Я молча порадовался, что музыки, которой нас мучили в прошлом году, больше не стало. Ее не любили даже больше, чем уроки ИЗО. И там, и тут, мне чудилось, что над нами открыто издеваются. Даже Валька Мотылева, которая серьезно занималась игрой на скрипке и уже участвовала в куче всевозможных концертов, при случае сбегала с музыки, как и все мы. Да и любовь к рисованию, по-моему, отбили практически у всех. Я даже как-то подумал, что, может, это намеренно делали – чтобы мы не увлекались уличным граффити, чтобы на партах не рисовали, на обложках учебников? Должна же быть хоть какая-то разумная причина?
В общем, все протекало привычно – перемены, какие-то дежурные объявления, само собой, и обед в гомонящей столовке, где традиционно учащимся втюхивали тендерный фастфуд. Кто-то покорно глотал и первое, и второе, кто-то ограничивался компотом, кого-то из малышей, конечно же, снова тошнило. К школьный пище им, молодым, еще следовало привыкнуть…
На географии все дружно зевали, на русском поочередно скребли ручками в затылках и тетрадях. Очередной диктант в очередной раз подтвердил, что русского языка я, по всей видимости, не знаю. Давно и безнадежно запутавшись в правилах, я писал удивительно безграмотно. Мне удавались сочинения, я их слышал. И потому точно знал, где какие знаки препинания ставить, как именно писать сложные слова. Если шел диктант или вызывали к доске для какого-либо разбора, начиналась форменная мука. Был даже эпизод, когда я чуть было не разрыдался. Прямо на уроке. Потому что Эльвира Семеновна, наша русичка, тыкала мне в лицо моим же свеженьким сочинением и надсадно вопрошала: