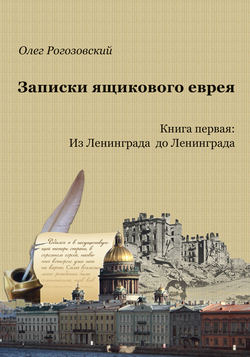Читать книгу Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда - Олег Рогозовский - Страница 12
Записки ящикового еврея
Книга первая:
Из Ленинграда до Ленинграда
Квартира деда
ОглавлениеНу что же, люди как люди…
Квартирный вопрос только испортил их…
М. Булгаков
В полшестого утра раздается дикий скрежет где-то недалеко. Потом тихо. Затем снова скрежет. Уже не спишь. В окно видны крупные листья невиданных прежде деревьев (каштанов) и чувствуются незнакомые весенние запахи. Где я? Ах, уже в Киеве. Скрежет – это трамваи на крутом подъеме поворачивают с улицы Кузнечной (Горького) на улицу Саксаганского. Через два дня я уже привык и трамваев не слышал. Но ко всему остальному привыкнуть было непросто.
Вместо спокойных северян вокруг были южные и, казалось, какие-то дикие люди. Во-первых, они были почти все черные (смуглые брюнеты), с черными глазами и большими носами. Во-вторых, они все время кричали, нет, не кричали, орали. В-третьих…, но о третьих потом.
Почти сразу оказалось, что ор – это нормальный способ дискуссий, возникающих по любому поводу, и называется он простым словом гвалт. Как правило, гвалт возникал на кухне или в коридоре, но бывало, что и в комнате.
Жили мы в большой комнате пятикомнатной квартиры, которую дед в конце НЭПа купил в доходном доме по улице Саксаганского, 31. Дом был построен из знаменитого киевского желтого кирпича в 1901 году. Судя по планировке квартир, дом предназначался для малосемейных людей свободных профессий – врачей, адвокатов, предпринимателей средней руки.
План квартиры деда на ул. Саксаганского 31
Саксаганского 31. Квартира деда – левая половина бельэтажа
Из прихожей вы попадали в гостиную (или приемную залу), а оттуда уже в кабинет. После приема из кабинета выходили сразу в прихожую, не встречаясь с теми, кто ждал в приемной. Из гостиной двери вели в спальню и столовую.
Путь в туалет из детской или кабинета был сложным – приходилось идти через прихожую и гостиную. Из столовой прямо в коридор перед туалетом вела вторая дверь.
Мебель в квартиру покупалась у итальянского консула вместе с роялем. После войны вспоминали огромный кожаный диван с зеркалами и книжными полками, якобы увезенный немцами. Приближался конец НЭПа[27]. Дома свои дед продал, а извоз «скончался» еще раньше. Но долго наслаждаться покоем и уютом квартиры не пришлось.
Началось принудительное уплотнение. Поначалу оно допускалось в щадящем режиме: можно было освободить одну квартиру или комнату и переселиться в другую – по договоренности. Так появилось в квартире семейство Бульбиных, занявшее столовую. Они въезжали с условием, что будут пользоваться только черным ходом. Кто жил в детской, мне неизвестно, возможно папа, а раньше тетя Боня, которая, по видимому, раньше покинула родительский дом. Боня хотела учиться и не где-нибудь, а в КПИ. Для этого нужно было избавиться от отметки о происхождении («из купцов» или «из мещан» в Киеве для поступления в институт не годилось). Подавляющее большинство евреев в царской России были мещанами. Крестьянами евреи быть не могли, так как им запрещалось владеть землей в сельской местности. Про еврейских рабочих и БУНД[28] писать не буду. Некоторые пробивались в купцы, все большее количество, в связи с Хаскалой – еврейским Просвещением – становились почетными гражданами (для этого нужно было кончить университет), считанные единицы (как правило, в связи с достижением определенного чина) – дворянами, личными или даже потомственными. У одного из моих соучеников, Бори Дербаремдикера, дед был статским советником. Если действительным статским (генералом), то Боря стал бы дворянином. Высокие должности часто были сопряжены с отказом от еврейства. Борин дед не отказался, но после революции в число «угнетенных» из-за высокого чина не попал, и его сын с женой – Борины родители – большую часть жизни прожили в Магадане.
Для того, чтобы поступить в институт без рабочего стажа, нужно было официально, через газету, отказаться от родителей. По такому пути пошел Абрам Айзенберг. Думаю, что его родители не возражали. Абрам учился не только в КПИ, но и в консерватории. Бабушке Вере он приходился племянником. Так как фамилия у него была другая, то он стал еще одним жильцом квартиры, с резиденцией в бывшей спальне. Туда же, по легенде, переехал из гостиной кабинетный блютнеровский рояль[29], на котором никто из Рогозовских не играл. Но сам рояль и Абрам еще сыграют роль в квартирной истории.
У прадеда Ноя (Ноеха), переселившегося из Игнатовки на Шулявку, был собственный двухэтажный дом с садом. Дом-то был собственный, но его построили на земле, принадлежавшей городу, что снижало его ценность. Дом я еще успел увидеть, он находился в районе Керосинной улицы, недалеко от п/я 2 – завода автоматики им. Петровского. Дед Ефим (Хайм), как и старший брат Бенцион, жили поблизости, на Шулявке. Дед держал извоз и торговал сеном. Биндюжниками были крестьяне из соседних сел, там же покупалось сено. Ареал торговых связей простирался до Макарова и дальше – нянька папы Кирилловна была из села Грузьске Макаровского района. Где-то в этих местах дед спасался и во время крутых перемен власти – «белые приходют – грабют, красные приходют – грабют». Страшнее всех были сичевики и петлюровцы – те и грабили, и убивали. А сено и кони требовались всем.
Порядок был только во время немецкой оккупации 1918 года. Ленин бестрепетно отдал Украину немцам (а потом, в поисках признания, половину Армении с Араратом и озером Ван – Турции) – лишь бы удержаться у власти и получить «международное» (турецкое) признание. Кстати, Украину Ленин «отдал» немцам еще летом 1917 года. Недавно появились сведения, что «Ленин в разливе»[30] был только в анекдоте, а на самом деле после расстрела июльской демонстрации 1917 года он уезжал в Швейцарию, в которую можно было попасть только через Германию. Там он за поддержку революции немецким Генштабом деньгами и ресурсами на многое согласился, в том числе на сдачу им Украины.
Киевлянам в целом, а евреям в особенности, при немцах (тех немцах) жилось хорошо. Одним из немецких нововведений стал пляж. Раньше общедоступного пляжа в Киеве не было. Состоятельные горожане пользовались купальнями на правом, обрывистом и каменистом берегу Днепра. Немцы поставили на левом, где был золотой песок, грибки от солнца и кабинки для переодевания. С тех пор там киевляне и купались. Правда, для этого нужно было переплыть на «лапте»[31] на другой берег, но это окупалось тем удовольствием, которое могло продолжаться (особенно в выходные) целый день.
Был порядок, нормальные отношения, евреев не трогали. Более того, в связи с тем, что у идиша немецкие корни, евреев легче было понимать, а так как немцы еще и деньги за покупаемые товары платили, то это была лучшая из всех властей (Булгаков их насчитал четырнадцать).
Этим в немалой степени объясняется и трагедия Бабьего Яра. Евреев нелегко было убедить, что немцы уже другие. Старшее поколение помнило их вежливое обращение и то, как они железной рукой пресекали всякие непорядки (воровство, грабежи, забастовки).
А что такое Сталин и борьба за построение социализма в одной, отдельно взятой стране, многие из евреев испытали на себе. Коснулось это и моих родственников, что связано с послереволюционной и посленэповской экспроприацииями.
Мужа моей двоюродной бабушки Хаи – Пиронера – расстреляли в 1918 году красногвардейцы. Пришли вечером, когда семья обедала. Потребовали сдать все ценности и деньги. Вместо этого он, особенно не тревожась, предъявил справку, что ценности уже изъяты. Справка и обед с салфетками и столовыми приборами очень не понравились проверяющим. Его забрали и хлопнули за углом, только позже сообразив, что может и отвечать придется. Не пришлось. Власть тут же переменилась. При каждой смене власти можно было ожидать подобного.
Наконец, после ухода поляков, власть установилась окончательно. А потом начался НЭП.
Как и при всякой перемене правил, евреи приспособились первыми. И те, кто раньше мечтал стать купцами, стали нэпманами. Лозунг Бухарина[32] «обогащайтесь», адресованный крестьянам, они приняли близко к сердцу. Напомню, что в это время быть евреем стало выгодно (угнетенная нация, значит, союзник пролетариата). Мать писателя Юрия Нагибина, столбовая дворянка, спасая вынашиваемого сына и себя, вышла замуж, по совету обреченного любимого, за их общего друга – еврея[33]. Отец Юрия, дворянин, готовил в это время тамбовский мятеж. Нагибин долго считал себя евреем и вел себя из-за раздвоенности личности как русский пьяница, хулиган и бабник.
За антисемитизм наказывали, в том числе и в уголовном порядке[34].
Характерным являлся и следующий случай. Братья Шифрины[35] (ставшие известными учеными) поступили в ленинградские институты, хорошо сдав все экзамены. Их старший брат учился мало (и неохотно), но все экзамены, кроме русского, сдал. Резолюция академика Орбели[36]: «Принять, как представителя угнетенной нации, не имевшего возможности получить правильное образование».
Перед войной лафа для евреев кончилась. Нужно было дружить с Гитлером, да и Сталин, наконец, осознал, что может не скрывать своей юдофобии. Во время войны «они» (евреи), конечно, были полезны, но уже с конца
42-го года включились мощные антисемитские фильтры. Сказалось это и в награждениях, и в чистке руководящих работников культуры (об этом написал кинорежиссер Михаил Ромм[37] в «Устных рассказах»), а потом, с 43-го года и в промышленности, даже оборонной, когда директоров-евреев, ставших уже Героями и генералами, стали смещать со своих постов. О том, что награжденных на войне евреев было гораздо меньше, чем поданых на награждения рапортов, широко известно. И чем выше были ордена, тем усерднее их фамилии вычеркивали.
Вернемся в нэповский Киев. Дед был успешным предпринимателем, но, видимо, знал и золотое правило бизнеса: главное – это вовремя смыться. Он освободился от дома на Шулявке, извоза, приобретенного к тому времени большого дома на Батыевой Горе. Купил квартиру на Саксаганского. И стал работать в знаменитой фирме ТЭЖЭ[38]. Надеялся, что избежит многих разочарований, постигших тех, кто верил, что НЭП – это надолго и всерьез.
Большого богатства дед не нажил ни до революции, ни во время НЭПа. Судя по всему, он особенно к нему и не стремился. К достатку – да, семья и родственники, которым он всегда помогал, должны жить хорошо. Зато деда все уважали; он являлся третейским судьей. Евреи, как известно, избегали решать гражданские дела в суде. Третейский суд был очень важным органом регулирования их жизни. Избирались в судьи достойные люди, которым доверялись не только состояния, но иногда и жизни.
Так как к состоятельным людям или к тем, кого подозревали в этом, интерес органов и не только финансовых, время от времени возобновлялся с новой силой, то и в квартиру на Саксаганского нередко захаживали проверяющие. Делалось это, как правило, по наводке «благожелателей», добрых знакомых или обиженных родственников. В одну из таких проверок оказалось, что все вроде бы в порядке, в квартире произведено уплотнение, ценных вещей и драгоценностей не обнаружено. Баба Вера держалась уверенно и независимо. Проверяющие уже уходили, когда в дверях возник Абрам Айзенберг. Увидев выходящих, он обеспокоился: «тетя Вера, они тебе ничего не сделали?»
«Ах, это оказывается ваша тетя? А Вы – жилец Айзенберг? Пройдемте в вашу комнату, а то она была заперта». Прошли, проверили. Ничего не нашли. Заметили, что студент не отходит от рояля. Его отодвинули, рояль открыли, проверили – пусто. Потом со знанием дела постучали по ножкам рояля и стали их отвинчивать… Там оказались золотые николаевские десятки. Много. Как раз незадолго до этого деду удалось продать дом на Батыевой горе.
Несмотря на отказ от отца для поступления в институт и членство в комсомоле, Айзенберг вряд ли имел какой-то умысел. Но и баба Вера, и тетя Рая и даже Рена, которая знала эту историю только в пересказе, не простили ее Абраму. Никогда. Дело в том, что он всегда называл бабушку Верой или даже Веркой. А тут назвал ее тетей…
Не знаю точно, когда, но дед и баба Вера арестовывались, из них выколачивали признания о наличии скрываемых ценностей. Тут можно вспомнить «успешную» работу братьев Броневых, один из которых был папой, а другой дядей известного артиста. Дядя лично выбивал из одного нашего дальнего родственника сдачу ценностей – и выбил, но потом, насколько я понимаю, сквозь пальцы смотрел на дальнейшее (уже незаконное) их наращивание. Изымаемое у нэпманов было нажито по закону, а изымалось – идя навстречу пожеланиям трудящихся (на самом деле не привыкших трудиться большевиков – вспомните сцену ухода с работы кавалериста, которого играл Сергей Шакуров в фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих»). Успеху дяди Броневого способствовало его знакомство с еврейской средой, хорошими информаторами и некоей зловещей обаятельностью, которую потом артист Броневой отобразил в образе Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» – для него прототипом Мюллера в поведенческом аспекте был дядя.
Пытать при допросах только учились. Пугали. Били. Кормили селедкой и не давали пить. Подогревали в жару. Сажали на ведро[39].
Дед сломался на допросе, когда мимо него провели бабушку в соседнюю комнату и оттуда раздался женский крик. Дед признался. Его выпустили, а бабу Веру даже не арестовывали. Кричала другая женщина. Бесстрашная бабушка его потом ругала – «да что они могли со мной сделать? Они и так не знали, куда меня деть – я им спуску не давала – они же все байстрюки и не имеют понятия как себя вести!».
После относительно благополучных времен остались дед с бабой Верой без денег, но в своей квартире, от которой после уплотнений осталось три, а потом и две комнаты. Тетя Рая жила в «кабинете», который своей роли никогда не исполнял. Сначала с сестрой Боней, затем с мужем, потом с дочкой Реной. Рая была любимицей деда и красавицей в левантийском стиле. Впервые я прочитал, что под этим подразумевается, в дореволюционной книге «Мужчина и женщина» – большие глаза, большой нос, большой вес и приводилось фото. Тетя Рая была красивее. Она тогда была тоненькой, у нее были прекрасные густые волосы, а нос не выделялся. Моя жена Нина, увидевшая тетю Раю, когда той было 55 лет, считала ее красивой без дополнительных прилагательных.
Тетя Рая около 1928 г.
Красивой женщине из состоятельной семьи напрягаться для жизненного успеха (под которым все еще понималось удачное замужество) нужно меньше, особенно, когда науки не вдохновляют. Говорят, что она некоторое время училась в Фундуклеевской гимназии, куда ее возили в семейном кабриолете. Вряд ли это могло продолжаться долго. Приготовительный класс посещали с девяти лет, а в декабре 1918, с уходом немцев, в Киев вошли петлюровцы, и такие поездки стали небезопасными.
После всех послереволюционных пертурбаций положение семьи с окончанием НЭПа переменилось, но перестроиться тетя Рая не успела. Она пользовалась успехом у молодых мужчин, не очень занятых производительной деятельностью. Одним из них был Даниил Львович Шинкарь (Шенкер). Он был из известной разветвленной семьи, которая имела возможность до революции обучать своих детей в Берлине профессиям врачей и адвокатов, а в Вене музыке и искусствам. Они могли жить заграницей подолгу.
Даниил ни в Берлине, ни в Вене не учился, но в Киеве вел жизнь вольготную. Тимофеев-Ресовский[40] вспоминает, что Киев до революции (думаю, и во время НЭПа, О.Р.) больше, чем другие города России напоминал европейский город – с выставленными на улицу столиками кафе, каштанами, хорошо одетыми и красивыми барышнями, всей легкой атмосферой – идеология оставалась в столице (Харькове).
Даниил был щеголем, на одиннадцать лет старше девятнадцатилетней Раи. Она в него влюбилась. Семья восторгов от будущего зятя не испытывала. Прежде всего, потому, что Рая уже была невестой его дяди по отцу, не намного старше Даниила, но успевшего получить медицинское образование в Берлине, успешного врача, принятого в семье. А Даниил после гимназии занялся установлением Советской власти где-то в Средней Азии и в Крыму. Не прибавила ему популярности и «сдача» родственников, выезжавших в Вену с богатым багажом, имевшая тяжелые для них последствия. Через много лет, когда оказался властям не нужен, вернулся в Киев. Его устроили на строительство знаменитого Дома НКВД (позже Совета Министров), спроектированного московским архитектором И.А.Фоминым.
Совет Министров собирались построить напротив здания ЦК (теперь МИДа), симметрично ему, для этого даже взорвали Златоверхий Михайловский собор. Потом собирались снести «Присутственные места»[41], под вопросом был и снос Софии. Ревнителя русской старины Грабаря заставили согласовать этот проект. Но потом стройка остановилась – не хватало времени и денег, да и жилье для переезжавших в новую столицу из Харькова партийных чиновников нужно было срочно строить (кварталы серых домов на Институтской с милиционерами в подъездах).
Рая познакомилась с Даниилом на проводах дяди, уезжавшего в командировку и, несмотря на неодобрение родителей, быстро вышла за него замуж.
Увы, надежды Раи на красивую жизнь не оправдались. Ей пришлось кончать бухгалтерские курсы и поддерживать семью. В 1936 году, когда казалось, что после неудачной операции и восьми лет брака детей у нее уже не будет, родилась дочь Ирэн – Рена. В 1938 году Даниила посадили – за растрату. Если бы за политику, то это могло быть и десять лет «без права переписки»[42], а так, «для социально близких» – всего пять лет. Во всяком случае, он после освобождения был уже непризывного возраста и, будучи все-таки призван в армию, скорее всего на фронт не попал. А его дядя прошел всю войну врачом; после войны работал в Киеве и даже имел частную практику.
Боня, после непростого выселения Абрама Айзенберга, жила, скорее всего, в спальне. Она была самой умной из детей и тянулась к знаниям больше, чем остальные. Для того, чтобы иметь возможность учиться, пошла работать. Работа должна была быть грязной и тяжелой, иначе рабочий стаж получить было трудно. Правда, в конце трудовой деятельности она уже выполняла работу чертежницы, а кем при этом числилась, не знаю. После получения рабочего стажа Боня поступила на рабфак Киевского Политехнического, а затем и на престижный механический факультет. Получила диплом инженера механика-конструктора. Но профессиональные перспективы не оправдались. Пришло время строить семью.
Ее избранником стал выпускник автотракторного факультета Сельскохозяйственной академии Симон Ковлер. Отец у него был портным, и жили они неплохо – с домработницей, в хорошей квартире в центре города, со стильной мебелью. Поступить в Сельхозакадемию (тогда Сельхозинститут) было проще, чем в Политехнический, из которого он образовался. Но обойтись без рабфака не удалось.
Сеня учился хорошо и мог рассчитывать на аспирантуру. Но вскоре после начала трудовой деятельности его послали на работу во Владивосток, в район Второй речки, где находились известные лагеря (там погиб Осип Мандельштам), промзона и много автотранспорта, которому приходилось работать в условиях бездорожья. Усиленными темпами воссоздавался Тихоокеанский флот. Симон, которого все уже называли Сеней, на работе отличился и вскоре стал заведующим отделом управления Тихоокеанского флота по эксплуатации транспорта.
Боня последовала за мужем, но настоящей работы по специальности не было – все конструировалось на Большой Земле. Жили, естественно, в бараке. Боня очень скучала по цивилизации и решила вернуться в Киев. Сене работа нравилась, но он с женой расставаться не хотел, и воспользовался одной из редких возможностей (да еще перед ожидаемой войной с японцами) уволиться с Тихоокеанского флота. Сеня был вольнонаемным, а в тридцатых годах льготы для научных работников были большими[43], и он по конкурсу стал старшим научным сотрудником киевской Сельхозакадемии.
Кстати, в Сельхозакадемии преподавал единственный, добившийся успехов на научном поприще родственник, профессор. Ну, вот его-то, как выдающегося и «постригли» – в 1937 он сгинул как троцкист. О нем не упоминали десятилетиями и ни его фамилии, ни степени родства я не запомнил.
После замужества Боня, скорее всего, жила с Сеней у родителей мужа на Пушкинской 39, или в детской комнате дедовой квартиры (Боня из квартиры не выписывалась). Папа жил с родителями в гостиной до двадцати лет, пока не уехал в Ленинград.
Говорили, что самый младший из детей – Абрам, мой папа, был любимцем своей мамы – бабушки Веры Абрамовны. Нежные посвящения ей на его фото я видел. Но знаю также, что папины второй и третий инфаркты были связаны с квартирой и письменными жалобами бабушки в инстанции (думаю, не без влияния тети Раи) на «ненадлежащее содержание». Бабушка, видимо, считала, что вся квартира все еще ее. И сын тоже принадлежит ей, а не пришлой «белогвардейской» дочке. Детей Абрама и Бони она настоящими внуками не считала. Ее внучкой была Рена; ради нее она была готова на многое.
Синдром бывшего благополучия хорошо описан в книге Алексея Симонова «Парень из Сивцева Вражка». Его бабушка, бывшая княжна Оболенская, требовала от своего сына, поэта и сталинского любимца Константина Симонова, создания условий, намного лучших, чем позволял ее и ее мужа (отчима поэта) социальный статус. Обосновывала она это так. «Я родилась и выросла в условиях, когда (до замужества – О.Р.) даже сама не раздевалась. В детстве и юности твоим комфортом были моя забота и любовь. Мне хочется, и я честно на это имею право, пожить так, как живет мой сын, которого я вырастила».
У бабушки Веры запросы были скромнее, но и она считала, что гостиная, которую для нас, как для семьи офицера-фронтовика, с большими трудностями освободили от жившей там семьи – принадлежит ей, и она пустила нас туда временно жить. Ордер все-таки выписали на папу. А бабушка, хотя была прописана в комнате тети Раи, спала у нас, отгородив свою кровать с никелированными шариками старой ширмой.
После войны в 1946 году мы приехали в Киев втроем, но скоро к нам присоединилась буба, так как мама в мае 1947 года родила Таню.
Речи о том, чтобы бабушка Вера помогала с младенцем, даже и не возникало.
Она была деловой женщиной и в молодости много занималась лавкой.
Однажды, когда маленький Абрам держал ее за пуговицу пальто и не хотел отпускать, она оторвала пуговицу, оставив ее в руках сына, а сама ушла по делам. Заниматься делами ей не было необходимости, но она это делала по призванию. Говорили, даже хотела накопить денег и открыть собственное дело, или стать гильдейской купчихой.
Папа вел жизнь обыкновенного еврейского мальчика. Ходил в хедер. Учил Тору, естественно, на древнееврейском. Бегал среди биндюжников и их лошадей. Любящий отец подарил ему жеребенка, но тот не признавал фамильярностей и лягнул папу в лоб. И чуть не убил. С тех пор у папы на лбу был бандитский шрам. После войны он смотрелся как одно из ранений и расспросов не вызывал. В начале двадцатых началась учеба папы в трудовой школе. После ее окончания нужно было приобретать надежную и полезную профессию, и папа поступил в строительный техникум.
Многие его друзья оттуда. Преподавателей папа тоже помнил, особенно математика, который ставил двойки за простые описки, приводившие к неправильному результату. «Тому, на кого упал потолок в построенном вами доме, все равно из-за чего он упал – из-за описки, или из-за того, что вы не понимаете тонкостей стереометрии». Преподавателем он был, как говорится, от бога, и у него были ученики, ставшие известными учеными. Среди них, например, специалист по динамике ракет Илья Раппопорт и знаток прочности бетонных конструкций Юзик Улицкий (по его книге через двадцать лет училась сестра Оля). Близким к папе был Гриша Стрельцесс – ведущий инженер в «Теплопроекте».
Дед Ефим Наумович и папа около 1921
Уже в техникуме ребята начинали работать и после его окончания неплохо зарабатывали. Во всяком случае, они ходили в театры и рестораны. Одна из историй тех лет связана с желанием жениться одного из приятелей. Девушка была малознакомой, и друзья посоветовали ее проверить. Обычно в опере они сидели в партере или в ложах бенуар. В очередное посещение оперы «жених», помахав друзьям рукой, повел ее по лестнице выше. «Ах, мы будем в бельэтаже? – Как интересно». Пошли выше. «Идем в первый ярус? Оттуда, наверное, хорошо видно всю сцену?». Еще выше: «Ты что, не мог достать приличный билет?». Когда миновали и второй ярус, она, возмущенная, повернулась и убежала в слезах. У кавалера были билеты в партер, куда он собирался спуститься после первого акта. Вопрос о женитьбе был снят. Все знали, что жизнь в любой момент может измениться, и не в лучшую сторону.
Что подвигло папу уехать учиться в Ленинград, не знаю. Может быть, бóльшие возможности для поступления в Ленинграде, может быть, потому, что строительству дорог и мостов в Киеве не учили.
Простимся с Киевом на несколько лет и поедем в …
27
НЭП – новая экономическая политика, разрешавшая, среди прочего, частную торговлю и предпринимательство. В нарушение прежних партийных постановлений, прекращена Сталиным в конце двадцатых годов.
28
БУНД – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, Бунд на идише – «союз».
29
…блютнеровский рояль. Юлиус Блютнер (1824–1910) – основатель старейшей немецкой фортепианной мануфактуры, существующей до сих пор.
30
«Ленин в разливе» – после неудавшейся попытки захвата власти большевиками 34 июля 1917 года в Петрограде Временное Правительство издало приказ об аресте более 40 большевиков. По легенде Ленин с Зиновьевым скрывался на берегах озера Разлив. Говорили, что к 100-летию Ленина советская промышленность выпустила коньяк «Ленин в разливе», мыло «По ленинским местам», одеколон «Запах Ильича», трехспальную кровать «Ленин всегда с тобой» и презервативы «Наденька» (так Ленин называл свою жену Надежду Крупскую).
31
Небольшая самоходная открытая баржа или большой баркас.
32
Бухарин Ник. Ив. (1888–1938) сов. партийный и гос. деятель, идеолог партии, выступал за льготы для крестьян, против свертывания НЭПа, форсирования коллективизации.
33
Ю. Нагибин. «Свет в конце туннеля»
34
Рабинович, что вы здесь делаете?
– Трамвай подъевреиваю.
– Почему не сказать поджидаю?
– Потому что однажды я уже обозвал жадного Певзнера жидом, так он упек меня на три года.
35
Братья Шифрины…. Яков Соломонович, д.т.н., профессор, инж. полковник, нач. кафедры ХИРА (Харьковской инженерной радиотехнической академии);
Кусиель Соломонович, д. фм. н, профессор, создатель научной школы оптики атмосферы и океана, с 1992 г. в Орегонском университете.
36
Орбели Иосиф Абгарович, директор Эрмитажа, в то время глава комиссии по высшему образованию Ленинграда.
37
Михаил Ромм, советский кинорежиссер, создатель фильмов «Ленин в Октябре» (в котором он придумал и снял штурм Зимнего, которого на самом деле не было), «Ленин в 1918 году», «Девять дней одного года» и др. Лауреат пяти Сталинских премий.
38
ТЭЖЭ, ТэЖэ, ТЖ – Трест Жиркость – монополист выпуска и продажи мыла, а потом и парфюмерных изделий в Москве и на юге. В Ленинграде был свой трест ЛЕНЖЕНТ. Тресты выпускали мыло, кремы, пудру, духи.
Еще от родителей я слышал куплет: «И на губах ТЭЖЭ, и на глазах ТЭЖЭ, и на щеках ТЭЖЭ, а целовать где же?»
39
Сажали на ведро – один из видов пытки, в результате которой у жертвы выпадал кишечник.
40
Тимофеев-Ресовский – выдающийся ученый-биолог, уцелевший при Гитлере, но репрессированный при Сталине. Его почти мертвого вынули из лагеря, благодаря его работам по оценке влияния радиации на живые организмы, которые он вел в Берлине. Они пригодились при разработке нашей атомной бомбы.
41
Присутственные места – до революции судебное и полицейское управление. После революции – суд и МВД.
42
«десять лет без права переписки» – часто, но не всегда, эвфемизм расстрела.
43
Избранный по конкурсу на научную должность освобождался от любой, в том числе ответственной работы, а аспирант очного обучения имел право на 30 метровую отдельную комнату.