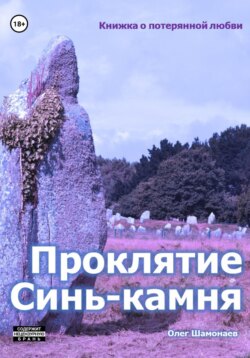Читать книгу Проклятие Синь-камня: книжка о потерянной любви - Олег Шамонаев - Страница 8
Часть первая
Глава шестая. Полюшка
ОглавлениеДекабря 4 дня 1726 года, село Блиновка Пензенского уезда Казанской губернии
Преимущество зимней дороги в том, что не надо искать броды, паромы, мосты. Не надо платить за них. Как только реки вставали, тракт существенно спрямлялся. А ещё мороз со снегом избавляли от луж и рытвин. Зимой у пешего было больше шансов подсесть к кому-то в качестве попутчика. Извозчики понимали, чем путнику грозит ночёвка под открытым небом, и сильно добрели. Хотя, конечно, не все. Но трудностей во время перемещений по заиндевелой стране всё равно хватало. Короткий световой день, непогода… Но Мартин, глупый и не знавший жизни мальчишка, преград не боялся.
Геля ссудила ему в дорогу немного денег и как-то нехорошо покосилась. Наверное, что-то знала о бесстыжих посиделках. Деньги требовались для того, чтобы пересечь границу между губерниями. На каждой большой дороге стояли заставы, бравшие плату не только за проезд, но и за проход. Вообще-то, солдатам и казакам в кордонах приказывали извести лесных воров. А также проверять, нет ли при обозах контрабанды, а среди шественников – беглых людей. Но пока в столицах делили наследство покойного емператора, на местах действовали свои законы, зависевшие только от жадности и трусливости мздоимцев.
Когда Мартин дотопал до границы губернии, выяснилось, что плата за пропуск с недавних пор выросла, и денег ему не хватает. Причём кордонщики были не дураки, и расположились так, чтобы усложнить жизнь желающим обойти их другими дорогами и лесами. На солдат, занимавшихся поборами, юноша зла не держал. В конце концов, какая разница кто тебя грабит – разбойники или осударевы люди. Всем нужно как-то жить. Но возвращаться домой ни с чем очень не хотелось. Мартин только начал открывать для себя большой взрослый мир, и этот мир приятно мозолил все органы чувств.
В задумчивости Мартин вернулся на ближайший хутор, и там выяснилось, что он – не единственная жертва новых проездных поборов. На хуторе куковали с десяток мужиков и парней, не имевших денег на продолжение пути. Все они пытались договориться с купцом, направлявшим свой товар на санном обозе в нужную сторону. Торговец был дородным дядькой, постоянно снимавшим огромную шапку и обтиравшим лысину. Кипучий ум не давал ей остыть.
– Полгривенника с носа, меньше не приму, – кричал купец.
– Чего же так не по-божески, – обижались мужики.
– По-божески тебе на паперти подадут. А здесь солдаты по гривеннику берут. И если что, меня – на расправу, – лысина огорчённо сверкнула, подымилась на морозе, и снова исчезла под шапкой.
Полгривенника действительно были большими деньгами, за них батраку надо было трудиться день или два (или год, если руки не из того места). Но торгаш не желал рисковать задёшево, и упирался до последнего. Сошлись на трёх копейках, и Мартин присоединился к этой авантюрной затее. В крайне случае – солдаты накостыляют ему по шее. Более серьёзных последствий неопытный путник не ждал.
План состоял в том, чтобы завалить мужиков мешками с купеческим барахлом и надеяться, что солдатам станет лень разбирать поклажу на кордоне. В санях Мартин долго лежал и мёрз, ничегошеньки не видя, и чувствуя лишь ровное движение. Обоз остановился, заскрипел снег. Мешок, под которым лежал юноша, чуть приподнялся. В образовавшемся проёме показалось усатое лицо. А далее – на том же месте очутился карман. Мартин порылся за пазухой и бросил солдату последнюю оставшуюся у него монету. Усищи вернулись, лицо скорчило невольную гримасу, но ничего не сказало. Вскоре проём снова завалили, и движение возобновилось.
Когда Мартина откопали, у него уже не попадал зуб на зуб. Юноша схватил суму и двинул было своей дорогой. Но дородный купец поманил его к себе. По наивности юноша думал, что сейчас ему вернут копеечку, исчезнувшую в солдатском кармане. Но как бы ни так. После ритуального промокания лысины, купец велел называть его Юдой Трофимовым, придирчиво осмотрел юношу и принялся задавать бесконечные вопросы:
– Любезный, у тебя очень знакомое лицо. Признавайся, где я тебя раньше видел?
– Уважаемый, я из своего села раньше никогда не выезжал. Если вы когда-нибудь были на ярмарке в Преображенском, могли меня там приметить. А больше – негде.
– Значит, Преображенское, – на лице торговца отобразилось такое глубокое раздумье, что он даже престал беспокоиться о своей лысине. – А это же село солотчинской братии, ведь так?
– Так точно, – Мартин так закоченел в санях, что больше стоять на морозе был не в силах. – Только можно я уже пойду. Холод просто ужасный!
– Давай пройдёмся, я тоже замёрз, – Юда Трофимов схватил юношу под руку и повёл к началу обоза.
На тракте было солнечно и ветрено. Санный след заметала позёмка. Сосны бомбардировали сугробы иголками. Стаю вермирей сдуло с ветвей. Стволы от вихря закрутились в спираль.
Купец снова полез к своей протирке, но потом передумал, и в волнении нахлобучил шапку обратно:
– Видишь ли, мальчик, я, кажется, знал твоего отца. Тебе сколько лет? Пятнадцать? Шестнадцать?
– Я сирота. А отца никогда не видел, – проигнорировал Мартин вопрос о возрасте.
– Но это не значит, что у тебя его не было, – продолжал беспокоиться купец. – Твоё лицо – просто копия отцовского. И эти солотчинские вотчины… Вы до Преображенского ведь жили в Зарайском уезде, правильно?
– Можете просто сказать, кем был мой отец, и откуда вы его знали? – юноше начал надоедать допрос. – Хотя, скорее всего, вы ошибаетесь насчёт меня. Мало ли на свете похожих людей.
– Да у тебя и характер как у него, – ещё сильнее обрадовался Юда. – Скажи, любезный, а ты никогда не замечал за собой каких-нибудь странностей или особых способностей?
– Господин купец, я простой крестьянский парень, и не понимаю, о каких странностях вы говорите, – Мартин испугался, и решил ни за что не открываться первому встречному. – Мы люди тёмные, и нам странности не положены.
– А зовут то тебя как? Это ты хотя бы можешь сказать?
– Мартин, помощник кузнеца Назара Микифорова.
– Значит, Мартин из Преображенского, – купец никак не мог собраться с мыслями. – Видишь ли… Твоего отца звали Иевом. И он по-своему был великим человеком… Ты обязательно должен поехать со мной в Зарайск, и там много узнаешь о своей семье.
– У меня есть семья? Но как я поеду? Я же монастырский крестьянин, и не в своей воле. Сейчас у меня подорожная в Блиновку. А потом – назад.
– Это не беда. Я тебя обязательно выкуплю, – в голове у купца начал созревать план, а лысина перестала дымиться. – Сейчас я в Пензу, потом вернусь – и к архимандриту Софонию, мы давно знакомы. Если всё получится, к весне ты сможешь получить вольную, и съехать из своего Преображенского.
– Я пока не понимаю, что за судьбу вы мне предлагаете, – голова юноши закружилась. – Но очень хочу узнать об отце.
Остаток дороги Мартин провёл в купеческом обозе. Юда ни о чём не рассказывал до конца, темнил, и втягивал юношу в какие-то козни. Но в целом он оказался не таким уж плохим человеком. Довёз до Каменки, откуда было рукой подать до цели мартинова паломничества. Один и на таком морозе молодой глупый крестьянин точно отдал бы Богу душу где-нибудь в лесу на обочине. При расставании купец вручил новому знакомцу денег на обратный путь. И обругал парня за то, что тот не хотел брать «подачку».
– Ты теперь не просто Мартин, а Мартин Иевлев сын, и принадлежишь не только себе. Ведь на этой дороге нас свёл Господь, – Юда пробубнил короткую молитву и поёрзал шапкой о лысину. – Возвращайся в Преображенское и жди меня к весне, в крайнем случае – к лету. Да сохранит тебя Христос!
* * *
Места, в которые прибыл юноша, были сплошь застроены новыми деревнями. Десять лет назад здесь всё опустошил кубанский погром20. Местных угнали в рабство, и вызволять их оттуда никто не собирался. Вместо этого вотчинники покупали крепостных в соседних губерниях, и заселяли ими осиротевшие земли. Кое-где ещё торчали обугленные остовы, поросшие молодыми деревцами. Но в основном деревни щеголяли только что срубленными избами и бесшабашной неустроенностью крестьянского быта.
В Блиновку Мартин добрался уже в сумерках. Его встретили собачий хор и пустые улицы. Найти поповский двор оказалось несложно. Дорога утыкалась в церковь Александра Свирского, к которой была пристроена изба священника. Окна выходили на небольшую площадь, и юноша замолотил в ставни.
– Пошел вон, Тит, – заорали из дома.
– Отец Митрий, это не Тит. Это я, Мартин, – отвечал путник, но его не слышали.
– Вон – я сказал! Пьянь подзаборная, – бушевал хозяин. – Прокляну!
Парень начал сомневаться, не ошибся ли он двором. Но тут дверь приоткрылась, и из неё в голову гостя полетел огромный валенок. А за ним высунулась заспанная и помятая рыжая борода батюшки. Священник поднял свечу и присмотрелся к гостю.
– Мартин, это ты? Тебя не узнать, мальчик, – поп шагнул на крыльцо и обнял юношу.
Они проговорили до утра. Когда небо начало светлеть, Мартин остановился, и очень серьёзно обратился к собеседнику:
– Батюшка, а теперь я прошу, чтобы вы приняли у меня покаяние в храме.
– Ты что, Мартин. Это я виноват перед тобой, это мне надо каяться, – замахал руками отец Митрий.
– Нет, это моё твёрдое желание. Я обещал так поступить одному человеку, и не уйду без этого.
Они пошли в церковь, где священник надел стихарь с крестом, а также зажёг свечи. Запахло елеем и свежими досками. После этого поп прочёл символ веры: «Исповедую едино крещение во оставление грехов…». И Мартин рассказал о Синь-камне, смерти разбойника, исцелении Гели и шторме в крови. Об асиных проделках он говорить постеснялся.
– Грешен, каюсь и прошу отпустить мне грехи, отче, – завершил свой рассказ юноша, перекрестился и поцеловал крест. – А ещё дайте совет, как излечить моё тело и душу от обрушившейся на меня напасти.
– Прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, – священник перекрестил отрока и улыбнулся.
Казалось, батюшка ничуть не удивился тому, что в Мартине проявились чудесные способности.
– В излечении не вижу никакого смысла, – сказал поп. – То, что происходит с тобой – не наказание, а великий дар. Твоей вины в языческом жертвоприношении нет, а остальное – Божий промысел.
– А может быть так, что ваша легенда про Бера и Гада – правда. А Синь-камень – живой и охотится за человеческими душами? И поймал в свои сети мою?
– Я однажды уже говорил, что всё это – суеверия. Твоя душа определённо осталась при тебе. А вместе с ней человека определяют ещё вера и голова. Никакие древние силы не смогут повлиять твою судьбу, если этого не захотят Господь и ты сам. И ещё, слушая исповедь, я подумал, что моему гостю не помешает свести одно полезное знакомство. Мартин, ты знаешь что-нибудь о блаженных?
– В Преображенском вроде бы есть парочка юродивых. Вы, наверное, и сами их много раз видели.
– Нет, это не то, – отец Митрий скривился и по своей давней привычке облизнул губы. – Тут, в Блиновке, живёт одна местная святая, её зовут Полюшка. Тебе обязательно надо к ней заглянуть.
– Вы меня проводите? – с готовностью вскочил юноша.
– Я не могу. Видишь ли, епархия её не одобряет, – священник был явно огорчён данному обстоятельству. – Так что тебя отведёт к ней моя жена.
– Жена? – брови Мартина взлетели вверх.
– Говорю же: я виноват перед тобой, мальчик.
* * *
Когда-то Полюшка была простой крестьянкой. Но пришли кубанцы, сожгли дом, мужа и детей сделали ясырями, а её саму изнасиловали и бросили на погибель. Когда через несколько недель Пелагею нашли на пепелище, она была сильно не в себе. Долго нищенствовала и кормилась подаянием, а потом решила уйти в лес. Жителям Блиновки было жалко несчастную, они потихоньку носили ей еду, а потом выкопали землянку – для спасения от дождей и снегов. Тогда же у Полюшки обнаружилась тяга к целительству и предсказаниям.
Поток желающих получить её благословение рос, и это сильно не понравилось епископу. Женщину обвинили в ереси, и выписали приказ на её арест. Трое казаков, прибывших за Полюшкой, были уверены, что их отправили за ведьмой. Поэтому они притащили женщину в кузню, принудили кузнеца высыпать на железную плиту угли, и забавы ради начали гонять пленницу по жаркому металлу. Наблюдавшие за этим крестьяне рыдали навзрыд, а блаженная радовалась. На её ступнях не осталась ни одного ожога, а вот угли от прикосновений целительницы затухали.
Тогда мучители решил отлупить Полюшку хлыстами. Из одежды на ней была одна тонкая власяница, но женщина не кричала от боли. Больше того, на её теле не оставалось следов от ударов, а власяница не прорвалась. Тогда казаки поняли, что перед ними – святая, отпустили её обратно в лес, а сами – убрались. Епархия тоже решила оставить Полюшку в покое, но построила в Блиновке церковь – дабы верующие ходили туда, а не к еретичке. Но крестьяне отшельницу всё равно любили, и навещали её очень часто, прося об исцелении недуга или совета в сердечных делах21.
Нынешняя жизнь Полюшки очень походила на ту, что раньше вёл в лесу под Преображенским отец Митрий. Но была одна существенная разница – женщина жила в двух шагах от села – надо было только перейти небольшую речку. И там, среди деревьев меж двух холмов, располагалось убежище блаженной. Местные считали старушку святой, хотя о признании её церковными властями речи не шло. Да и скрюченной бабкой она являлась только на вид. Всего десять лет назад, до кубанского погрома, она была молодой женщиной.
Супруга батюшки оказалась очень привлекательной, но немой – с отцом Митрием она объяснялась жестами. Проведать Полюшку вместе ней и Мартином увязались ещё с десяток жителей села. Но блаженная такому нашествию не огорчилась. К каждому из паломников она подходила по очереди и просила рассказать о его радостях и горестях. Потом – быстро проговаривала молитву, накладывала знамение и брызгала на посетителя святой водой из глиняной кружки. И переходила к следующему.
Действия старушки казались очень незамысловатыми (но только казались). От неё исходили такая сила и такое сострадание, что больные выздоравливали от одного разговора. А те, кто искал душевной поддержки, отбрасывал горести и сомнения просто очутившись рядом с блаженной. Мартин боялся беседы с Полюшкой, ведь он явился к ней не от скорбной печали, а, в общем то, просто поглазеть. Из любопытства, рождённого рассказом отца Митрия. Но блаженная, подойдя к юноше, ничего не стала спрашивать, а просто склонила голову и тихо сказала:
– Благослови меня, мальчик. Тебя ждёт великая жизнь.
* * *
– По всей России сотни таких Полюшек, – рассказывал потом отец Митрий. – А в прошлом – вообще тьма тьмущая. Некоторым из них поклонялись даже цари, как Василию Московскому, а некоторых – объявили опасными безумцами и заковывали в цепи. Хотя они порой были умнее и смиреннее нас с тобой. Главное отличие блаженных от обычных людей – в том, что они умеют принять на себя чужие печали. Без них страну давно бы разорвало от злобы, корысти и похоти. На них держится и будет держаться наш русский мир. И мне кажется, что ты – один из таких.
Мартин сидел, пораженный этими словам. А отец Митрий полез в рундук, извлёк оттуда небольшую книгу. Это был тропарион22. Батюшка открыл его и прочёл вслух: «Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши. Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево»23.
– Прости, не могу дать тебе это с собой, – продолжал священник. – Все мои книги остались в скиту у вас, в Преображенском. Тут почти пусто. Как сойдёт снег – прогуляйся к землянке у ручья, может от лихих людей и мышей чего-то осталось. У меня там не только молитвенники, но и всякие знахарские книги. Думаю, они тебе тоже пригодятся.
– Прогуляюсь, – пообещал Мартин.
Юноша больше не был расположен болтать. Но, когда пришла пора расставаться и двигаться в обратный путь, он набрался смелости:
– Скажите, отче, как так получается? Вы служитель веры, но бывший вор. Вы знахарь, повелитель лесных зверей, но пособник убийц. Вы были отшельником, но дружили с половиной нашего села. Вы обвинялись в блуде, стали расстригой, но остались в клире. Вы учёный человек, но всё время от кого-то прячетесь в глуши. Кто же вы на самом деле, батюшка?
– Я твой ангел-хранитель, сынок.
20
Большой кубанский погром 1717 года – внезапный набег ногайской орды, кочевавшей районе реки Кубань, в русские регионы Среднего Поволжья. Был осуществлён при поддержке казаков-староверов, указавших степнякам слабости в засечных чертах. Около 40 тысяч ногайцев под предводительством султана Бахты-Гирея, почти не встретив сопротивления, вторглись в Пензенский, Верхнеломовский и Керенский уезды. Там они разорили множество сёл и деревень, угнав в рабство около 18 тысяч крестьян. Однако на обратном пути на орду напали донские казаки, в результате чего отряды Бахты-Гирея были рассеяны.
21
На основании Жития блаженной Пелагии Блиновской, опубликованного Пензенской епархией. Для любителей истории сообщаю, что настоящие годы жизни Пелагеи Клюевой – с 1797-го по 1889-й. Во времена этой «подвижницы благочестия», в 1874 году, «Пензенские епархиальные ведомости» писали: «Черничка Полинька, чтимая в народе за святую, просто обманщица. Если бы она искренне посвятила себя Богу, то должна была идти в монастырь… Старая дева – ханжа, присвоившая себе звание народной учительницы».
В тех же «Ведомостях» приводились фрагменты проповеди блаженной. Например, такой: «Чего мы ищем в миру? Чего мы найдём? Волненье одно. Как вода в море – волна за волной идёт, и волна волну пожирает. Так и люди в своей суете житейской. Всякому хочется больше да больше. Готовы задавить другого. Будто житию нашему конца-края не будет. Нет. Житие наше что дым. Чуть только началось, а там, глядь, уже и конец». После смерти подвижницы на месте её землянки на берегу речки Ростовки забил родник.
22
Тропарион – сборник кратких молитв (тропарей) и кондаков (стихотворных проповедей) в православии.
23
Ты от людей болезни отгоняешь, и уныние грешных прекращаешь. Ибо в тебе все мы обрели надежду и твердость, пресвятая Матерь-Дева. (Канон пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»)