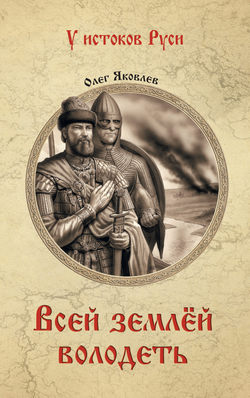Читать книгу Всей землёй володеть - Олег Яковлев - Страница 2
Глава 1. Братья
ОглавлениеГод 1053 (6561)
Яркое вешнее солнце вырвалось из-за большого кучевого облака и брызнуло Всеволоду прямо в глаза. Молодой князь зажмурился, по загорелой пыльной его щеке покатилась слеза. Смахнув её ладонью, Всеволод порывисто обернулся. Отряд гридней[5], было отставший, нагонял их с братом. Густая пыль летела из-под копыт резво скачущих коней и клубилась над широким шляхом.
Удостоверившись, что всё с гриднями в порядке, никуда они не делись, Всеволод успокоился и боднями[6] поторопил своего рослого гнедого скакуна. Стал смотреть вперёд. Вот по левую руку из-за холма, поросшего густой зеленью, как-то резко и неожиданно вынырнула Днепровская прибрежная отмель. Дорога, совершив замысловатый извив, круто пошла вниз к реке. Стали видны качающиеся на голубой искрящейся воде утлые рыбачьи лодчонки.
– Привал учиним, али как? – спросил Всеволода Изяслав.
– Зачем, брате? Уж Киев недалече. – Пожав плечами, Всеволод с лёгкой усмешкой взглянул на мокрое, всё в капельках пота чело старшего брата.
Высокий и полный, с коротко остриженной бородой и широкими, загнутыми книзу усами, Изяслав казался с виду властным и могучим богатырём. Портили всё маленькие плутоватые глазки, которые быстро и с неким затаённым трусливым недоверием бегали из стороны в сторону.
У обочины дороги появились несколько странников-калик в белых посконных[7] рубахах, с длинными посохами в руках и тощими котомками за плечами. Догадавшись по расшитым золотом и украшенным драгоценными каменьями малиновым плащам-корзнам[8], что перед ними сыновья великого киевского князя Ярослава, они почтительно склонились к земле.
– Здравы будьте, люди добрые. – Всеволод вынул из дорожной сумы пригоршню мелких пенязей и бросил их на дорогу.
Как только всадники проехали, калики, отталкивая друг друга локтями, ринулись подбирать ярко блестевшие посреди дорожной пыли медные монеты. Но Всеволод и Изяслав уже не видели этого. Забыв и про странников, и про пенязи, вели они неторопливый разговор. Говорил в основном Изяслав, Всеволод же больше молчал, хмурился и с явной неохотой вслушивался в слова брата.
Медленно, как тихая, спокойная река, текли в голове его невесёлые думы.
– А Олёнка красна собою, девица в самом соку. Хошь, приведу? Потешишься на досуге, – говорил Изяслав, лукаво подмигивая.
Так и хотелось Всеволоду сказать в ответ что-нибудь резкое, обидное, но он усилием воли сдержал себя и лишь с презрением скривил тонкие уста.
«Болтает всякую чепуху! – с недовольством подумал он о старшем брате. – С юных лет славен разве что распутством, ума же – ни на грош. Сколько знаю Изяслава, всё вокруг него непотребные бабы, как мухи, вьются. Иной раз ещё, бывало, волосы и бороду выкрасит в рыжий цвет, свиту[9] похуже напялит – и бегом из терема. То жён чужих хватать примется, то напьётся в корчме, так что потом уже и идти не может – гридни его волокут в терем. В Турове, а после в Новгороде, куда батюшка сажал его на стол[10], наложниц, рабынь завёл, будто бесермен[11]. Отец думал, хоть оженится – иным станет. Куда там! Жена, ляшка Гертруда – Елена, сестра князя Казимира, коя родила Изяславу двоих сыновей, верно, уже привыкла к нескончаемым мужниным изменам. Лишь усмехается грустно, услыхав очередной рассказ о похождениях беспутного супруга. Нянчится со своими мальцами – Мстиславом и Святополком. Со мною, когда гостил зимой в Новгороде, держалась просто, была добра и ласкова. Учил её читать и писать кириллическим письмом. Схватывала всё налету, быстро и крепко. Умна, ничего не скажешь. Подарил ей серёжки с багровыми самоцветами, так радовалась, как ребёнок малый. Показывала украшенную миниатюрами псалтирь, говорила: вшивает в неё свои собственные молитвы Богу, Богоматери и святой равноапостольной Елене. С виду она жёнка пригожая – пышногруда, белолица»…
Всеволод тяжело вздохнул. Нет, никогда не влекло его в корчму, не любил он пиров, остерегался и пьянства, и блуда.
«Душа человечья от того гибнет», – наставлял его в детстве Иларион, пресвитер[12] церкви в Берестове[13], ныне возведённый отцом, князем Ярославом, в митрополиты[14].
Любимый учитель! По лицу Всеволода при воспоминании об Иларионе пробежала улыбка. Сколько же не виделись? Полгода? Нет, больше. Ещё зимой отъехал он из Киева на полюдье[15] в дальнее Залесье, торопился, чтоб успеть оттуда в Новгород до вешней распутицы.
«Как приеду в Киев, первым делом – к нему, – решил было Всеволод, но тотчас же передумал. – Нет, сперва к отцу. Хворает он».
При мысли об отце молодой князь сокрушённо качнул головой. Стар отец и болен. Неровен час, помрёт. Тогда и подумать страшно, что створиться может. Как бы тучи чёрные не затянули небо. Кто в Киеве на стол сядет? Изяслав? Ведь как-то обмолвился отец, что хочет ряд[16] утвердить, восхождение лествичное, чтоб не было меж князьями усобиц. Стол великий – старшему в роду. А коли так, то Изяславов черёд в Киеве княжить. Ну и ужель сможет он – степных разбойников, торков[17], отогнать, волю свою показать, сильным стать – как отец, дед, прадед?! Куда там! И мыслить о таком смешно. Ведь глуп, ничтожен! Не раз говаривал Изяславу батюшка с укором: «Ох, и дурень же! Вон сколь статен и красен, а ума нет!»
А вот если бы ему, Всеволоду, достался киевский «злат стол»? Готов ли он взвалить на свои плечи эту тяжкую ношу?
Всеволоду казалось, что готов, и вполне. Изяслава он не боялся, за такого князя ни дружина, ни бояре стоять не будут. Опасался другого брата, Святослава, который сидит теперь на Волыни. Этот наберёт себе верных людей, за ним пойдут, он и умён, и твёрд, да и на рати, в бою уже доблесть и отвагу свою выказал. Но самое страшное – честолюбив Святослав без меры. Такого гордеца непрестанно удерживать от греха и одёргивать надо. Мнит он себя великим правителем и воином, ничьих советов не слушает, всё как ему вздумается, один решает.
Но нет, не видать Всеволоду великого стола – лишь третий он по старшинству в княжьей семье сын после Изяслава и Святослава. Был ещё у них один брат старший, Владимир, да умер год назад в Новгороде, сына оставив, Ростислава. Ещё два брата, Вячеслав и Игорь, и вовсе отроки, но и им, как и старшим, непременно даст отец в удел волости.
Его, Всеволода, Ярослав любил более остальных сыновей, ибо по душе великому князю была книжная грамота, а в грамоте и языках Всеволод с малых лет превосходил всех братьев и сверстников.
Сперва легко, без особого труда, познал греческий, затем осилил латынь. Любимым занятием его было учить языки. Откроет, бывало, книгу с непонятными словесами, тычет перстом и вопрошает учителей: «А это какое слово? А это что значит?»
Учителя улыбались, хвалили его, а Ярослав, слыша их хвалу, гордился сыном.
Покойная мать, княгиня Ингигерда – Ирина, обучила Всеволода говорить и писать по-свейски[18]. Потом, когда бежали на Русь из Угрии[19] два королевича, Андраш и Левента, с их помощью усвоил Всеволод угорский язык, а ещё позднее от одного печенега[20], который был взят князем Ярославом в полон во время жаркой схватки под киевскими стенами и определён княжичу в челядинцы[21], научился и печенежской молви. Отец, не нарадуясь успехами сына, бывало, гладил Всеволода по голове и с улыбкой называл его: «Чудушко ты моё пятиязычное!»
У матери в свите служило немало свеев, её соотечественников. Один из них, ярл Регнвальд, много лет занимал место посадника[22] в Ладоге – городе-крепости неподалёку от Новгорода, близ берегов озера Нево. В детстве Всеволоду не раз вместе с матерью-княгиней случалось бывать в этой старинной, обнесённой мощными укреплениями цитадели, слушать и вникать в свейскую молвь, учиться понимать доселе неведомые слова и выражения.
Вообще, в Новгороде княжеская семья жила подолгу, ибо в Южной Руси в ту пору одна за другой вспыхивали косящие люд войны. Князь Ярослав то ратился, то мирился со своим единокровным братом Мстиславом Храбрым[23], которому вынужден был уступить Чернигов и всё Днепровское Левобережье. Только после смерти бездетного Мстислава, а произошло это событие, когда Всеволоду исполнилось шесть лет, маленький княжич с матерью, братьями и сёстрами окончательно перебрался в стольный Киев. Но и после многажды доводилось ему бывать на севере Руси. Связи со свеями сохранялись у Ярослава и его сыновей ещё немало лет, вот и прозвище своё – Хольти, неведомо кем, когда и за какие заслуги данное, получил от них молодой Всеволод. Под именем этим вошёл он в знаменитые скандинавские саги. «Князь Хольти» – так зачастую называла его покойная мать, а порой и новгородцы. «Хольти» – означало что-то вроде «сильный», «смелый», и закрепилось лестное сие и странное прозвище за Всеволодом как-то нежданно-негаданно. Даже Гертруда, и та, когда гостил он недавно у брата в Новом Городе, порой обращалась к нему так. При этом серые глаза молодой польки светились лукавинкой, она тихонько посмеивалась, прикрывая ладонью рот.
При воспоминании о Гертруде Всеволод снова грустно вздохнул. Увы, не его доля – быть рядом с этой яркой красивой жёнкой.
Ни охоты, ни пиры, ни рати не были особенно по душе юному княжичу, хотя приходилось часто и выходить с братьями на зверя, – негоже было отставать от других, – и принимать участие в пирах, – никуда не денешься: то послы приедут, то праздник какой. Князь всегда щедрость и милость являть должен, и нужно, чтоб подданные уважали его, чтоб видели его бояре и дружинники непрестанно пред собой, – вот он, князь наш! Славен вельми, на ловах[24] вместе с нами, в походах рядом со всеми, все тяготы делит, и на пиру от нас не отделяется, пьёт, ест то же, что и мы, здравицы говорит. Только так можно заслужить уважение. Удалишься же, укроешься от людей в тереме, будешь лишь рассылать всюду гонцов с повелениями – так и власть над людьми потерять можно, ненависть посеешь в души их, злобу, зависть.
Всеволод отвлёкся от размышлений и посмотрел на брата.
– Вборзе[25] в Киеве будем, – сказал, вглядываясь вдаль, Изяслав. – Тамо в стольном тож разных жёнок хватает. Марфу знаешь, воеводову жену? Млада, красна.
– Да хватит тебе, надоел со своими бабами! – гневно перебил его Всеволод, но, заметив, что брат недовольно сдвинул брови, тотчас с досадой в голосе вымолвил:
– Ну да не серчай. То так, с языка сорвалось. Ты вот скажи мне лучше, много ли у тебя язычников в Новгородской земле?
– Да где уж «много»?! Которые и были, в леса схоронились. Дружина моя вборзе мечами их разогнала.
– Мечами? – поморщился Всеволод. – От мечей ещё сильней озлобятся. Нет, брат, их Словом Божьим просвещать надо. Вот митрополит Иларион правильно глаголет: следует нам поболее иметь просветителей. Ходили бы они из деревни в деревню, из города в город с заповедями Господними на устах. Иначе не приемлют, не проникнутся люди верой Христовой.
– Молвить сей Иларион леп! – с раздражением возразил Изяслав. – Да не все этакие умники. Что простолюдинам словеса ваши?
– Невежество, брат, от лености нашей русской, что в душах у людей, а не от ума исходит, – покачал головой Всеволод. – Любой смерд[26] или людин[27] может грамоте обучиться, если терпение и желание у него будут. На Руси, слава Господу, учёных людей хватает, есть кому народ грамоте выучить.
Изяслав, недовольно хмурясь, поспешил перевести разговор на другое.
– Марья-то твоя, бают[28], робёнка сожидает? – неожиданно спросил он. – Правда ль?
Всеволод нехотя ответил:
– В тягости она. Что в этом дивного, брат? Молю Бога, чтобы сын был. Дочь не хочу, не к чему.
– Почто тако? – не унимался Изяслав.
Всеволод, прикусив губу и жалея о сказанном, лишь пожал в ответ плечами. Перед мысленным взором его возник лик юной супруги, дочери ромейского базилевса[29] Константина Мономаха, того, что называет себя автократором[30]. Едва минуло ему шестнадцать лет, когда отец женил его на Марии. Маленькая рыженькая голубоглазая девочка, такая чужая и далёкая от всех них, приехавшая совсем из другого мира, из-за моря, не красавица, но и не урод, из кожи вон лезшая, только бы казаться надменной, напыщенной, высокомерной, а на деле смешная и глупая – нет, Всеволод никогда не любил её. Пусть она ромейская царевна, пусть она молода, чиста, пусть высокородна, но не такую жену хотел иметь двадцатитрёхлетний князь. А вот о сыне мечталось, было бы приятно осознавать: сын – это плоть от плоти его, его продолжение на земле, в сущности – это словно бы он сам.
…Солнце поднималось всё выше, становилось жарко, уста пересохли и запеклись.
– Экая жара! Пить хочется. – Всеволод потянулся за флягой с водой, висевшей на поясе.
Живительная влага мгновенно придала сил. Жадно попив и ополоснув лицо, он передал сосуд брату. Прозрачные водяные струйки побежали по сухощавому обветренному лицу молодого князя.
– Скорее давай поедем, – обратился он к Изяславу. – Может, Мария родила уже. Пора как будто.
Братья поторопили коней…
Оба они не были в Киеве более полугода – Всеволод ездил на полюдье в Ростовский край, а Изяслав обретался в Новгороде, куда отец послал его наместником после смерти своего старшего сына, Владимира, – и потому, как только показался впереди родной, близкий им с детства город, души их наполнились радостным трепетом.
– Поглянь, брате, на Подоле-то[31] божницы каковы! – воскликнул Изяслав, указывая на две одноглавые, выложенные из плинфы[32] розовые церквушки с крытыми свинцом куполами, нарядно высившиеся рядом с вечевой площадью[33]. – Экая краса! В последнее лето, видать, ставили их!
Изяслава отличала тяга к зодчим и живописцам. Если Всеволод проводил время за книгами или в беседах с учёными людьми, то он любил подолгу бывать в церквах, слушать сладкозвучное пение, взирать на иконы. Когда возводили в Киеве новые церкви, отрока Изяслава было не оторвать от иконописцев, он с любопытством смотрел, как кладётся мусия[34], как из-под кисти мастера выходят лики святых, ангелов, Богоматери. Нравилась ему неторопливость, основательность живописцев, он и сам попробовал было рисовать фрески, но мать, всегда сердитая, строгая ко своим сыновьям, запретила ему заниматься этим неподходящим для князя делом. Тогда Изяслав поклялся, что если когда-нибудь Господь сподобит ему сесть на стол в Киеве, то он понастроит здесь столько церквей, сколько нет ни в одном городе на свете.
Обычно князья въезжали в Киев через Золотые ворота – это были главные, парадные ворота города. Но сейчас братья настолько соскучились по стольному, настолько сильно захотелось им посмотреть на него, что, не сговариваясь, пустили они коней через Подол.
На Подоле, в нижней, укреплённой лишь деревянным тыном части Киева, жили ремесленники и купцы. В центре Подола, на торгу, царило оживление, толпился народ, слышались ругань и громкие оклики купцов, которые наперебой расхваливали свои товары. На княжьих сыновей почти не обращали внимания – так, скользнут глазами, узрят дорогие корзна с фибулами[35] – и в сторону, подальше.
– Неприветлив люд, – сказал Изяслав брату.
– А кто мы им? – усмехнулся в ответ Всеволод. – Ну, проедем и проедем. Узнают, так узнают, нет – и не надо.
«Лучше бы узнавали. Меня – не Изяслава, – подумалось ему вдруг. – И не только узнавали – любили бы, привечали. Люд – сила великая. Коли подымутся, пойдут против князя – полетит он со стола».
По правую руку от молодых князей возвышались три вытянутые в одну линию горы – словно былинные богатыри, окаймляли они Подол. Зелёный лес покрывал их крутые обрывистые склоны, местами отступая, обнажая каменистые или песчаные проплешины, а то нависая, подходя к самым домам, словно бы стремясь поглотить в тёмной массе своей неуступчивую горделивую русскую столицу. Но город ширился, рос, и страшный лес с его чёрными непроходимыми пущами, как зверь, огрызаясь, уходил всё дальше от подножий гор.
Всеволод глянул вправо, живо представив себе, как где-то там, на самой дальней, Лысой Горе, или Хоревице, ещё каких-нибудь семь десятков лет назад курились дымки жертвенных костров, высились деревянные, грубо вырубленные топором идолы, и косматые седые волхвы взывали к грозным богам, моля об обильном урожае, о дожде в засушливое лето, о победе над врагом.
Но прошла, отхлынула, исчезла, провалилась в небытие жестокая и наивная пора язычества.
Вон хорошо видна освещённая солнцем обнажённая вершина Хоревицы, раньше наводившая на него, ещё ребёнка, страхи своей таинственностью и неизведанностью, а теперь кажущаяся по-доброму смешной, глупой даже.
– Помнишь, брат, как мы с тобой и Святославом на Лысую Гору ходили? – ещё раз посмотрев в сторону Хоревицы, спросил Всеволод. На лице его промелькнула улыбка. – Боялись, что ведьмы и колдуны там водятся. Помню: сидим в лесу, едва дышим, все от страха дрожим.
Изяслав молча кивнул.
Между горами виднелись поросшие густой зеленью овраги и урочища, с давних пор облюбованные киевскими ремественниками – гончарами и кожемяками.
– Доброе место сии гончары выбрали, – указал Изяслав. – Ведали, где избы ставить. Токмо поглянь, дым экий из труб валит. Аж противно! Всё своей вонью портят, простолюдины!
– Напрасно, брат, к людям придираешься, – возразил ему Всеволод. – Каждый как может живёт.
«И вот ему (ему!) – великий стол! Эх, отче, отче! – Всеволоду хотелось броситься на землю и разрыдаться от отчаяния. – Ну почему не я?! Почему Изяслав старший?! О, Боже, Боже! Как несправедливо устроен мир!»
Братья поднялись по Боричеву увозу – пыльной дороге, вьющейся змейкой по склону, проехали через Подольские ворота в старую часть княжеского детинца[36], ту, которая строилась ещё при Владимире Крестителе, миновали другие ворота – Софийские, и остановили коней возле каменного княжьего терема с большими, забранными слюдой окнами и резными башнями, горделиво возвышающимися по краям и посередине. Изузоренные расписные кровли и верха башен отливали золотом.
Навстречу князьям спешили в радостном возбуждении челядинцы.
– С сыночком тя[37], княже Всеволод! – неслось отовсюду.
Из бабинца[38] служанки вынесли на крутое крыльцо маленький, жалобно попискивающий свёрток, обёрнутый пуховым одеяльцем.
Всеволод ошалело принял ребёнка на руки.
«Господи, сын!» – Тут только дошло до него.
Князь бережно прижал младенца к груди.
– Сынок! Владимиром тебя нареку, – прошептал он. – В честь деда моего, Крестителя Руси. И будь ты делами своими достоин имени своего!
Всеволод осторожно прикоснулся устами к челу ребёнка.
* * *
Обнесённый высокой стеной, величественно раскинулся по соседству с собором Святой Софии каменный дворец митрополита. Крутые мраморные ступени вели в просторные возвышенные сени[39], светлые долгие переходы и хороводы гульбищ[40] выводили в широкие, богато убранные горницы.
Привычно суетилась на дворе челядь. Всеволода с поклонами встречали монахи в чёрных рясах и куколях[41], он рассеянно кивал им в ответ, торопливо подымаясь по лестнице.
Иларион, в шёлковой лиловой рясе и клобуке с окрылиями, сухой, высокого роста, довольно ещё молодой – было ему на вид около сорока пяти лет – встретил молодого князя возле сеней. Он протянул Всеволоду для целования золотой наперсный крест, затем обхватил его за шею, прижал к себе и со слезами радости в бесхитростных серых глазах, исполненных живого ума и тихой ласковой доброты, дрожащим голосом вымолвил:
– Всеволод!
– Я, отче, – отозвался Всеволод, краснея от смущения. Он не ожидал от обычно строгого с ним митрополита таких страстных лобзаний.
– Ну, пойдём ко мне, – пригласил его следовать за собой Иларион. – Расскажешь, как в Ростове, что видал, что слыхал.
Они проследовали в покой, богато украшенный иконами греческого письма в дорогих окладах и щедро освещённый множеством свечей.
Сев на обитую парчой скамью, Всеволод, вздохнув, начал свой рассказ:
– Вроде, отче, тихо всё, спокойно. И в Ростове, и в Суздале. Но коли приглядеться, тревожно на душе становится.
– Почто тако? – взволнованно нахмурился Иларион. – Ну, сказывай же, сказывай вборзе!
– Волхвы повсюду неведомо откуда являются, крамольные речи ведут. Бояре лихоимствуют, никакой управы на них нет. Земли себе понахватали, дружинами обзаводятся, людинов кабалят. Думается, в скором времени не нужны мы им станем. Захотят бояре власти. Князем слабым, как куклой, вертеть будут, князя же сильного не потерпят. Не знаю, как и перемочь[42] силу боярскую. Кабы отец не так стар и болен был, сумели бы бояр в узде удержать. А вот умрёт он если… Изяслав ведь – слаб, глуп.
– Рази ж можно тако о брате родном, Всеволод? – качая головой, пристыдил его Иларион. – Мне вот, по правде говоря, тож не по нраву, как живёт он. Окромя[43] баб любимых, ни о ком заботы не имеет. Говорил ему, наставлял – не внемлет. Гневлив становится. Гляжу, в очах – злоба. Ненавидит он меня. Другой же брат твой, Святослав, всё к ромеям льнёт. Вечно на дворе у него патриции[44] ромейские толкутся. Негоже тако. Нельзя ромеям потакать.
– Но ведь, отче, с ромеями нам нужен мир. Единоверцы, по моему разумению, должны в дружбе жить. Вон сколько присылают к нам ромеи живописцев, зодчих, мастеров разных – всё то Руси в помощь.
– Помощь?! Мир?! Дружба?! – вдруг вспылил Иларион. – А ты почитай-ка, что они о нас, о руссах, пишут! Нечестивцы! – Он схватил лежащий на столе пергаментный свиток, с хрустом развернул его и в гневе прочёл: – «Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть против греческой игемонии; при каждом удобном случае изобретая то или иное обвинение, они создавали из него предлог для войны с нами». Не кто иной, но Михаил Пселл[45] се пишет, княже. Вдумайся: «Варварское племя!» Духовно поработить нас хощут! Не выйдет!
Митрополит с яростью отшвырнул в сторону свиток и стукнул посохом по полу.
– Изяслав, коли сядет в Киеве, знаю, снимет меня, – жестом руки остановив готового возразить Всеволода, спокойно продолжил он. – Заместо меня грека поставит. Но грекам потакать сей князь не будет. Он, скорей, наоборот, на рымского папу глядеть почнёт. Жена вон у него латынянка. Вот Святослав, тот неведомо как себя поведёт. Око пристальное за ним надобно. Про бояр ты баил? Скажу тако: надобно власть княжую в Залесье крепить. Не токмо посадников да тиунов[46] – мнихов[47], иереев[48] посылай туда.
– Знаю об этом, святой отец. Посылаю уже.
– Ну вот и лепо. – По лицу митрополита скользнула мягкая улыбка. – Трудная ныне грядёт пора, чадо. Но ты, Всеволод, поверь уж мне, старцу, своё возьмёшь. Сердце чует. Любимый ты был у меня ученик – в тебя, в разум твой верую я.
– Пойду я, отче. – Смущённый последними словами митрополита молодой князь торопливо поднялся со скамьи.
Он ценил Илариона, уважал его, ибо тот был человеком, взрастившим его духовно. И хотя вёл споры митрополит всегда гневно, был запальчив, часто взрывался, мог накричать, что совсем не подобало священнику, Всеволод испытывал к нему одни только добрые чувства, восхищался его умом и благодарил Бога за то, что тот даровал ему такого мудрого наставника.
– Что ж, ступай, – улыбнулся Иларион и на прощание перекрестил питомца.
Ещё немного растерянный, не осмысливший до конца всего, что говорил митрополит, молодой князь вернулся к себе в терем. В ту ночь он долго не ложился и всё ходил в полумраке, глядя в темноту и размышляя о будущем, о том, что может и должно случиться на Руси, если умрёт отец.
5
Гридни – категория младших дружинников в Древней Руси. Часто выполняли функции телохранителей при князе.
6
Бодни – шпоры.
7
Посконный – домотканый.
8
Корзно – княжеский плащ, богато украшенный, застёгивавшийся на плече. Был распространён на Руси до монголо-татарского нашествия, во второй половине XIII века вышел из употребления. Существовали лёгкие и тёплые корзна, подбитые мехом.
9
Свита – длинная верхняя одежда на Руси.
10
Стол – здесь: княжеский престол. «Стол» в значении «престол» обычно употребляется в переносном смысле.
11
Бесермен (ст.-русск.) – мусульманин.
12
Пресвитер – священник.
13
Берестово – княжеское село под Киевом.
14
Митрополит – глава Русской церкви в X–XVI веках. До XV века обычно назначался или утверждался константинопольским патриархом. В домонгольское время митрополитами были преимущественно греки.
15
Полюдье – выезд князя для сбора дани в подвластные ему области.
16
Ряд (др.-рус.) – договор, порядок.
17
Торки – кочевые тюркоязычные племена, впервые упоминаются в русских летописях в 985 году как союзники киевского князя Владимира Святославича. С XI века жили в причерноморских степях, совершали опустошительные набеги на русские земли. В XII веке эти племена известны в летописях под названием ковуев или чёрных клобуков.
18
По-свейски – по-шведски.
19
Угрия, Угорская земля – Венгрия. Угры – венгры.
20
Печенеги – союз тюркоязычных кочевых племён, сложившийся предположительно в VIII–IX веках. В XI веке западные кочевья печенегов были разгромлены Киевской Русью.
21
Челядинец – слуга.
22
Посадник – в Древней Руси наместник князя.
23
Мстислав Храбрый (ум. 1036) – князь Тмутараканский, с 1023 года – князь Черниговский, сын Владимира Святославича.
24
Лов – охота.
25
Вборзе – быстро, скоро.
26
Смерды – категория феодально зависимого населения в Древней Руси. О смердах мало что известно. Видимо, это узкая социальная группа, тесно связанная непосредственно с князем.
27
Людины – основная часть населения Киевской Руси в IX–XII веках, свободные общинники. Их зависимость от феодалов заключалась в уплате дани.
28
Баить, баять – говорить.
29
Базилевс – титул византийского императора. Ромея – Византия.
30
Автократор (греч.) – самодержец.
31
Подол – то же, что посад, торгово-ремесленный район в древнерусских городах, как правило, слабо укреплённый или совсем незащищённый.
32
Плинфа – в древнерусском домонгольском зодчестве тонкий обожжённый кирпич, часто квадратной формы, ширина которого примерно равнялась длине.
33
Площадь, где проводилось вече. Вече – народное собрание в Древней Руси.
34
Мусия – мозаика.
35
Фибула – застёжка.
36
Детинец – укреплённая часть древнерусского города, то же, что кремль или кром.
37
Тя (др.-рус.) – тебя.
38
Бабинец (др.-рус.) – женская часть дома.
39
Сени – отдельная постройка на столбах или подклете, связанная с теремом висячими переходами.
40
Гульбище – открытая галерея со столпами и колоннами в княжеских или боярских хоромах; балкон, терраса для прогулок и пиров.
41
Куколь – монашеский головной покров в виде капюшона.
42
Перемочь – победить. Перемога – победа.
43
Окромя – кроме.
44
Патриций – в Византии высший придворный чин.
45
Пселл, Михаил (1018 – ок. 1078 или ок. 1096) – византийский политический деятель, писатель, учёный, философ.
46
Тиун – сборщик дани. По социальному положению относился к холопам.
47
Мних (др.-рус.) – монах.
48
Иерей – священник.