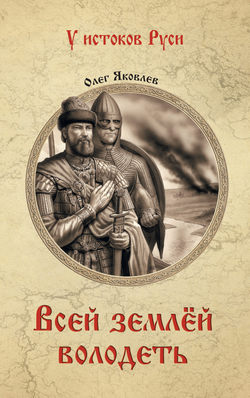Читать книгу Всей землёй володеть - Олег Яковлев - Страница 22
Глава 21. Спасение Тальца
ОглавлениеЗадыхаясь от быстрого бега, Талец мчался через засеянное пшеницей поле. Высокие упругие колосья хлёстко ударяли ему по ногам. Пригибаясь, спотыкаясь о кочки, Талец с надеждой и отчаянием взглядывал вперёд: скоро ли? С каждым мгновением приближалась опушка леса; там, в темноте, под кронами сосен, в яругах[194], балках, посреди чащобы – спасение.
Поскользнувшись, он беспомощно растянулся на земле, изодрав посконную рубаху и больно ударив колено. Устало смахнул с чела пот, вскочил; прихрамывая, побежал дальше.
Вот он, наконец, лес. Пот заливал паробку лицо, рубаха вся стала мокрой – хоть выжимай. Талец юркнул в спасительную лесную прохладу, скатился в глубокий овраг, жадно испил воды из громко журчащего ручья.
Теперь можно было немного перевести дух, подумать, осмыслить случившееся.
…День стоял как день, привычно закипала работа. Отец с рассветом засобирался в поле, мать гремела ухватами у печи, сестра и двое братьев копошились во дворе возле конюшни.
– Поехали, Талец! – позвал отец, запрягая в телегу коня.
Паробок забрался на жёсткую солому. Отец тронул поводья, и телега со скрипом выкатилась за ворота. Так происходило изо дня в день, из года в год. Скоро уже, осенью, как обычно, приедут из Чернигова строгие, сердитые тиуны, соберут обильный крестьянский урожай, увезут его в княжеские и боярские житницы, зорко осмотрят кладовые: не утаили ли чего людины, не упрятали ли от их бдительного ока пару мешков с зерном.
Иногда, бывало, наедут бояре в пёстрых кафтанах, оружные гридни в блестящих кольчугах, будут охотиться в окрестных лесах на дикого зверя, остановятся на постой в избах. В такое время жизнь в деревне преображается, хмельной рекой текут меды, смех и веселье наполняют улочки. Но уезжают весёлые шумные гости, и всё возвращается на круги своя: пашня, солёный пот на спинах под палящим солнцем, вечные хлопоты, большие и малые надоедливые работы, идущие нескончаемой чередой – сев, сенокос, жатва, молотьба.
…Уже подъезжали к полю, когда вдруг со стороны села раздались дикие душераздирающие вопли. Ярким заревом полыхнули избы. Посреди дыма и копоти слышались грубые гортанные выкрики, ржание и топот большого числа коней, пронзительный свист.
– Поганые! – крикнул отец.
Талец, вздрогнув, порывисто обернулся. К околице села, к высокой деревянной церквушке с чешуйчатым куполом – луковичкой подлетели всадники в панцирных коярах[195] и в лубяных плосковерхих шлемах, скреплённых железными пластинами. Талец разглядел их лица: жёлтые, скуластые, искажённые злобой, перекошенные в крике.
– Беги, Талец! – Отчаянный отцовый вопль вывел отрока из оцепенения, он спрыгнул с телеги и метнулся к обочине, с ужасом увидев, как отец с пробитой головой, весь в крови падает под копыта, в дорожную пыль. Следом за Тальцем понёсся с копьём наперевес половец. Судьбу юнца решили мгновения. Уже настигал его свирепый степняк, целился, готовился воткнуть остриё копья меж лопаток, когда внезапно рухнула поперёк дороги горящая церковенка. С предсмертным визгом ужаса и боли навсегда исчез половец посреди пламени и обломков. Едким дымом заволокло дорогу. Талец свернул, побежал по полю, раня босые ноги о камни и колючую траву.
Далеко впереди, у окоёма, синей жилкой темнел лес.
«Туда не пойдут!» – подумалось Тальцу.
Он, не переводя дыхания, из последних сил бежал и бежал. Сердце готово было, казалось, выскочить из груди. Сколько времени он бежал так? Гнался ли за ним кто-нибудь? Или забыли о нём степняки, занялись дележом добычи?
Ничего этого Талец не знал. Забившись в густой малинник на дне оврага, он затаил дыхание и беспокойно прислушался. Тишина. Только птицы щебечут на деревьях.
Дрожащими руками он стал срывать с кустов спелые ягоды малины. Есть не хотелось, делал он это почти безотчётно, стараясь заглушить нахлынувшую в душу горечь и страх ожидания неведомого.
В лесу просидел до вечерних сумерек, потом тихонько выполз на опушку, начал медленно, осторожно пробираться краем поля.
Надеялся: а вдруг живы, уцелели мать, братья, сестра, ближники-соседи. Тогда можно будет заново отстраивать хату, налаживать понемногу былую, привычную жизнь. Но мертвенная гробовая тишина встретила Тальца в селе. Догорали разорённые избы и гумна, всюду лежали полуобгоревшие трупы. Страшное зрелище предстало глазам отрока.
Тел матери, сестры и братьев он не отыскал – видимо, все сгорели в пламени пожара. Не было рядом ни единой живой души.
«Всех сгубили, треклятые!» – Талец упал наземь возле пепелища, какое осталось от родной хаты, и горько разрыдался.
Перевернувшись на спину, лежал он долго, с трудом сдерживая слёзы, и смотрел на полное звёзд ночное августовское небо.
Что делать ему теперь? Куда идти? Родных и близких в окрестных сёлах и слободах у него нет, да и сёла те и слободы, невестимо, уцелели ли. Может, тоже похозяйничала в них свирепая орда.
Остался, правда, у него один родич. Мать как-то сказывала, что есть у неё брат, Яровит. Ещё в малых летах забрали его в ученье, чем-то приглянулся он киевскому князю Ярославу, сделал его князь боярином, земли дал, усадьбу имеет Яровит в Чернигове. О нём почти никогда в семье не говорили, так, изредка упомянут, и только. Отец всегда хмуро сдвигал брови, едва заходила о Яровите речь. Но вот как повернула жизнь – придётся теперь, верно, Тальцу искать этого неведомого дядю. А там, как знать: может, примет Яровит его, может – прогонит взашей.
Поутру, взяв в руку сучковатую палку, забросив за плечи котомку со скудным скарбом – собрал у соседки в уцелевшей бретьянице[196] немного еды на дорогу, – в последний раз глянув на родное пепелище и обронив слезу, направил Талец стопы вдоль широкого шляха. Шёл, беспрестанно озираясь, днём больше отсиживался в лесу или крался опушкой, стараясь быть тихим и неприметным. На третий день, уже к вечеру, добрался до берега большой, многоводной реки. Ни души не встретилось на пути – лишь набрёл однажды на разорённую половцами пустую деревню.
Куда идти дальше – не знал, пошёл наугад вдоль берега, вниз по течению. Тревожно, смутно было на душе, уже и голод давал о себе знать – съестные припасы кончались. Решил заночевать в прибрежных камышах, а утром вплавь перебраться на другой берег, где виднелся густой сосновый бор. Там хоть ягоды, грибы удастся раздобыть.
Свернувшись калачиком, подложив под голову котомку, забылся Талец беспокойным сном.
– Эй, отроче! – Кто-то осторожно потряс спящего паробка за плечо. – Ишь, куда забрался! А ну, вставай!
Талец вздрогнул, оторопело вытаращил глаза, с криком вскочил, метнулся в сторону. Судорога страха сжала его сердце.
– Да ты не бойся. Экий пугливый!
В неясном свете предутренних сумерек Талец разглядел тонкую фигурку монашка в долгой рясе, с посохом в деснице. Чуть дальше, возле дороги, стояла крытая холстом телега, на которой сидел, свесив ноги, другой монах. Тучная кобылка помахивала широким хвостом.
– Ну, ступай сюда. Говори, кто ты, откудова будешь, куда путь держишь? Я, Иаков-мних, списатель княжой, иерей, инок печерский, вопрошаю тя.
Талец несмело подошёл к монашку.
Чем-то сразу расположил его к себе этот низкорослый, худенький человек с заострившимся лицом и редкой русой бородёнкой.
С трудом сдерживая слёзы, Талец коротко поведал ему о набеге половцев, разорении села, гибели родных.
В скорби потупив взор долу и вороша посохом траву, Иаков слушал, слегка покачивая головой.
– Куда ж ты топерича? – спросил он, едва отрок замолчал.
– В Чернигов хощу. Дядька тамо у мя быть должон. Бают, боярин важный. Может, приютит. А нет – не ведаю, как и бысть, куда и податься.
– В Чернигов, – задумчиво повторил Иаков. – Вот и мы туда ж. Книги везём ко князю Святославу. Я да Никита, грек-евнух, тож монах, слуга Божий. Со Льтеца идём, с монастыря. От поганых, яко и ты, едва убереглись, в роще за дубами укрылись. Книги вот спасти помог Господь. Поедем с нами, отроче. Садись на телегу.
Тальцу лишний раз повторять было не надо. Чуть не бегом помчался он к телеге и поспешно забрался на неё, сев рядом с евнухом Никитой. Молодой, безбородый грек окинул отрока косым, подозрительным взглядом и хитровато прищурился.
– А как звать твоего дядьку? – спросил он.
Голос у Никиты был тонкий, как у бабы.
– Яровит, Божий человек.
– Гм… Яровит. – Никита заметно насторожился, в тусклых глазах его блеснул недобрый огонёк. – Поганое имя, языческое. А по крещёному как его звать?
– Не ведаю, Божий человек. Я ж его отродясь в глаза не видывал.
– Гм… Иаков, знаешь ты такого боярина? – обратился Никита с едва скрываемой насмешкой к своему спутнику, тоже уже севшему на телегу.
– Слыхал, как же. Был Яровит при князе Ярославе видным боярином. В Чернигове дом имеет, ещё земли где-то возле самых вятичей, в лесах да на болотах. Сказывают, муж смекалистый, посольские дела правил – к уграм ездил, к ятвягам[197], в саму Ромею хаживал.
– Как же можешь ты, безродный раб, такому человеку родичем быть?! Врёшь ты всё! – визгливо прикрикнул Никита и замахнулся на Тальца плетью.
Лицо его потемнело от злости, маленькие чёрные глазки налились яростью и готовы были, казалось, выскочить из орбит.
– Не трожь мальца! Веди себя, как Божьему слуге подобает, брат! Кроток будь, смиренен. – Иаков схватил евнуха за руку. – И не врёт, думаю, ничего парень. А еже[198] что и приврал, дак не нам его судить. Вишь, от поганых он бежал, спасался, родичей всех потерял. А что до Яровита, то ведомо – не из бояр он вышел. За то и недолюбливают его в Чернигове были[199] родовитые, за ровню себе не почитают. А сами же токмо обжорством да пьянством славны. Ты, отроче, – обратился он с ласковой улыбкой к Тальцу, – сиди покуда, отдыхай, гляди на бел свет. Сподобит Господь, довезём тя до Чернигова. Недалече. К вечеру будем тамо. Трогай, Никита.
Телега сдвинулась с места, заскрипела. Кобыла с жёлтой свалявшейся гривой неторопливо, шагом побрела вдоль реки. Никита со злостью хлестнул её плетью.
– Старая кляча! – ругнулся он, но, уловив осуждающий взгляд Иакова, презрительно скривился и умолк.
Кобыла перешла на рысь. Трясясь на кочках и ухабах, покатилась телега по пыльному шляху.
Справа, за курганами алела багрянцем утренняя заря. Лёгкие розоватые облачка медленно ползли по светлеющему небосводу. В рощах пробуждались птицы, отовсюду слышалось громкое щебетание. Унылой чередой потянулись поросшие ковылём и разнотравьем дикие поля.
Солнце выплыло из-за окоёма, ударило в глаза яркими копьями-лучами. Талец зажмурил глаза. По щеке покатилась струйкой слезинка.
– Жаркий день будет, – взглянув на небо, промолвил Иаков.
Талец спросил:
– А книги где, что вы везёте?
– Да вон в ларях. Зришь?
Отрок обернулся назад и изумлённо уставился на два огромных окованных серебром ларя с висячими замками.
– Ты грамоту разумеешь? – добродушно вопросил Иаков.
Талец смутился и отрицательно мотнул головой.
– Научат тя. В Чернигове школа есть. Не токмо бояр – и людинов, и смердов учат. Всяк человек разуметь грамоту должен. Вот книги везём. На русском, греческом, латынском писаны. Евангелие, Деяния апостолов, молитвослов, хронографы разноличные.
– Ветхий Завет забыл, брат Иаков, – провизжал Никита. – Не эта ли книга наипаче иных важна для разумения?
– Что ты мне всё про Ветхий Завет, брат Никита? – Иаков нахмурился, помрачнел, в светлых глазах его вспыхнул неодобрительный огонёк. – Дивлюсь те. Сдаётся, впал ты в ересь жидовскую. Ибо ни Евангелия, ни Апостола, – святых книг, в Благодати Господней нам переданных, – ни честь, ни слушать не хощешь. Боюсь, прельщён ты еси от ворога.
– Дивлюсь и я тебе, списатель. – Безбородый евнух ухмыльнулся. – Из Ветхого Завета – мудрость почерпнёшь, советы, опыт, из поколенья в поколенье переданный. Как и людская жизнь ныне полна грехов, так и там. И страх Божий, и кары, и казни Господни – обо всём сведаешь из этой книги. Весь наш греховный мир, как на ладони, узришь. В том великая ценность Ветхого Завета. Мудрым станешь, как царь Соломон.
Монахи шумно заспорили, с русского языка перешли на греческий, непонятный отроку, Талец с раскрытым от изумления ртом смотрел на них, ожесточённых, одержимых, готовых, казалось, вцепиться друг в друга.
Никита брызгал в ярости слюной; Иаков, гневно сжимая обеими руками палку, отвечал – зло, резко, лицо его раскраснелось от волнения.
Талец немало испугался. Он никак не мог уразуметь, из-за чего вспыхнул этот странный горячий спор, почему монахи готовы побить друг дружку, как какие-то грубые, неотёсанные мужики. У них в селе, бывало не раз, спорили, учиняли драки, ругались – то по пьяному делу, то из-за бабы, но чтобы вот так! Из-за книг?! Отрок удивлённо пожал плечами.
– Такие, как ты, семя зловредное сеют! – заключил Иаков.
Он устало смахнул со лба пот, откинул на спину чёрный куколь и, посмотрев на растерянного Тальца, неожиданно рассмеялся.
– Эй, отроче! Гляжу, перепужали мы тя. Али как?
Талец промолчал, смущённо улыбнувшись.
– Не пужайся. Мы вот поспорим, покричим да отойдём. Монахи ведь, не ратные люди. Верно ли говорю, брат Никита?
Евнух хмуро кивнул.
Дальше ехали молча, Талец с любопытством завертел головой, осматриваясь вокруг. Дикую степь сменили возделанные поля, густо засеянные пшеницей. Вдали видны были работающие крестьяне – мужики в посконных рубахах, бабы в ярких, разноцветных саянах, в платках на головах. В самый разгар вступила жатва. Талец вздохнул и, вспомнив с остротой и горечью всё случившееся в родном селе, вдруг расплакался, уткнувшись лицом в колючую холстину.
Иаков с участием посмотрел на него, но ничего не сказал. Да и что толку тут было говорить, чем мог он утешить юного паробка? Безжалостное время неотвратимо, и Талец ещё сам до конца, наверное, не понял, что с потерей близких ушла навсегда из его жизни золотая пора детства. Что ждёт его впереди? Встреча с безвестным дядькой, а дальше? Неведомо. Многолик и причудлив мир, при всей своей необъятности он тесен, судьбы людские переплетаются в нём порой чудно и дивно, одному Господу известно как…
В полдень остановились у околицы большого, богатого села, монахи наскоро поснидали и накормили изрядно проголодавшегося паробка. Сушёная рыба и чёрствый хлеб сейчас, после нескольких дней трудного пути, показались Тальцу особенно вкусными.
– Ишь, оголодал, – усмешливо заметил Иаков. – Ну да Господь те в помочь. За сим селом большак, а тамо ужо и Чернигов недалече с дядькою твоим. И нам, грешным, конец дороги. Монастырь, княжьи палаты.
Никита достал из сумы немного овса, с руки покормил кобылу, после чего они продолжили путь. Проехали мимо села, в котором наряду с обычными утлыми мазанками и совсем убогими полуземлянками высились добротно срубленные избы, окружённые тыном. Было даже два или три каменных дома.
– Богатое село, княжеское. Когда выезжает кажен год князь Святослав на полюдье, здесь становится. Тут двор у его, тиуны, волостель, – пояснял Иаков Тальцу. – Народец здесь не токмо землю пашет, но и ремеством разноличным пробивается: кузни имеют, скудельницы. Верно, твоё-то село, отроче, невелико было, одни мазанки да землянки, да хаты утлые?
– Тако, – кивнул Талец.
– Верно, непривычно глядеть. Ну, даст Бог, повидаешь бел свет. Никита! Хлестни-ка. Поедем борзее.
Кобыла понеслась вскачь, роняя на пыльную дорогу хлопья жёлтой пены.
194
Яруг – овраг.
195
Кояр – защитный панцирь, состоял из металлических пластин, скреплённых кожаными ремнями.
196
Бретьяница – кладовая.
197
Ятвяги – литовское племя, жило на реке Неман, в современной Гродненской области. Платило дань киевским князьям.
198
Еже (др.-рус.) – если.
199
Были (др.-рус.) – бояре.