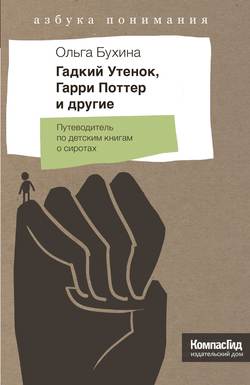Читать книгу Гадкий утенок, Гарри Поттер и другие. Путеводитель по детским книгам о сиротах - Ольга Бухина - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Раздел I
Откуда все есть пошло
Глава 8
Задорные американки и их тетушки
ОглавлениеВедь это же несправедливо, несправедливо!
Шарлотта Бронте. Джейн Эйр
У американских «книжных» сирот с везеньем все в порядке: мальчикам помощь почти не нужна, да и девочкам, как мы сейчас увидим, для того чтобы выбраться из любой переделки, помощник нужен только «на минуточку», а дальше они сами справятся. Начну со знаменитой «Страны Оз» Фрэнка Баума[111], опубликованной в 1900 году. Дороти – сирота, воспитываемая вполне любящими, но невероятно мрачными тетей и дядей в печальном и пустынном Канзасе. В переводе – пересказе, сделанном Александром Волковым, который раз и навсегда превратил «Волшебника Изумрудного города» в факт русской литературы, Дороти превратилась в Элли, а дядя с тетей – в папу с мамой[112]. Но в любом случае ураган, перенесший девочку в волшебную страну, оставляет ее, хотя и ненадолго, полной сиротой.
Впрочем, нельзя смешивать Дороти с Элли. Факт сиротства Дороти очень важен для Баума, хотя слово «сирота» фактически упоминается только один раз, зато на самой первой странице. В «Стране Оз» Баум выразил свои взгляды на права детей и необходимость заботы о них[113]. То, что не может быть достигнуто в реальности американской жизни того периода, возможно в волшебной стране. Канзас – воплощение печали, там нет ни смеха, ни улыбок, но в стране Оз все совсем иначе. Этот красочный, хотя и опасный мир распахивает героине свои объятия, и она, воистину «одной левой» расправившись с двумя злыми колдуньями, помогает множеству различных созданий. Однако «она считает себя слабой и бессильной, нуждающейся в помощи других»[114]. Оттого и ей, чтобы вернуться домой, нужны преданные друзья и помощники – Разум, Любовь и Отвага. Покуда Страшила, Железный Дровосек и Лев рядом с ней на вымощенной желтым кирпичом дороге, она не сдается и не унывает. В каком – то смысле эти волшебные помощники просто выражение черт ее характера. «Психоаналитическая интерпретация сочтет их тремя проекциями ее внутренней сущности, нацеленной на поиск этих трех столь различных свойств – мозгов, сердца и смелости, которые сама Дороти постоянно проявляет во время путешествия; она умна, заботлива и храбра»[115].
Сам Чародей страны Оз (или, как мне с детства привычней его называть, Волшебник Изумрудного города), который в классической сказке претендовал бы на роль волшебного помощника, оказывается хотя и милым, но явным обманщиком. Возникает впечатление, что сама волшебная страна становится приемной матерью девочки (отчасти в виде двух добрых волшебниц), и «метафорически выражаясь, путешествие Дороти по стране Оз является внутренним путешествием приемного ребенка на пути к достижению понимания самого себя»[116]. В конце этого полного приключений путешествия – возвращения к реальным приемным родителям Дороти ждет все тот же скучный Канзас. Элли в пересказе Волкова еще сильнее стремится вернуться к родителям.
Это сказка, но и в реалистической американской литературе тоже есть замечательные образы девочек. Отступим немного назад, в середину девятнадцатого века. В американской литературе о девочках и для девочек того времени положительный герой, сирота или нет, непременно должен был преобразить мир вокруг себя, сделать окружающих лучше и чище. Джо Сандерс демонстрирует этот феномен на примере маленькой Евы из «Хижины дяди Тома» (1852) Гарриет Бичер – Стоу. Все герои, окружающие Еву, «любя ее, становятся похожими на эту маленькую девочку – послушными, добрыми и любящими»[117].
Так, например, Топси, сиротка – негритянка, эпизодический персонаж «Хижины дяди Тома», добивается успеха за счет необычайной трансформации характера и благотворного влияния со стороны ее маленькой хозяйки Евы. Топси – полная сирота и понятия не имеет, кто ее родители. По словам самой Топси, она «нигде не родилась. Матери не было, отца не было… никого не было»[118]. Озорничающая по поводу и без повода маленькая егоза, не верящая никакому доброму слову – у нее есть все основания не доверять белым людям, шрамы на спине говорят сами за себя, – меняется под воздействием примера Евы и под впечатлением от ее преждевременной смерти.
Ева наряду с самим главным героем, дядей Томом, оказывается той силой, что преображает все и всех вокруг. И Топси частично перенимает у нее эту функцию. Видя перемены в девочке, тетушка Евы, уроженка Севера и противница рабства мисс Офелия, обещает Топси: «Я тоже буду любить тебя, хоть мне и далеко до нашей бесценной Евы, – буду любить и помогу тебе стать хорошей девочкой»[119]. Так преображается и сама мисс Офелия, поначалу сухая и неэмоциональная северянка. В результате у Топси возникает шанс стать благовоспитанной особой и обрести свободу.
Сандерс, обсуждая скучную, в отличие от «Хижины дяди Тома», книгу Сюзан Кулидж «Что делала Кейти» (1872), подчеркивает важность образа больного ребенка в сентиментальных историях девятнадцатого века, призванных учить детей сочувствию и пониманию. Кейти растет без матери, но с любящей, хоть и строгой тетушкой и всегда занятым отцом. Озорница – девочка падает с качелей и надолго остается прикованной к постели. С помощью больной кузины Элен она учится сочувствовать и вызывать сочувствие в окружающих. Кейти, в отличие от Евы, выздоравливает – но только через четыре года. Немалое наказание за невинное озорство.
Тема преображения окружающих занимает центральное место в романах Луизы Мэй Олкотт, особенно в романе «Роза и семеро братьев» (1875), где сразу две сироты – барышня, главная героиня, и служанка, девочка из приюта. Роза, как Белоснежка гномами, окружена семью двоюродными братьями, которые не знают, как ей угодить. По словам Сандерса, в этой книге «семеро кузенов все время рядом с девочкой – сиротой, и центральным в романе становится момент, когда она обнаруживает, что может положительно влиять на мальчиков»[120]. Для этого, добавляет Сандерс, ей всего – навсего надо перестать печалиться. Слабенькая и болезненная, помогая мальчикам, она становится все сильнее. У Олкотт все сироты в конце концов счастливы, мальчики и девочки. Они окружены многочисленными родными, друзьями и воспитателями, как и надлежит в истинно сентиментальной литературе. Роза, к примеру, уже на второй странице забывает, что она сирота, и до конца книжки об этом не вспоминает.
А чтобы мы не позабыли о предшественницах Олкотт, давно уже никому не известных, в начале романа сама героиня, Роза, которая обожает читать книги о найденышах, отсылает нас к истории Арабеллы Монтгомери в повести «Дитя цыган»[121]. Есть у Олкотт и куда более знаменитые предшественницы. Многие авторы подчеркивают сходство между книгами Олкотт и творчеством сестер Бронте, считая образ Розы одним из центральных изображений сироты во второй половине девятнадцатого века[122].
Продолжают сентиментальное путешествие сироты романы Сесилии Джемисон «Леди Джейн» (1889) и «Приемыш черной Туанетты» (1894)[123], написанные под немалым влиянием книги Гарриет Бичер – Стоу. Ребенок – сирота оказывается во власти злых людей – леди Джейн, например, попадает к отвратительной «тетушке» Полине. В конце концов все оканчивается благополучно: найдены друзья и защитники, появляется богатый дедушка. Воспитанный бедной мулаткой Туанеттой, сирота Филипп, потеряв любимую няню, в конце концов тоже обретает богатство и любящую бабушку. Оба, Джейн и Филипп, любимы всеми, кто вокруг них, кроме, конечно, плохих людей. Вернее, как в «Оливере Твисте», кто любит сироту, тот – хороший человек, а кто не любит – плохой.
Литература этого времени «часто предполагает, что сирота – чем бы он ни был примечателен, живостью или ласковостью, силой воображения или щедростью, – истинное благословение, и любой, находящийся в здравом уме взрослый должен быть только благодарен, что у него есть возможность заполучить такого сироту»[124]. В этом и есть особая роль сироты – преобразить все вокруг, растопить жестокие сердца. В современной литературе такую роль все чаще и чаще занимает «особый ребенок», ребенок – инвалид[125]. Именно ему отведена роль умиротворителя сердец. Такой ребенок заставляет взрослых и других детей в семье объединиться вокруг него, поскольку ему постоянно нужна помощь. Впрочем, и в литературе девятнадцатого века сиротство часто сочеталось с болезненностью, обездвиженностью, невозможностью самостоятельного существования.
Наиболее яркий пример тому – осиротевшая Поллианна из одноименной книги Элеонор Портер (1913), преодолевающая все препятствия исключительно благодаря решимости и силе духа. Поллианна попадает к сухой, неласковой тетушке Полли, которая совсем не рада такой обузе – живой и непосредственной девочке. Кто – то должен перемениться – или Поллианна, или ее тетушка.
В тех ситуациях, когда положено страдать, Поллианна живет, отрицая страдание. Это настолько поражает всех окружающих, что они постепенно включаются в ее игру в радость. В результате сама Поллианна оказывается объектом сострадания выучивших свой урок взрослых. Поллианна помогает всем и каждому в городке, а когда с ней самой случилось несчастье, приходит черед помочь ей. Нравственная сила Поллианны такова, что ею заражается целый город. Таким образом, целый город превращается в волшебного помощника. «Как это часто бывает в подобных случаях, многим друзьям Поллианны одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Вот так и получилось, что Харрингтонское поместье, к великому изумлению хозяйки, превратилось в некое место паломничества»[126]. Все эти бесчисленные посетители «уже получили помощь, и их приход к Поллианне вызван их желанием сделать что – нибудь для Поллианны»[127].
Не забудем и о еще одном герое книги, тоже сироте. Это Джимми Бин, местный мальчик, и ему очень трудно найти дом, где бы его согласились принять. Но не в привычке Поллианны отступать перед трудностями – и усыновитель незамедлительно находится. Джимми, собственно говоря, не является самостоятельным характером и в основном помогает продемонстрировать способность Поллианны к устройству дел окружающих ее людей, включая давнюю любовную историю тетушки Полли. Этой тетушке приходится претерпеть немало изменений – безусловно, к лучшему[128].
Термином «поллианнизм» часто обозначают абсурдный, ни на чем не основанный оптимизм, веру в то, что в этом прекрасном мире все обязательно изменится к лучшему. Несмотря на то что термин стал нарицательным (и чаще всего отрицательным) понятием в английском (американском) языке, несмотря на то что литературоведы критиковали и критикуют «Поллианну» вдоль и поперек[129], эта книга продолжает читаться в Америке, не говоря уже о том, что она зажила новой жизнью в русском переводе.
Немного раньше «Поллианны» была опубликована книга Кейт Дуглас Уиггин «Ребекка с фермы Солнечный Ручей» (1903). Полусирота Ребекка – вторая из семи детей в семье. После смерти отца семейства девочку отправляют в дом тетушек, собравшихся наставить племянницу на путь истинный. В отличие от английских тетушек (о них немного позже), от которых ничего хорошего ждать не приходится, у американских тетушек всегда есть шанс измениться к лучшему. Тетушки поначалу могут быть почти такими же противными, как и заведующие приютами, но они способны к переменам, как мисс Полли, тетушка Поллианны, или другая тетя Полли, тетушка Тома Сойера, которая, оказывается, страшно его любит (что выясняется, стоит ему только пропасть и найтись)[130].
Ребекка, по словам автора, полна пылкости и энергии, а по ее собственным словам, еще и решимости: «Ни за что я не пойду на попятный! Мне страшновато, это правда, но ведь стыдно бежать»[131]. Как ни хочется ей удрать от теток, она все же мужественно остается, понимая, как расстроится мать. Она помогает тем, кому труднее, чем ей, и мало – помалу завоевывает если не любовь, то уважение теток. Однако важнее всего то, как меняется она сама, превращаясь из бойкого сорванца в весьма благовоспитанную и ответственную особу. И «прекрасный принц», притворяющийся поначалу не принцем, а помощником (в классической сказке эти две позиции смешиваются редко, другое дело роман для девочек), незамедлительно появляется на горизонте, хотя ему еще много лет придется ждать своей юной суженой.
111
См., например: Баум Л. Ф. Великий Чародей страны Оз / Пер. с англ. Д. Псурцева, Т. Тульчинской, О. Варшавер. М.: Розовый жираф, 2012. Это совсем свежий перевод; ранее несколько раз переиздавался перевод Т. Венедиктовой. Однако русский читатель познакомился с этой книгой в пересказе А. М. Волкова задолго до появления переводов. В американской традиции не меньшее, а может быть, и большее значение, чем сама книга, приобрел знаменитый фильм (1939) и его жизнеутверждающие песенки.
112
Финская исследовательница Дженнилииза Салминен уточняет, что в перво— начальном пересказе Волкова Элли была сиротой, однако «в издании 1959 года и последующих у Элли есть родители», к которым она стремится вернуться. См.: Salminen J. Fantastic in Form, Ambiguous in Content: Secondary Worlds in Soviet Children’s Fantasy Fiction. Turku: Turun Yliopisto, 2009. P. 112. Ну и, конечно же, Тотошка заговорил.
113
Taylor. Home to Aunt Em. P. 381–385.
114
Nikolajeva M. The development of children’s fantasy // The Cambridge Companion to Fantasy Literature / Edited by E. James and F. Mendlesohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 52.
115
Ibid.
116
Taylor. Home to Aunt Em. P. 386.
117
Sanders. Spinning Sympathy. P. 48.
118
Бичер – Стоу Г. Хижина дяди Тома. М.: Мир книги, 2008. С. 239.
119
Там же. С. 295.
120
Sanders. Spinning Sympathy. P. 53.
121
Gypsy’s Child. Что это за произведение, мне, к сожалению, выяснить не удалось.
122
Более подробно об этой и других американских книгах о сиротах см.: Mills C. Choosing a Way of Life: Eight Cousins and Six to Sixteen // Children’s Literature Association Quarterly. Summer 1989. Vol. 14. № 2. P. 71–75; Mills C. «The Canary and the Nightingale». Performance and Virtue in Eight Cousins and Rose in Bloom // Children’s Literature. 2006. Vol. 34. P. 109–138; Sanders J. S. Disciplining Girls: Understanding the Origins of the Classic Orphan Girl Story. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011.
123
Обе эти книги были переведены на русский язык сразу же после их издания Екатериной Сысоевой. Она же была первой переводчицей «Маленького лорда Фаунтлероя» и сама написала книгу о ребенке, рано потерявшем мать, «История маленькой девочки» (1875–1876). Подробнее об этом см.: Хеллман Б. Сказка и быль. История руской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 104, 230.
124
Nelson C. Little Strangers: Portrayals of Adoption and Foster Care in America, 1850–1929. Bloomington: Indiana University Press, 2003. P. 91.
125
Особо благодарю за эту мысль Екатерину Асонову. Вот примеры такой литературы: Дрейпер Ш. Привет, давай поговорим / Пер. с англ. О. Москаленко. М.: Розовый жираф, 2013; Паласио Р. Дж. Чудо / Пер. с англ. А. Красниковой. М.: Розовый жираф, 2013.
126
Портер Э. Поллианна / Пер. с англ. А. Иванова, А. Устиновой. М.: Энас – книга, 2013. С. 189.
127
Sanders. Spinning Sympathy. P. 51.
128
Есть у «Поллианны» и продолжение, «Поллианна вырастает». Там один из героев тоже сирота – мальчик – калека Джейми.
129
Mills A. Pollyanna and the Not So Glad Game // Children’s Literature. 1999. Vol. 27. 1999. P. 87–104.
130
Интересный разбор роли тетушек в воспитании сирот предложен в уже упомянутой статье: RJ. The Orphan Perspective: A Critique of Society and Education.
131
Уиггин К. Д. Ребекка с фермы Солнечный Ручей. М.: Глобулус; НЦ «Энас», 2008. С. 21.