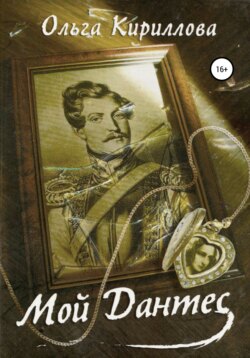Читать книгу Мой Дантес - Ольга Кириллова - Страница 5
Февраль 1989 года
ОглавлениеВсе началось с желания прочитать те издания, в которых упоминалось имя боготворимого мною Пушкина, благо в библиотеке Лебедевых они занимали целый стеллаж.
Как-то, изучая воспоминания В. А. Соллогуба, я споткнулась о фразу, которая показалась мне несколько странной.
– Софья Матвеевна, – нетерпеливо позвала я. – А вы помните историю, рассказанную Соллогубом? Ну, о том, как Пушкин впервые прочитал ему свое письмо к голландскому посланнику Геккерену?
– И что тебя в ней заинтересовало? – Вдова неторопливо вплыла в библиотеку.
– Соллогуб пишет, как через несколько дней после бала у Салтыкова, на котором была объявлена свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой, Пушкин пригласил его в свой кабинет. Вот послушайте: «Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте».
– Ну и? – осторожно спросила Софья Матвеевна.
– Почему поэт постоянно называет барона Геккерена стариком?
– А, по-твоему, старого человека возбраняется называть старым? – лукаво улыбнулась Вдова.
– Нет, конечно, – недовольно фыркнула я. – Если бы не одно «но». Геккерен родился в 1792 году, а Пушкин – в 1799. Разница – семь лет. Как можно назвать стариком человека, который старше тебя всего лишь на семь лет? Воспоминания Соллогуба относятся к концу 1836 года. Значит, Пушкину тогда было 37, а барону 44. Да это и разницей считать нельзя. Я бы поняла, назови он стариком Жуковского или семидесятилетнего в ту пору Карамзина. Но Геккерена? Даже своего друга Петра Андреевича Вяземского так не называл, а ведь он ровесник барона. Софья Матвеевна, ну почему?
– Наверное, потому, деточка, что словом можно очень больно ударить, унизить, выказать свое пренебрежение.
– Пушкин не мог так поступить! – горячо возразила я. – Он был необыкновенным человеком!
– Необыкновенным поэтом, – спокойно поправила меня Вдова. – Гением? Да. А человеком… Кстати, знаешь, что написал Дантес уже после дуэли?
– Что? – испуганно спросила я, словно предчувствуя, как моему поклонению будет нанесен первый удар.
– Он написал, что люди, обвиняя его в смерти поэта, не пожелали отделить человека от таланта.
Софья Матвеевна встала с дивана, подошла к стеллажу, порылась в книгах, полистала одну из них и протянула мне.
– Для начала прочти вот эту страницу. Письмо Дантеса полковнику Бреверну от 26 февраля 1837 года.
Я положила книгу на колени, все еще не веря, что такому персонажу как пренебрежительно называемый всеми «Жорж» может найтись хоть капля оправдания.
Дантес писал:
«Это случилось у французского посланника на балу за ужином… Он (Пушкин) воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я Вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими… В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы… Я вам даю отчет во всех подробностях, чтобы дать Вам понятие о той роли, которую играл этот человек в нашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта…»
– «…отделить человека от таланта», – невольно повторила я, пытаясь вникнуть в суть прочитанного.
– А теперь послушай следующее. – Софья Матвеевна раскрыла очередную книгу. – Это отрывок из послания государя императора Николая 1, которое он отправил своей сестре, великой герцогине Саксен-Веймарской Марии Павловне в феврале 1837 года. «Событием дня является трагическая смерть Пушкина, печально знаменитого, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом что она не была решительно ни в чем виновата. Пушкин был другого мнения и оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен…»
– «В числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной», – медленно повторила я и, затаив дыхание, спросила. – А что ответила на это герцогиня?
– Буквально следующее: «То, что ты сообщил мне о деле Пушкина, меня очень огорчило: вот достойный сожаления конец, а для невинной женщины ужаснейшая судьба, какую только можно встретить. Он всегда слыл за человека с характером мало достойным наряду с его прекрасным талантом».
– В школе мы такого и близко не проходили, – растерялась я.
– Ах, Лизонька, вы многого не проходили, – печально заметила Вдова. – А между тем, в русской истории не счесть заведомо искаженных личностей. Одних возводили в кумиры, других низвергали до положения врагов. Это очень просто.
– Просто? – удивилась я.
– Как бы тебе подоступнее объяснить? – Софья Матвеевна на секунду задумалась, потирая пальцем переносицу. – Представь, что ты собираешь данные о каком-либо человеке. Беседуешь как с его друзьями, так и с недругами. Друзья, конечно же, восхваляют, а недруги хулят. Потом, в зависимости от того, какую цель ты преследуешь, убираешь или восторги или хулу. Хочешь вознести человека – оставляешь положительные отзывы. Хочешь уничтожить – наоборот.
– Какой-то однобокий подход, – недовольно пробурчала я.
– Именно! Наша страна десятилетиями, если не веками, жила по принципу «Гений гениален во всем, даже в отношениях с банной мочалкой, а в личности намеченного врага не может и не должно быть ни капли человеческого».
– Как же во всем разобраться? – вконец растерялась я.
– Читай, сопоставляй, анализируй, – посоветовала Вдова.
– А у вас есть хоть какой-нибудь портрет Дантеса? – неожиданно вырвалось у меня.
Софья Матвеевна вновь поднялась с дивана, подошла к полке с книгами, пробежала пальцами по корешкам старинных изданий, достала и протянула мне огромный темно-зеленый том с вытертой по краям матерчатой обложкой и золотыми вензелями.
– Это повторное издание «Альбома Пушкинской выставки 1880 года», выпущенное ко дню пятидесятилетия со дня смерти поэта в 1887. Здесь два портрета Дантеса. Первый относится ко времени его пребывания в Петербурге, второй написан в 1844 году. Кстати, обрати внимание на последний абзац страницы, что напротив портрета.
Я открыла названную страницу и, запинаясь о непривычное написание, медленно, чуть ли не по слогам, прочла:
– «Пушкинъ и Дантесъ познакомились, обЪдая вмЪстЪ за общимъ столомъ ресторана Дюме, и понравились другъ другу. Вращаясь въ одномъ и томъ же кругу, они встрЪчались почти ежедневно, и между ними установились шутливые отношенiя, которыя и продолжались до лЪта 1836 года».
– Обрати внимание на фразы «понравились друг другу» и «между ними установились шутливые отношения», – вкрадчиво произнесла Вдова. – Значит, врагами они стали не сразу. К сожалению, об отношениях будущих дуэлянтов того времени практически ничего неизвестно. Словно кто-то специально вымарал листы из прошлого. Почти все оставшиеся воспоминания написаны уже после роковой дуэли. Но что-то же дало повод Венкстерну – автору данных строк, написать именно так. Подумай. Не буду тебе мешать.
Софья Матвеевна направилась к двери. И тут меня осенило:
– А откуда вы все это знаете? Тоже занимались историей Дантеса?
– Не я – супруг. Я была лишь благодарным слушателем его изысканий, – грустно произнесла Вдова. – Согласись, трудно искать что-то, находить и не иметь возможности поделиться найденным. Он мог откровенничать только со мной. Я хранила все его тайны.
– И рассказали о них мне? – испуганно прошептала я.
– Другие времена, Лизонька… Другие времена…
Дверь за Вдовой бесшумно закрылась. Я осталась один на один с портретом того, кто поднял руку на Гения.
Изображение Дантеса не было цветным, но оно не было и черно-белым. Листы старинного альбома изменились от времени, приобретя оттенок потускневшего дерева, отчего портрет Дантеса казался объемным.
Высокий лоб, пышные волны волос, аккуратно подстриженные усы, четкий красивый нос, мягкий овал с едва заметной ямочкой на подбородке, глубокие миндалевидные глаза, одна бровь чуть приподнята, что придает лицу скорее уверенное, нежели гордое или надменное выражение.
Дантес, бесспорно, был хорош собой. Но помимо внешности в нем чувствовалось нечто невольно притягивающее.
Ах, да, поняла. Завораживающей силы взгляд. Открытый, спокойный. И совершенно не подходивший к привычным для нас книжным эпитетам, которыми повсеместно награждали Дантеса – «болтливый, самодовольный, хвастливый». Все это как-то не сходится.
Ну, что ж, Елизавета, будем читать, анализировать, сопоставлять. Как советовала мудрая Вдова.
Она же зародила во мне сомнение, процитировав однажды Лабрюйера: «В смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы».
А не искал ли Пушкин громкого конца намеренно?