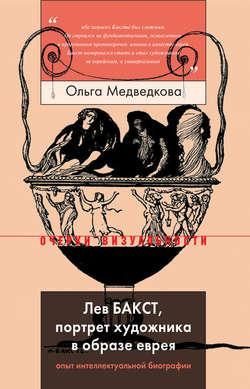Читать книгу Лев Бакст, портрет художника в образе еврея - Ольга Медведкова - Страница 4
Предисловие
Портрет художника в образе еврея
ОглавлениеТак, стало быть, я и намерена действовать, а именно бродить в переулках между действительностью и мечтой, между фактами и рассказом о них, где и сплетается личность Бакста, и формируется его многогранная идентичность. Главной темой моей будет при этом его самопонимание и самоопределение в образе художника-еврея. Используя гипнотическую формулу Джойса – A Portrait of the Artist as a Young Man, – можно сказать, что мой замысел состоит в том, чтобы написать портрет художника Бакста в образе еврея: A Portrait of the Artist as a Jew.
Такой замысел в случае с Бакстом мне кажется не только желаемым, но и исполнимым, что редко бывает с подобного рода замыслами.
Ибо Бакст был не только художником, иллюстратором, портретистом, декоратором, костюмером, но и, повторю, писателем и подлинным интеллектуалом. Он учился – даже если спустя рукава – в хорошей петербургской классической гимназии и в Академии художеств, дружил и переписывался с крупнейшими русскими и европейскими философами, писателями, общественными деятелями. Он размышлял и писал о своем искусстве, о своей жизни, личности, корнях и – самое удивительное – о своей идентичности художника-еврея. Он рассказал о том, что считал сущностью этой «разновидности», этого воплощения: художника в образе еврея и, наоборот, еврея в образе художника. Драматические перипетии его жизни высвечивали и лепили этот образ, работали на него. Искусство Бакста, будучи на первый взгляд отнюдь не еврейским – в отличие, например, от искусства его ученика Марка Шагала, – по форме и по содержанию было парадоксальным образом задумано, осуществлено и теоретически осмыслено Бакстом именно как еврейское. Но втайне. Как еврейское, но включая в себя все нееврейское, всю культуру, весь мир. Не имеющее на поверхности ничего общего ни с еврейской традицией, ни с религией, ни с фольклором, и именно потому еврейское.
Ибо замысел Бакста был сложным. Он строился на фундаментальном и прирученном противоречии: именно в качестве еврея Бакст намеревался стать и стал художником не еврейским, а универсальным. По его мнению, у еврея для этого имелся специальный набор данных, особый подход, нечто вроде ключа, отмыкающего самый принцип универсальности. Что было, например, еврейского в его программной картине «Античный ужас» (1908) или в эллино-эротическом балете «Послеполуденный отдых фавна» (1912), созданном по мотивам стихотворения Малларме и положившем начало новой истории не только балета, но и западной «телесности», в создании которой Бакст сыграл центральную роль? Внешне ничего. Но и эта картина, и этот балет, основанные на греческом, архаическом наследии, были задуманы, исполнены и описаны Бакстом как «еврейские». Как и почему? Ответ на этот вопрос настолько неочевиден, что задавать его обычно избегают.
Первым и практически единственным, кто осмелился задать его, был французский искусствовед Луи Рео, тесно связанный в начале ХХ века с Россией[6]. Будучи сначала германистом, а потом славистом, Рео стал специалистом по всякого рода влияниям одной национальной культуры на другую и вообще по национальным особенностям в искусстве. В своей статье о Баксте, опубликованной в Нью-Йорке в 1927 году, он писал, что Бакст был первым оказавшим влияние на западную культуру художником из России, страны, которая до того была, по мнению Рео, культурно слабой, импортирующей. Повлиял ли так решительно Бакст на Запад потому, что был наименее русским из русских художников? Кое-кто, писал Рео, может увидеть в этом знак его еврейства. Кто-то, но не Рео. Для Рео подлинное еврейство Бакста проявилось в его дистанции по отношению к любому – и к русскому, и к западному современному – искусству и в его обращении к древности, к греческой архаике: «Несложно догадаться, почему Бакст предпочитает греческую архаику суверенной красоте мраморов Парфенона. Мы не видим в этом дани поверхностному увлечению модой и новизной. Подлинная причина этого предпочтения заключается в том факте, что в Микенах и на Крите искусство было насквозь пропитано восточными влияниями, а подлинной духовной и художественной родиной Бакста был Восток. Вдохновленный чем-то вроде атавистического инстинкта, несомненно укорененного в его семитском происхождении, Бакст с восторгом вдыхал эманацию восточного духа, и, мне кажется, Крит был для него только ступенью на пути в Египет и в Персию»[7]. Нам еще неоднократно придется вернуться к этому прозрению Рео.
Что же касается других исследователей, писавших и пишущих о Баксте, для них бакстовское еврейство по сей день остается расплывчатым «нечто», облаком, возникающим и исчезающим на горизонте, никогда не разражающимся ливнем очевидности. И это несмотря на то, что мы располагаем не только предельно ясными размышлениями самого художника на эту тему, но и необходимыми для их понимания интеллектуальными наработками, которые были сформулированы, в частности, внутри движения еврейской эмансипации, от Моисея Мендельсона до Германа Коэна и Мартина Бубера, от Анны Арендт и Гершома Шолема до Левинаса и Деррида. Понадобятся нам и такие мыслители, как Эрнест Ренан, Фюстель де Куланж, Анри Масперо, Жюль Мишле, Аби Варбург. Что же касается непосредственного контекста, то нам в первую очередь придется обратиться к наследию Ницше, к его русским переводам и интерпретациям, к таким философам и писателям, как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Максимилиан Волошин, со многими из которых Бакст дружил и переписывался.
Речь, конечно, отнюдь не идет о том, чтобы проецировать на Бакста модели, разработанные этими мыслителями. В своей оригинальной творческой своенравности Бакст плохо подчиняется таким манипуляциям. Речь идет скорее о том, чтобы выслушать его с наибольшим вниманием и доверием, имея в виду, что проблемы, которые он решал с таким умным чутьем, ставились и решались до него и одновременно с ним другими, часто его друзьями и собеседниками. Уникальность же Бакста заключается в том, что этими другими были главным образом философы, а отнюдь не художники с «неоконченным высшим образованием».
Вот таким доверчивым, но и проверяющим, и сравнивающим слушаньем Бакста – которого, как мне кажется, недоставало до сих пор – я и собираюсь заняться на страницах этой книги. Речь, стало быть, пойдет не столько об увеличении количества новых биографических фактов и материалов (хотя и с таковыми мне серьезно повезло), сколько об улучшении качества слуха и зрения, понимания и интерпретации слов и мыслей Бакста. А в результате и его пластического языка: как стиля, так и иконографии.
Отчасти недопонимание Бакста связано с его полиглотством. Он прожил две жизни в двух странах – в России и во Франции, – а точнее, в двух столицах, в Петербурге и в Париже, читал как минимум на четырех и писал на двух или трех языках. Как это часто бывает с подобными «межбытийными» личностями[8], сложность его понимания в первую очередь просто-напросто лингвистическая, а затем уже и семантическая, и историко-культурная. Это замечание касается, например, самих слов и понятий: еврей и еврейское.
Вскоре после моего переезда в Париж, тридцать лет назад, я спросила у одной французской подруги с характерной фамилией: «Твои родители евреи?» На что она мне возмущенно ответила: «Они французы!» Действительно, произнося слово «еврей» по-русски или по-французски, мы попадаем в два разных семантических комплекса, сложно между собой перекрещивающихся. В России ни о какой политической или социальной эмансипации евреев до 1917 года говорить не приходится. Лишенное элементарных гражданских прав, еврейское население России жило в черте оседлости, не имея возможности ни владеть землей, ни заниматься рядом профессий. Эти ограничения касались только еврейства религиозного. Стоило еврею креститься, как он получал доступ к основным правам русского православного населения. Крещение евреев то всячески поощрялось, стимулировалось, внедрялось насильственно, то подвергалось ограничениям, и принявшие его подозревались в двуличии. Переход крестившегося еврея обратно в иудаизм до 1905 года был запрещен и строго карался. При этом антисемитизм, распространенный во всех слоях русского общества, от самого низкого до самого изысканного, не отличал выкрестов от евреев.
Во Франции же, где Бакст жил сначала в 1893–1899 годах, затем с 1908-го и окончательно – с 1912 года, французские граждане еврейского вероисповедания уже более века обладали всеми без исключения гражданскими правами. Быть евреем во Франции означало только одно: исповедовать иудаизм. На социальный статус это не влияло. Обращение из иудаизма в христианство, распространенное в Российской империи, а также в Австро-Венгрии, Германии (особенно в Пруссии) и Великобритании[9], во Франции было редким и связанным не с какими-либо гражданскими или полицейскими льготами, а главным образом со смешанными браками. Во Франции семантическая оппозиция «католик – еврей», с общим знаменателем «гражданин французской национальности», соответствовала русской оппозиции «гражданин российской национальности и православный – еврей», без какого бы то ни было общего знаменателя. Единственным мостом между двумя ситуациями – русской и французской – был антисемитизм, который задействовал не религию и не политический статус, а «кровь», то есть набор «национальных» черт, физических и поведенческих[10].
В связи с вышесказанным становится очевидным, что и проблемы еврейской эмансипации артикулируются по-французски и по-русски во многом по-разному, как во времена Бакста ее идеологами, так и сегодня ее историками. Самое простое и корректное для всех – свести разговор о «еврействе» к религии или к фольклору. Но именно в этом отношении Бакст нам не помощник. О своей религиозной практике он распространялся мало, со всей очевидностью считая эту область интимной, закрытой от постороннего взгляда. Мы, по всей видимости, никогда не узнаем, где, как, в какой степени Бакст был религиозным иудеем, и нам следует тактично с этим смириться. Это отнюдь не отменяет еврейскую проблему, а, напротив, помогает верно поставить ее, ибо Бакст прекрасно писал о том, что он сам называл еврейским миросозерцанием и еврейским искусством. И даже если с академической точки зрения такие его размышления могут быть объявлены нонсенсом, они нам будут здесь важнее этой самой точки зрения.
Руководствуясь, стало быть, как пристальным источниковедением (его нам не избежать), так и исторической интуицией[11], мы за Бакстом и последуем, и будем считать и называть «еврейским» то, что он таковым называл, даже если это его «еврейское» больше напоминает греческую архаику, ориентализм или Ренессанс, даже если другие художники его времени использовали сходный эстетический дискурс или визуальный язык, в частности обращение к греческой архаике, никоим образом ни к какому еврейству не отсылая, как, например, делал – правда, несколько позднее Бакста – хорошо знавший его творчество скульптор Бурдель (1861–1929). Ибо этот очередной возврат к античности – спровоцированный, как и прежние, эпистемологическими сдвигами, главным образом связанный с ницшеанством, а также с археологическими откровениями, в частности раскопками Шлимана и Эванса, – был субъективно пережит Бакстом как его собственное открытие, обусловленное его еврейскими корнями.
Историк, следующий за Бакстом, снова оказывается, таким образом, лицом к лицу с «межбытием», на границе между объективностью и субъективностью, и именно в этом пограничном пространстве я, как и было сказано выше, обоснуюсь. Ибо эта заброшенная территория и есть, по моему мнению, пространство еврейской – и, что еще осложняет дело, русско-еврейской – эмансипации.
6
Olga Medvedkova, «„Scientifiques“ ou „intellectuels“? Louis Réau et la création de l’Institut français de Saint-Pétersbourg», Cahiers du Monde russe, 43/2–3, avril – septembre 2002. Р. 411–422; id., «L’invention de „l’expansion de l’art français“ par Louis Réau (1881–1961)», Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe [en ligne], mis en ligne le 23/11/2015.
7
Louis Réau, «Leo Bakst, Renovator of the Modern Art», Inedited Works of Bakst, Essays on Bakst by Louis Réau, Denis Roche, V. Svetlov and A. Tessier, Brentano’s, New York, 1927. Р. 44. Мой перевод с английского; все переводы цитируемых в этой книге французских и английских текстов – мои.
8
Я заимствую здесь выражение Деррида «étant entre» в его книге La Vérité en peinture (Правда в живописи).
9
И. Чериковер, «Обращение в христианство», Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона (далее – ЕЭБЭ), т. 11, СПб., 1911, стлб. 884–895. Это 16-томное, исключительное по качеству статей энциклопедическое издание, созданное на основе нью-йоркской Еврейской энциклопедии и выходившее в 1908–1913 гг. в Петербурге, будет здесь одним из наших важнейших помощников для понимания синхронного еврейского контекста.
10
Pierre-André Taguieff, L’Antisémitisme, Paris, PUF, 2015. Для понимания французского антисемитизма, в обществе, в котором вращался во Франции Бакст, очень помогает чтение Пруста, в частности его Германтов.
11
О философской интуиции см.: Xavier Tilliette, Recherches sur l’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Paris, Vrin, 1995. Об исторической интуиции в рамках феноменологического дискурса см. работы Карла Ясперса и Поля Рикёра. В рамках микроистории: Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes et traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.