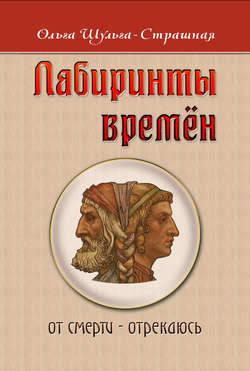Читать книгу Лабиринты времен - Ольга Шульга-Страшная - Страница 11
I часть
От смерти – отрекаюсь
1378 год
ОглавлениеРвали в клочья тело русской земли. Рвали и свей, и литовцы, но больше всех доставалось русичам от татар. Мнилось многим – отдохнёт земля от набегов после смерти Чингиза. Но в Золотой Орде сменялся один властитель за другим, а русскому народу от этого было год от года все хуже. Каждый новый хан, как голодный пес, набрасывал один аркан за другим, все туже затягивая петлю на шее Руси. И если бы только этими бедами можно было наполнять чашу страданий народа! Ан нет… хуже тех бед было раздирание государства изнутри. Как в воду смотрел Ярослав, когда более трехсот лет назад предупреждал избранных воевод, что еще долго каждый князь будет мнить себя главным и единственным владетелем земли русской. И еще долго будут они раздирать родную землю и родной народ. Потому и полагался он на своих воевод, которые третий век чтили Ярославовы заповеди, защищая землю русскую от набегов и с запада, и с севера, а пуще всего – с востока. И мнилось им, что еще долго не будет опоры им ни в одном из князей русских.
Но вот минуло время, и породила земля русская Великого князя Московского – Димитрия. Внук Ивана Калиты, похожий на деда, как вторая капля, Московский князь собирал вокруг себя всех, кто только желал встать под его руку. А теперь виделось – и под крыло. И как ко времени подобрались вокруг него друзья-воеводы! Как нужна была ему их опора! Но самолюбив был Митя с детства, и к своему старшему другу – воеводе Юрию Бобрину – испытывал ревность небывалую. Всё думалось ему: стоит за Юрием сила тайная и несравнимая с его силой, силой князя Великого. А пуще этой непознанной силы завидовал он уму и знаниям Юрия Бобрина. Тот знал и языки заморские, и тайные знаки путеводные, читаемые им по звездам. И знания военного дела были несравнимы со знаниями его, Димитрия. Иногда холодок пробегал по спине Великого князя, когда думал он, что, стоит только захотеть Бобрину, и тот сможет власть к рукам в одночасье прибрать. Но и удивлял Юрий своего высокоставленного друга нежеланием выпячивать ни знания свои, ни возможности. И не было в нем ни жажды власти мирской, ни жажды славы. Скромен был и незаметен Бобрин в окружении Великого князя. Он исподволь, как дитю неразумному подсказывал Димитрию правильные решения. И со временем Димитрий так проникся единением Руси, что мнил эти мысли своими.
А на востоке созревал новый хан, Мамай. Ему для полной власти не хватало еще одной победы, – одной только победы, которая окончательно должна была сломить Русь и на века поставить ее на колени. И тогда вся власть в Орде будет принадлежать ему одному, Мамаю. Ему – одному. И столь слабым казалось ему русское воинство, разобщенное междоусобными драками, что послал он для этой последней битвы друга Бегича, высокомерно считая его силы достаточными для разгрома ненавистного Димитрия Московского.
* * *
– К Ярому… – шепот был почти неслышен. Тихохонько скрипнула дверь, и гонец, не снимая запыленных мягких сапог, только торопливо стянув с головы шапку, с поклоном вошел в маленькую светлицу. Ярый, оторвавшись от писания, поднял голову.
– Княже, от передовых отрядов я. Татары подошли к Боже.
Ярый встал и в волнении провел рукой по густой округлой бороде. Его синие, как весеннее небушко, глаза затревожились, и синь их стала еще гуще, еще темней.
Весной он приказал расставить заставы на подступах к Боже. Сердцем чувствовал: быть этим летом беде. И Свои седьмого дня прислали из Орды весть – Мамай послал на Русь Бегича.
Ярый велел седлать себе коня. Вестник, выполнив свою работу, спустился в поварню и, едва похлебав щей, тут же за столом и уснул. Ярый в окружении дружинников поехал на великокняжий двор. Москва шумела, строилась. Каменный кремль красовался крепкими, как глыба, стенами. И первые башни уже подымались, гордо обозначив границы кремля. А от башни до башни вырисовывался кремлевский простор, издалека похожий на распахнутое знамя. Москвичи и пригретый чужой люд – все трудились под десницей Дмитрия. Каждый норовил поймать свою новую долю на новом месте. Казалось – вот она, счастливая судьба. Кто ей теперь может помешать? Хлеб – родит, бабы – родят, Димитрий – милостив, зазря никого не забижает. Кто хочет строиться – вот он, лес: бери – не хочу. Только ленивые да обиженные в эти годы своего дома не срубили. Знамо дело: лень да обида – первейшие помощники в грехе да в нищете. Бобрин ехал скоро, но не забывал полюбоваться на новостройки. Отовсюду пахло смолой и свежей щепой. Девки и бабы, выглядывая из-под широких рукавов, лукаво щурились на красивых всадников. Юрий усмехался, а в сердце пело только одно имя – Любавушка. Молодая женка еще только два года как в его тереме обустроилась. Но так прижилась и в тереме, и в сердце воеводы, что никак не мог он понять, чем жил до встречи с нею… Неужели одной только ратью? Одна беда была – Бог детушек пока не давал. И виноватилась в этом Любавушка… так виноватилась, что смех ее все реже рассыпался по светлым хоромам. Как птаха с подбитым крылом бросалась на каждого дитенка, которого на своем пути завидит. И каждому доставалось от нее и медового пряничка, и ласкового словца. Тесть, Новгородский воевода Севрюков, винился. Знал, что нельзя Ярому без потомства оставаться. И уже на Совете подумывали, не отправить ли Любаву в монастырь, открыв тем дорогу другой жене, уже подысканной в лесистой Брянщине. Но Юрий своего слова еще не сказал, не желая расставаться с полюбившейся ему Любавушкой. Однако наперед знал: если через малый срок не зачнет его жена, придется послушать Совет и разжениться. Ведь мало родить сыновей и дочерей, их еще вырастить надобно успеть да выучить всем наукам, тайным и привычным для всех воеводиных отроков и отроковиц. Время жизни было недолгим – едва успевали передать все знания и зароки для грядущих потомков.
– Эх, Любава, Любава… – князь и не заметил, как произнес имя жены вслух. Хорошо еще, что конники его поотстали. Знали они, что воевода Бобрин любил впереди всех в кремлевские ворота въезжать, один.
Дмитрий стоял на расписном крыльце, одетый в простую полотняную рубаху, подпоясанную таким же простым витым поясом. Любил княже одежду просторную и удобную, часто выходил на люди с непокрытой головой. Но простоту эту никто за слабость и недоумие не принимал. Уже привыкли все, что делами и рассудительностью, а не красованием славился их князь.
– Рад видеть тебя, Юрий! Ко времени ты поспел, сейчас снедать будем. – Дмитрий никогда не скрывал своего чревоугодия. Любил князюшко поесть много и вкусно, и гостей хлебосолить тоже любил от щедрости своей душевной.
Бобрин спешился, бросив узду подоспевшему отроку. Он легко, как будто не был тяжел и велик, поднялся к князю.
– Здрав будь, княже. Вести у меня… – Он сразу же поймал тревожный и серьезный Митин взгляд. Друзья повернулись и через миг уже скрылись в темных прохладных сенях. Поднявшись в свою светлицу, князь кивнул на скамью под образами и сам сел рядом.
– Времени нет рассиживаться, княже, совсем нет. Орда у русской земли стоит. Пока отдыхают, сил набираются, но вот-вот покроют собой всю землю до Москвы. Не успеем во время подняться – одолеют.
До позднего вечера судили и рядили два друга, как оборониться от Бегича. И в который раз Дмитрий внял совету Юрия: чем ждать да отбиваться, лучшей всего самим застать ворога врасплох. И порешили с этого раза бить татар их же оружием: и войско подковой ставить, и нападать со всей шири, сминать и давить, пока совсем не рассеются по полю незваные гости.
За три седьмицы собрали дружину. Благо, уже убрано было сено, а хлеба еще не вызрели. Жены и невесты привычно глядели вслед уходящим мужьям и женихам, прячась по-над рукой от солнца и пряча от стороннего глаза слезы. И воеводина Любавушка стояла на расписном крылечке, пряча от всех свое распухшее от слез лицо. Намиловаться и нарадоваться на мужа не успела, как он умчался со своей дружиной, приказав строго-настрого из Москвы да и со двора никуда не отлучаться. Крепко поцеловал в родимые губы, заглянул в любимые очи и сказал коротко:
– Жди.
* * *
Речка Вожа местами была широка, а местами – глубока и бурлива. Татарское войско подошло к ней во второй половине дня, когда солнце уже перевалило через жаркий ленивый гребень зенита. Сердце Бегича тревожно сжималось, непривычно и неуютно было ему, как будто только сейчас почувствовал, что он здесь – гость чужой и непрошеный. А на непрошеных гостей хороший хозяин всегда спускает своих верных псов. Но Бегич знал, он хотел верить, что Дмитрий – плохой хозяин. Небось, уже от страха из Москвы сбежал, а сам навстречу мамаеву войску подарки выслал и моления о пощаде. Распаляя в себе злобу, ехал Бегич и мечтал, как опрокинет обоз с подарками и поскачет дальше и дальше, чтобы забрать свое, большее. Потому как – что такое Русь, если не послушная татарская вотчина? Сколько помнит себя Орда – столько питается от земли русской. Не будет питии этой – не станет и Орды. Это Бегич понимал хорошо.
Шумное войско, переправившись, наконец, через Вожу, стало перестраиваться, чтобы перевалить за едва заметный взгорок и лавиной кинуться на простор земли русской. Но когда поднялись всадники на невысокий берег реки, открылась им страшная по своей красоте и величию картина. Чуть вдалеке и значительно выше их, на просторном косогоре, стояло, широко раскинув крылья, русское воинство. Стояло какой-то последний, страшный миг, и вдруг рухнуло всей своей золоченой от солнца лавиной, сметая и раздавливая еще не опомнившееся после переправы татарское войско. Доспехи звенели, сминая в кучу тела людей и лошадей, всадники покатились вперемешку с лошадьми по откосу назад – в Вожу. И русская река, как будто сговорившись с княжьим войском, покрывала с головой тяжелых и беспомощных чужеземных воинов. Только когда тела их лошадей и их самих в достатке устлали дно реки, только тогда остальные, совсем немногие, смогли перебраться на другой берег. И мчались они, не разбирая дороги, мчались с небольшим передыхом, растеряв весь обоз и все свое добро, весь скот и своих жен и детей, мчались, чтобы спастись самим и донести до Мамая страшную и непонятную весть: Московский Димитрий разбил войско Мамая, а его верный Бегич растаял на русских просторах без следа. И тот, кто видел его в последний раз, навсегда запомнили его ставшие вдруг круглыми, как выдавленные страшными мыслями, глаза. И в глазах этих была покорность ужасной смерти. И еще была безнадежность. А к безнадежности Орда привыкать не хотела.
Мамай визжал так, что во всем дворце его не осталось ни одной души, не свернувшейся от страха. Он в этот же день велел собирать новое войско, цепляясь за последние уходящие летние дни. Но Спас был только у русских, и Он защитил непогодою Русь: ранняя осень, покрывшая траву молодым колким льдом, стылые ночи и серые промозглые дни сопровождали Мамаево войско до самой границы с Русью. А там стало совсем худо. Войско роптало, Чингизовы потомки, избалованные роскошью и негой в Сарае и почти насильно поднятые в поход, как ярмо мешали Мамаю двигаться вперед. Войско, прислушиваясь к их ропоту, тоже все чаще оглядывалось назад. Никогда еще в сердце Мамая не было столько ненависти. И он уже не знал, кого он ненавидит больше: русичей, неизвестно как разбивших его лучшие отряды, или растративших боевой дух своих соплеменников. И то сказать, сколько уже десятилетий разбавляли густую и злую кровь монголов кровью славян, окрашивая их волосы в нежный соломенный цвет и делая глаза голубыми и круглыми. Куда не оглянешься, везде то и дело высились над татарской конницей дети и внуки русских пленниц. И ноги у них были стройны, и плечи широки, не в пример кривоногим и щуплым степнякам.
И в ночь, когда нужно было выбирать направление, сдался и холоду и своей тревоге Мамай. Решил зачерпнуть Рязань, беззащитную в своей гордыне перед Москвой. Зачерпнуть полной своей рукой и откатить назад, в степь. Откатить, чтобы через год-два, собрав все силы, свои и наемные, накрыть лавиной ненавистную Москву с ее Дмитрием, возомнившим себя царем всей земли русской. Он знал, что Рязань стоит в особицу, не протягивая Москве руку в единении Руси. И хотя князь тамошний, худославный среди русичей, но принимаемый в орде, как родной, Олег Рязанский, вины перед Мамаем не имел, расплатиться ему пришлось за все порушенные Мамаевы надежды. Рязань, едва отстроившись от пятилетней давности порухи, опять была сметена с лица земли русской, обагрив кровью рязанцев свои улочки и переулки. Один только князь Рязанский успел спастись вместе со своею казною. И погодя воротился на родное пепелище. Воротился в который раз. И гневались рязанцы в досаде на то, что не идет их князь под крыло Дмитрия московского, который обещал всем землям и всем русичам защиту и единение против татар. И в который уже раз застучали над пепелищами топоры, заново отстраивая родной город. И не было в этом стуке ни радости, ни надежды.
Мамаево войско, нагруженное добром рязанских дворов и рязанского кремля, сыто откатило назад. И голоден был один Мамай, и голодно было его сердце. И тешил он свою злобу и свою ненависть, тешил и мнил, чтобы через год-два собраться и свершить, наконец, смерть над Русью и над ненавистным Димитрием.
* * *
Княжья дружина, возвратившись в Москву после битвы с Бегичем, была встречена народным ликованьем. Ни одна душа не осталась в стороне от праздника. Впервые за всю свою недолгую жизнь Москва гордо праздновала свой верх над ворогом. Шутка ли, первая победа!
Юрий дотемна был на княжьем дворе, разделяя радость и гордость вместе с князем Димитрием. Но не раз и не два замечал он ревнивый взгляд своего друга. Боялся, боялся Димитрий, что вспомнит князь Бобрин свои советы. И тогда часть славы отойдет от Великого князя к нему. И Бобрин привычно отошел в тень, не забывая восхвалять воинский ум и воинскую премудрость Димитрия. Димитрий брови разгладил, и уверенность его в силах своих помножилась. Любил князь, ох любил доброе слово о себе. Да и то сказать, он был первым, взвалившим на себя всё бремя ответственности за судьбу и Москвы, и России. А человечье сердце, оно ведь слабое. И у всякого сердца есть и сомнения, и страх, и растерянность. А вдруг что не так он деет, вдруг не таков должен был быть расчет? И только отец Сергий, усиленно молящийся пред Господом за русскую землю, вселял уверенность в княжье сердце. Он, да еще воевода Бобрин. Да, все-таки воевода…
Юрий возвернулся домой, раскрыл своей боярыне объятья. А она как пташечка забилась, в слезах вся.
– Полно, полно тебе, любая. Вишь, возвернулся я. – Юрий обнял жену и вдруг увидел и почувствовал, что не плачет она, а смеется. И сразу, сердцем почуяв, что к его возвращению уж и подарок готов, подхватил свою ненаглядную и понес в опочивальню. А она, родимая, из рук выскользнула и тихонько так говорит:
– Допреж в баню, а уж потом – утехи… – И столько сладости обещал ее голос, столько неги, что Юрий едва опять не споймал за подол. Но княгинюшка ловка – пырск, и нет ее в светелке. И только в бане, распарившись и распластавшись на широкой лаве, почувствовал Юрий ее маленькую ручку. И коса Любавушки, тяжелой мокрой плетью небольно хлестнувшая его по спине, напомнила давний уговор, что в бане будут любиться, пока старость кости не утомит и чресла не сморщит.
– А не порушим мы дитятко? – тихонько спросил князь жену.
– Не бойсь, не порушим. Ежели я понесла – теперь ни в жизнь не выпущу. Крепко буду княжича держать.
И через семь месяцев после возвращения Юрия подарила Любава ему в этой самой бане сына. И, словно наученная женскому ремеслу, с той поры повадилась каждый год приносить по младенчику. Да каждого в свой черед: год – мальца, год – девоньку. Так и нарожала восьмерых. На Руси ведь испокон веку рожали, сколько Бог давал. И никогда уменья такого не держали – не донашивать приплод или травить его. Простота души – в простоте жизни. Что плохо, что хорошо – народ давно знал. А дети – завсегда хорошо было. Всегда ко двору.
* * *
Свои с тревогой возвещали Ярого о больших сборах в Сарае. И число войск, которое собирал Мамай, день ото дня множилось. Ордынские полки составляли уже малую толику. Много золота пришлось выложить Мамаю, но наймитов набралось к лету 1380 года несметное количество. Казалось, только выступи они – вся земля русская будет изрыта копытами их коней.
Князь Бобрин вместе с Димитрием, с утра и до ночи просиживая в светлице, вели свои расчеты. Они так и так мысленно расставляли свое войско, и всякий раз получалось, что на вторую перемену воинов не хватало. У татар завсегда было две-три перемены войск, они сменяли друг друга, устрашая врага своей кажущейся неутомимостью. И русские, решившие перенять это правило Чингиза против самих же чингизовых потомков, рядили так и эдак, но воинов числом было недостаточно. Клич кинули на всю землю. И отовсюду поднялась помощь: с далекого белоликого севера, из глубин брянских лесов, из древнего Киева – отовсюду шли мужики. И только Рязанский князь Олег, наперекор Богу и своему народу, за спиной Димитрия обещал помощь Орде. И сам Мамай прислал Олегу обещание, что будет отдана ему после разгрома половина Руси, за помощь и верность. А выходило – за предательство.
Вся земля русская поднималась на защиту своего края. Мужики, оставляя косы и серпы в руках жен и малых отроков, собирались к княжьему двору. И среди них нет-нет, а и мелькали рязанские мужики. Уходили они под крыло князя Димитрия, простым своим сердцем разгадав зло Олегова предательства. И, не мудрствуя лукаво, обезлюдели они тем все войско князя Рязанского. Да так обезлюдели, что метался он по светелке, не зная уже, куда податься: то ли прощенья у Дмитрия просить, то ли от гнева Мамаева в Литве скрываться.
Оружия и доспехов Димитрий приготовил изрядное количество. Всем нашлась и кольчуга, и славный меч. Самолично князь принимал от купцов товар иноземный, и от своих оружейных дел мастеров. Когда пришла весть, что Орда приближается, послал Димитрий вперед основное войско. А сам, еще раз просчитав с Бобриным всю расстановку, последовал со своей княжьей дружиной вослед. И выходило по их расчетом, что придется брать им татар не столько числом, сколь мужеством. По числу русского войска было менее, чем ордынского. А Бобрину выходило ждать в запасе, ждать со всей своей отборной дружиной, – ждать, чтобы в самый переломный миг наступить на горло врагу и не дать захлебнуться битве. И знал только один Юрий, что среди дружинников каждый десятый – Свой. И пощадить бы для грядущего века должно ему посвященных… И знал он, в тот же час: грядущего века может и не статься, если вот сейчас, на этом поле, не выдержит русская дружина. Своей властью только одно упредил Ярый: оставил на страже Москвы тех Своих, которые были еще не женаты или еще не имели детушек. Выкорчевывать народ свой избранный он не хотел, чая большие дела в грядущих веках в защите земли русской. Но холостых и бездетных набралось едва ли два десятка. Плодовитостью и хорошими женами наградил Господь семя всех воевод, собранных когда-то под десницей Ярослава.
Маленькая река Непрядва, впадая в Дон, шумела и радовалась, как живая. Долгий путь пришлось ей проделать до встречи с могучим и широким Доном. Обнимались их воды и перемешивались, с удивлением наблюдая остроконечные тени на своих волнах. Это шеломы русских воинов, выстроившихся по-над берегом, высились, как ограда для земли русской. А за лесом, прячась от чужих глаз, стояла конница воеводы Бобрина. Стояла и ждала своего часу, чтобы внезапно, по Чингизову уменью, нанести свежий смертельный удар по уставшему ворогу. А сейчас, когда татарское войско еще не перевалило за косогор, все стояли твердо, как в землю вкопанные. И земля эта была чужая, а своя, родимая, пряталась за их спинами да за Доном, который сторожко ждал своей доли: то ли Орде ему служить, то ли русских детей на своих волнах качать.
И, как в битве с Бегичем, вся лавина Орды, вылившись из-за холма, на миг остановилась. Огромным орлом раскинулось на поле Куликовом сверкающее воинство русичей. Тяжелые, шитые золотыми крестами знамена колыхались на слабом ветерке. Золоченые шеломы воевод и князей сверкали островками то тут, то там… Непривычно страшно и зябко стало многим татарам и наймитным воинам, как будто предчувствие смерти пробежало между лопатками и ударило ледяной стрелой в затылок. Но у каждого еще теплилась жадная мысль о добыче и надежда, что только сосед справа и слева, спереди и сзади падет от жгучей стрелы, и не твоё плечо развалится от сверкающего меча. И каждый народ молился при этом своему богу. Но Спас, Животворный и Верный Спас был только у русичей. И этим был определен исход битвы и исход истории.
Многозычный рев русских труб смешивался с криками мамаевых воинов. Привыкшие задолго до битвы пугать врага своими голосами, ордынцы и сейчас привычно раздирали рты в диких криках, устрашающих едва ли не более чем их нескончаемое – до горизонта – войско.
Две лавины стали медленно сближаться, мощными плотными рядами надвигаясь друг на друга и мечтая раздавить и навеки смять ворогов. Но внезапно и трубы и крики смолкли: могучий, как молодой бык, Челубей, – Мамаев любимчик и гордец, – выехал на своем немыслимо огромном коне. Его безволосая грудь, прикрытая звенящей кольчугой, дыбилась под ней, без страха показывая себя русским мечам и копьям. Подхватив у кого-то на ходу длинное копье, он проехал перед застывшим строем русичей, гневно вращая черными, как сама ночь, глазами. И столько злобы и презрения к врагу исторгалось из тех глазниц, что, казалось, смерть от них могла настичь любого, слабого духом. И слова, дерзко и презрительно бросаемые Челубеем русскому воинству, вызывали на смертный бой любого, кто посчитает свои силы равными его, Челубеевым силам. На страшные мгновенья, как тяжелые капли стекавшие сквозь лабиринты времен, замерло все войско московское. Не страшно умереть вместе со всеми на поле битвы, но страшно пасть первым. Однако недаром говорят, что на миру и смерть красна. Да что – красна! Не за смертью должен был идти воин навстречу Челубею. Не за смертью, но за победою! Не должны были ордынцы осилить русичей в этом поединке. Иначе падет дух воинский еще до начала сечи. И в тишине, как уже на мертвом поле, вдруг зацокали копыта тяжелого коня. Сергиевский инок, охранник и защитник старца, Александр Пересвет подъехал к Димитрию и с поклоном попросил:
– Дозволь, княже, мне поднять против ворога копье. Спаситель поможет мне одолеть его силу и вдохнуть дух победный в наше воинство. Есть на то для меня благословение отца Сергия.
Димитрий, глянув на распахнутый ворот простой рубахи, увидел грудь, такую же могутную, как и Челубеевскую, и увидел, что разнятся эти два богатыря только оберегами: на Челубее – кольчуга, сотканная умелыми ордынскими кузнецами, а на Александре Пересвете – большой нательный крест:
– Не забоишься смерти-то?
– Смерти-то? – озорно ответил Александр. – А от смерти я, княже, отрекаюсь!
– С Господом! – воскликнул князь.
Инок обернулся, ища глазами своего молочного брата – Ивана Рокота, тот в поддержку брату лишь слегка шевельнул могучими плечами.
– Эгей, братушко, пособишь, ежели что?
– Пособлю, – басовито прогудел Рокот, наверное, и прозвание своё получивший за зычный голос.
И узкая щель между войсками превратилась в арену. Замерли воины с одной и с другой стороны, на миг забыв сверлить друг друга грозными очами. Каждый видел только тех двоих, которые должны были показать противнику силу свою и вознести силу духа своего войска. И высились эти всадники, видимые далеко вокруг. И все знали и чувствовали, что вот сейчас будет знак свыше. Знак, чей верх будет в этой страшной сече. И разошлись в разные стороны всадники, а потом, застыв на мгновенье, как смерчи понесли друг ко другу. И грудь Челубея, высоко вздыбившаяся вместе с красивой и крепкой кольчугой, разорвалась под острием русского копья. И хруст костей его слышен был далеко, а алая струя крови, фонтаном брызнувшая и вперед и в стороны на воинов, была той первой кровью, которой суждено было сегодня досыта напоить донские земли. Но только на миг дрогнула Челубеева рука, и уже мертвый, вдохновленный только ненавистью и презрением к никчемному лапотному народу, он, что есть силы, вонзил свое копье в открытую грудь Пересвета. Челубей не увидел и не успел осознать ни своей смерти, ни раны своего противника. Упав с коня, он скоро оказался растоптанным почти без следа на земле русской, отдав ей всю свою кровь и плоть, которая без остатка впиталась в чернозем, чтобы еще долгие века кормить добрым русским хлебушком русских же добрых мальцов и девчонок. А Пересвет, подхваченный руками брата своего, Рокота, и единоверцев своих, с единым прозванием на все века – Христовы, был отнесен далеко назад, за плотный строй одноземельцев своих. Еще долгий час умирал Пересвет, слушая страшные звуки битвы. И рядом с ним стоял на коленях Рокот, закрывая последние минуты жизни своего молочного брата. Закрывая от неосторожных копыт, от яростного движения битвы. И знал Пересвет, что все войско русское надеется и верит, что он остался жив, и что жизнь его послужит залогом грядущей победы. И он очень старался не умереть, и в какой-то миг ему даже почудилось, как он несется вихрем в далекую и незнакомую ему жизнь. Но это действительно была она, его жизнь, которую он должен был прожить, и которая обещала ему все сразу: и любовь, и детей, и счастье, и гордость за землю русскую, сбереженную и его каплей страданий.
И уже не слышал Пересвет, как лава на лаву вскинулись воины, сминая на своем пути все живое, давя и рассекая теплую плоть, вминая копыта в мягкие незащищенные животы упавших и пеших. Трава, устав впитывать густую кровь, слипалась и истекала темными ручейками, соединявшимися в кипящие ручьи, падавшие затем с крутых берегов в Дон. Крик и ор стоял такой, что душу захлестывал ужас. Чужая боль чувствовалась как своя – так много было этой боли, и так мала была надежда остаться в живых. Скоро кони уже не могли передвигаться, скользя копытами по окровавленным кучам тел и ранясь о торчащие осколки костей да о мечи, накрепко зажатые в мертвых уже руках. Русичи дрались с отчаянием последней надежды, зная, что иначе не выживет на Руси никто – ни малый ребенок, ни древняя старуха, ни красивая молодка, ни нищий на паперти. За всех за них билась дружина, выставляя щитом живые тела свои. И ханское войско, движимое одной только жаждой наживы, жаждой власти над чужими жизнями и чужим добром, остановилось в какой-то миг, остановилось… и жизнь дала каждому последнюю возможность взвесить цену этой своей жажды и понять, что выше и жарче жажды жизни нет ничего. Нет и, может статься, больше не будет. Не будет, если не повернуть назад и не скрыться от светлых взглядов русичей. И этот миг, в котором, кажется, замерли даже птицы в небе, дано было уловить Ярому. И кинул он всю свою конницу в самую гущу битвы. И ярости их не было предела, каждый из воинов уложил вокруг себя вдесятеро и вдесятеро больше ворогов, чем простые, необученные ратному делу мужики. Но это была их доля, их работа, их долг. И многие из них полегли в той битве, не успев увидеть, как дрогнувшая конница Мамая откатила и понеслась по холмам, обтекая и тот взгорок, где стоял сам хан, недоуменно и гневно смотря на крупы коней своих воинов. И только некоторое время спустя, увидев развевающееся знамя русичей, вскинулся Мамай на коня и помчался вослед своей коннице. А испуганные кони, завертясь в окружении русских войск, ринулись с берега в Непрядву. И опять кипела над головами ворогов чистая вода, принимая их жизни, смывая даже след их, как будто и не было их никогда. Но число ордынцев было так велико, что и Непрядва захлебнулась и стала выплевывать чужие тела наверх, выстилая ими дорогу на другой берег. И последним, кто должен был проскакать по самой страшной из всех дорог, был Мамай. Но он все еще не верил, что это все, конец, что надежды на победу нет. И конь его, чувствуя неуверенность седока, не стлался, чтобы уйти от погони. И настиг меч Ярого Мамаеву круглую голову и ссек ее с плеч. И в пылу битвы даже не успел осознать, что скатилась сейчас в бурую воду последняя голова некогда непобедимой Орды.
Но битва еще продолжалась, и было еще много врагов, злоба которых захлестнула их желание выжить. Захлестнула так же, как вода русской реки захлестнула отрубленную голову их хана. И был страшный миг, когда Ярый остался один на один с тремя всадниками, которые смертельным хороводом кружились вокруг князя, пытаясь достать его своими сверкающими мечами. Солнце отблескивало от стали, мешая Ярому. Наконец он смог извернуться и отсечь руку самому юркому, брызгавшему в лицо князя вонючей слюной вместе с непонятными злобными криками. Второй всадник, искрутившись вокруг князя на своем черном, как ворон, коне, вдруг застыл на миг, оскалив молодые и крепкие зубы, и упал на гриву коня, подставив закатному солнцу узкую спину с высоко торчащей между лопатками стрелой. И совсем уж облегченно передохнул Ярый, мысля отбиться от последнего ворога, но страшная боль, разрывая тело и разрубая кости от плеча, красным светом застила ему глаза. Ярый знал, что он почти мертв, и больше всего на свете ему хотелось видеть сейчас на прощанье глаза жены и детей, а не этот страшный и яркий красный свет. Он моргнул глазами, голова его зашумела, как от доброго меда, и внезапно Ярый смог оглянуться и упредить удар кривой сабли, занесенной над его плечом. Он рассек ворога надвое, как никогда радуясь наручной тяжести своего меча. Воевода отдышался и приготовился принять свой смертный час. Но тело его не болело и слушалось, как будто и не было ни боли, ни хруста костей, ни горячего тока крови под кольчугой. Ярый глянул себе на плечо и с удивлением увидел разрубленную до пояса кольчугу, под которой ровным рассеченным лоскутом алела окровавленная домотканая рубаха. Но тело… тело под ней было розовым и целым. Князь почти с отчаяние и страхом дотронулся до собственной груди, и ладонь его окрасилась свежей кровью. И крови этой было так много, так много! Но Ярый уже знал, что он жив, что тело его цело, и что с ним случилось чудо. Он растерянно огляделся вокруг себя и услышал, как кто-то позвал его издалека:
– Воевода, княже! – слова дробились и проникали под шлем. И Ярый понял, что всё – одолели!
Поле битвы было покрыто низким и розовым от крови туманом. Густая эта кровь, последний раз пузырясь, вытекала из страшных ран и испарялась, возносясь к небу. И только Сам Спаситель мог разобрать, чья кровь пролилась во славу Его, а чья должна была черным ручьем просочиться в землю и растаять там без следа. И слабые крики, и громкие стоны разносились по полю, прося последнего прощения у Господа и еще жаждая помощи от своих земных собратьев. И Ярый, скользя блестевшими от крови сапогами, ходил по полю, окликая родными именами погибших. И некоторые из них отзывались – кто в надежде исцелиться, а кто в надежде последнего прощения. И каждому Ярый находил слова утешения и гордости за свершенный ратный подвиг. Он всех утешал мыслью, что Спас, благословивший их тайное Братство, примет их с любовью, исцелит и телесные раны, и душевные.
И никак не мог забыть Ярый тот миг, когда кто-то побудил его в разгаре битвы оглянуться и отбить смертельный удар чужого меча. Как будто упредив его, кто-то внутри воскликнул: «Оглянись!». И так это было страшно и сверхъестественно, что Ярый не сразу решился рассказывать об этом. И спасение его было не единственным чудом, случившимся в день Куликовской битвы. Много свидетельств делали потом христианские воины, спасенные и от меча ворога и от жгучей его стрелы. Все восхваляли Господа и Его руку, спасительно вознесенную над Своими детьми. А тем, кому выпали судьбы лечь в этой битве, было подарено прощение и всё, что Иисус обещал, придя на землю. И не знал Ярый, что он был единственным, кого коснулось не небесное чудо, но рукотворное, земное спасение. А за каждый излом судьбы, свершенный не по воле Господней, следовала целая цепь новых поворотов, которым было суждено обратить вспять вмешательство по воле только человечьей. И иногда на это уходило много лет и даже столетий…
Долгие земные лета позволено было прожить Ярому, ему довелось пережить даже многих своих внуков. И каждым он мог гордиться, каждому дана была полная чаша воинского умения и полноты души. И не дано было узнать Ярому только одной горькой правды: из всех его далеких потомков выжили только те, кто был рожден от первых двух детей, зачатых еще до Куликовского сражения. А остальные, рожденные после… Всем им суждено было погибнуть в далекие от жизни Ярого годы. Погибнуть и унести с собой многие семена чужих родов, связавших свои судьбы с рожденными не по воле Божьей потомками Бобрина Юрия.
Но Бог сжалился – не дал узнать этой горькой правды ни самому Юрию, ни Владимиру Ярославичу.