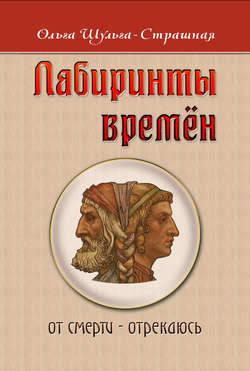Читать книгу Лабиринты времен - Ольга Шульга-Страшная - Страница 13
I часть
От смерти – отрекаюсь
2004 год
ОглавлениеВладимир Ярославич знал, что прорваться в сознание Павла Яковлевича Окаяннова будет непросто. Нейропульсар легко мог проникать в сознание личностей, совершенно не владеющими своим подсознанием и не обладающими такими редкими дарами, как интуиция и телепатия. А он уже знал, что Окаяннов всеми этими качествами обладает. Задача затруднялась еще и тем, что проникнуть в сознание к нему необходимо осторожно, не давая почувствовать присутствие чужой воли и чужих мыслей. Иначе Окаяннов может применить такую защиту, что и собственное сознание может померкнуть, если вовремя не убраться из его личности.
Когда Владимир Ярославич провел первое испытание и проник в сознание боевого командира Сабаева, проникновение оказалось до смешного простым. Нет, Сабаев не был глуп или напрочь лишен интеллекта. Просто самонадеянность его владела не только его поведением, но и разумом. И он даже не почувствовал того момента, когда нейропульсар проник в его мозг и «загрузил» его сознание мыслями и чувствами генерала Пересветова. И Пересветов в один миг увидел и успел осознать опасность. Опасность не столько для него, сколько для тех молоденьких солдат, которые стояли на коленях перед строем сабаевцев. Они, казалось, были так сломлены духом, так покорились своему смертному часу, что чеченцы даже не сочли нужным связать им руки. Один из приговоренных, стоя на коленях, молился, и его лицо было самым осмысленным среди всех. Он тихо, но четко произносил имя Спасителя, и когда чеченцы слышали очередное «Иисус», они начинали громко хохотать. Второй солдатик был смертельно бледен, и брюки его были мокры, он трясся мелкой дрожью, но тело его непроизвольно клонилось к тому, который читал молитву о спасении. Третий был зол, и его ненависть к врагу была выше страха смерти. Казалось, он только ждет удачного мига, чтобы выхватить из чьих-нибудь рук автомат и унести с собой в могилу хотя бы еще одного врага. И этот миг, наверное, вымоленный словами христианина, наступил. Сломленная воля Сабаева свернулась, как придушенная змея, руки его развернули автомат и одной длинной очередью расправились со своими хохочущими единоверцами. Подаренный русским солдатам миг спасения не прошел даром. Тот, кто еще недавно сотрясался в нервной дрожи, уже поднимался с земли, молящийся – усилил свой голос и уже хватал чей-то автомат, а тот, в ком вера в спасение уже переросла в действие, мертвой хваткой держал Сабаева за горло. И если бы он просто пристрелил его, Пересветов вряд ли успел спастись. Но солдат медленно душил врага, почти вырывая из горла его кадык.
Пересветов потом узнал, что спустя два дня эти солдаты смогли добраться до своих. Мало того, они на своем пути освободили еще одного, совсем больного и измученного пытками молоденького лейтенанта. Солдаты толком так и не смогли объяснить, почему Сабаев расстрелял своих. В конце концов, они приняли это за помрачение рассудка, потому что произвести такую длинную очередь нечаянно – немыслимо.
А теперь, перед проникновением в сознание Окаяннова, который сегодня в миру носил скромную фамилию Сидоренко, Пересветову пришлось работать долго и кропотливо. То, что рядом во время сеанса будет отец, успокаивало его. Ведь это он был отцом-создателем этого аппарата, и в конструкции его и в принципах действия не было ничего общего с «Витязем».
* * *
Владимира Ярославича долго готовили. Он терпеливо сидел перед экраном монитора вместе с важным седым полковником из ФСБ, работая с компьютерной базой Братства. Там были данные на всех членов правительства, парламента, ближайшего окружения президента России. И у каждого, да, почти у каждого, был свой «скелет в шкафу». И отличался он от анекдотичного скелета только тем, что шкаф-то чаще всего был служебным.
На Сидоренко, однако, досье было самое скучное. Его прошлое было изложено в нескольких банальных строках, в которых и зацепиться-то на первый взгляд было не за что. И если бы не контроль Своих за каждым шагом советника президента, Братство могло бы не заметить за скромным полнощеким Павлом Яковлевичем с симпатичной украинской фамилией одного из самых опасных врагов России. И то, что у него, на первый взгляд, не было своего «скелета», как ни парадоксально это звучит, не говорило о его кристальной честности и порядочности. Наоборот, это было признаком отличной маскировки.
В помещение, где Владимир Ярославин проходил подготовку, допускался только старый келейник. И когда к нему приехала жена, он понял – настал срок. Они как будто прощались, хотя Василиса Ивановна должна была находиться рядом. Но рядом только с его телом и с тем, кто придет в него. Это было почему-то неприятно. Владимир Ярославин пытался отговорить жену и избавить ее от этих чудовищных переживаний, но она настаивала и даже обратилась с просьбой к отцу. Ярый не счел нужным ей отказывать. Василиса поцеловала мужа на прощанье, прежде чем он лег под стеклянный колпак нейропульсара, и привычно сказала:
– Не бойся, я буду рядом. Я буду беречь тебя здесь, а ты убереги себя там, хорошо?
Владимир Ярославин улыбнулся, кивнул головой и сказал, как когда-то далекий его пра-пра-…дед:
– Жди.
И оба:
– С Господом!
Владимир Ярославин отчетливо помнил свое первое короткое путешествие в чужое сознание. Он навсегда помнил ту минуту, когда оказался в роли чеченского командира и успел спасти жизни российских солдат. Слава Богу, Сабаев в его теле выл от ужаса так, что Ярослав Юрьевич велел поскорее вернуть сына «домой», в его собственное тело, и тем самым спас ему жизнь. И жизнь маленького чеченского поселка, который в чем-то «провинился» перед бандитами и был приговорен к уничтожению, тоже была в этот день спасена. Оглядываясь назад, Владимир Ярославич в который раз думал, что так много порой зависит от одной минуты. Эта минута одним дарит жизнь, а другим – небытие. И сейчас, когда он точно знал, что отправляется в чужую жизнь не на день и не на два, предчувствие неотвратимости судьбы и власти времен как никогда преследовало его.
* * *
Павел Яковлевич Сидоренко не часто мелькал на экранах телевизоров. И даже когда его яйцеобразная голова, украшенная небольшой глянцевой лысиной, появлялась чуть сзади президента, взгляд его не удавалось поймать ни одной камере. Казалось, в его глазных яблоках находилось специальное устройство, позволяющее ему точно определить направление, в котором необходимо смотреть. И это направление никогда не совпадало ни с глазами собеседника, ни с объективом кинокамеры. И все же Сидоренко умел владеть вниманием публики артистично. Он всегда говорил негромко и непривычно коротко, четко выражая свою позицию. Его безупречно грамотная речь, тоже ставшая непривычной для обширной российской аудитории, невольно привлекала внимание, вызывая желание выслушать его соображения и даже принять высказанную им точку зрения. Он никогда не заискивал перед высокопоставленными собеседниками, и многие знали: никого кроме президента Сидоренко над собой не чувствовал.
Сегодня, после еще одной публичной победы в отнюдь не схоластическом споре со своим соперником из новой команды президента, Павел Яковлевич в очередной раз доказал своим зарубежным покровителям, что он по-прежнему крепко держит узду власти в своих руках. И то, что он одержал победу над первым другом и помощником премьера, доставляло ему особенное удовлетворение. Итак, он завоевал еще одно очко в споре со своим оппонентом, который, как всегда, высказывал не только свою точку зрения, но и точку зрения президента. И победой в этом споре Павел Яковлевич пополнил свой счет не «виртуальными» очками, а весомым банковским вкладом с длинным ожерельем из нуликов. Единственное, что омрачало его победу, была необходимость завтрашней поездки в составе очередной миротворческой комиссии. И избежать этой поездки он никак не мог. Да, медленно подбираясь к креслу главы государства, он должен был, к сожалению, совершать и такие вот несимпатичные его сердцу поездки. Павел Яковлевич невольно поморщился, вспомнив запах нищеты и голода во временных жилищах чеченских беженцев. Да, запах именно нищеты. Чистота, которую даже в этих жутких условиях старались поддерживать эти жалкие чьи-то жены и чьи-то матери, вызвала бы в его сердце уважение и жалость. Вызвала бы, если бы он с юных лет не привык уважать только силу и власть. А жалеть… Жалеть он, казалось, вообще не умел, да и не хотел уметь. Зачем осложнять себе жизнь совершенно ненужными в его положении душевными качествами? Это все равно, что жалеть в надежде, что и тебя когда-нибудь пожалеют, а он такую ситуацию даже предположить не хотел. Или любить… Любить, делясь любовью, которую он привык расходовать только на себя, ему не хотелось ни с кем. Он и родителей-то своих не любил, научившись с детства артистически манипулировать ими. И своим артистизмом он мстил им за их нелюбовь к нему. Вот так он и жил, не зная этого чувства и ненавидя его за это незнание. Поэтому он считал, что и свою жену Анечку он тоже не любит. Он выбрал ее совершенно сознательно, не касаясь своего выбора ни малой частицей сердца. Он знал, что при своем невысоком росте ему нужна жена выше его, потому что она должна будет родить ему наследника. И хорошо бы, чтобы это был мальчик, и высокий мальчик. И лицо будущей своей жены он выбирал очень осознанно, потому что жена будущего президента России должна была быть мягкой славянской внешности. И то, что Анечка носила косу, которая тяжелым пшеничным клубком оттягивала ее голову назад, ему тоже очень подходило. И спокойный Анечкин характер ему тоже нравился. Наверное, если бы кто-то подсказал Павлу Яковлевичу, что это многократное «нравится» и есть любовь, он бы удивился и… не поверил. Он с большим удовольствием думал о том, что Анечка была в полной материальной зависимости от него, это служило ему гарантией ее покорности и верности на долгие годы. Конечно, как каждый мужчина, Павел Яковлевич сознавал, что жены у достойного мужа не работают, и деньги в дом приносит только глава семьи. Если бы Анечка была одинока или жила при живых и здоровых родителях, вопрос материальной зависимости даже не возникал. Но судьба подарила ему еще одну узду, которую так приятно было держать в руках. Дело в том, что родители Анечки были живы только наполовину. И здоровы только наполовину. И даже на меньшую, как ему казалось, половину. После автокатастрофы, из-за которой родители его невесты остались калеками, у него развязались руки. Больше всего он боялся однажды прозвучавшего слова «развод». Во-первых, теща и тесть стали нуждаться в материальных затратах на лечение и содержание. А это для Павла Яковлевича было самым простым и не хлопотным. Во-вторых, Анечка теперь с виноватым видом в начале каждого месяца подходила к мужу с просьбой об оплате этих самых медицинских услуг. Он сам завел это правило ежемесячной оплаты лекарств и содержания родителей Анечки в закрытой частной лечебнице, хотя мог без особого ущерба для себя оплачивать и год и два наперед. Ему очень нравилось просительное выражение лица жены и почти молитвенно сложенные руки. В эти минуты он действительно чувствовал себя маленьким земным божком. А кто откажется от удовольствия почувствовать себя в подобной роли? Иногда Павел Яковлевич думал, что, не произойди эта страшная авария, которая унесла здоровье его родственников, он и сам не смог бы придумать такой изумительный и беспроигрышный козырь, изобрести такие прочные нити для его семейного театра марионеток. А то, что умная и добрая Анечка никогда не хотела быть бездушной куклой, его не волновало. Вернее, он редко задумывался, что там творится под этой красивой и такой женственной прической, и какой огонь бушует в этом сердечке, что бьется под высокой грудью его жены. И Анечка была ему благодарна, что он никогда не пытается говорить с ней на темы, далекие от их истинных отношений. Их единственный сын Илья, действительно похожий на мать и ростом и статью, и две девчонки-близняшки, как две капли воды похожих друг на друга и совершенно не походившие ни на одного из родителей, были как будто совершенно отдельной семьёй. Илья занимался сестрами, решал все их проблемы, самыми серьезными из которых было решение задачек по алгебре. Он водил их в кино, в театр, и даже иногда занимался покупками одежды для них. У матери для этого не было ни времени, ни терпения, а своими «нет, не такое, не это» сестры доводили мать почти до слез. И тогда Илья, отложив все свои дела, терпеливо объезжал с девчонками все известные ему магазины и магазинчики. А Анна Петровна находила покой только рядом с родителями. Отец после нескольких операций уже мог самостоятельно садиться и даже перебираться в удобную самоходную инвалидную коляску. А мать навсегда была прикована к кровати. И это слово – «навсегда», стало самым страшным для них словом. Петр Константинович помогал сестрам и нянечкам ухаживать за женой. Их больничная палата напоминала, скорее, уютную комнату в их собственном доме. И как было не благодарить за это Павла? Да, он только изредка показывался здесь, обозначая этими редкими визитами свое внимание к родителям жены. И его рыбьи глаза, как всегда, смотрели мимо чужих глаз и вообще, казалось, мимо всего живого. Только наталкиваясь на свое зеркальное отражение, Павел Яковлевич иногда внимательно всматривался в себя, пытаясь проникнуть взглядом за ту черту, куда сторонним вход был запрещен. Но даже его собственному взгляду не удавалось проникнуть через железные декорации его души. Иногда он даже пугался этого немигающего взора, смотревшего на него из зеркала. Как будто кто-то страшный, существующий в далеком пространстве веков и напрочь лишенный милосердия, рассматривал суету его сегодняшнего дня. Рассматривал и как будто взвешивал: раздавить или оставить еще поползать по земной тверди… Павел Яковлевич, как-то впервые столкнувшись с этим собственным и все-таки невероятно чужим взглядом, отпрянул от зеркала. Сердце его внезапно заколотилось, а серебряные бисеринки пота, собравшись в крупные капли, медленно и осязаемо потекли по вискам к подбородку, стекая за белоснежную ткань воротника сорочки. И потемневшие от влаги швы показались ему окрашенными кровью. Павел Яковлевич нетерпеливыми пальцами расстегнул воротник, но протрезвевший его взгляд уже видел, что это просто пот. Просто пот? Но почему тогда запах от него шел, как из мясной лавки…? С тех пор Павел Яковлевич старался не смотреть себе в глаза. Даже когда он брился, взгляд его двигался по щекам, подбородку, только вскользь мелькая по верхней половине лица. Ужас перед собственным непознанным внутренним миром, который так до конца и не открывался ему, прятал от него тайну, в которую ему было очень страшно заглядывать. Ему казалось, что он вполне успешно восстановил в себе родовую черту всех Окаянновых: он умел пользоваться и доверял собственному подсознанию, его интуиции мог бы позавидовать каждый, кто всерьез изучал или владел этими дарами. И все-таки, были такие тайники в его душе, которые иногда просыпались сами по себе и будили в нем чувства, которым не было места в его современном осторожном и продуманном мирке. Он боялся когда-нибудь не возобладать над звериными порывами собственной сути. Конечно, он бы не вцепился зубами в горло противника, нет… но безудержная ненависть и жажда власти иногда опрокидывала его сознание до такого примитивного уровня, за которым не существовало ни осторожности, ни рассудка. И тогда Павлу Яковлевичу казалось, что это страшное «нечто», гнездившееся у него в душе, когда-нибудь окончательно завоюет его и унесет в темноту сумасшествия. Так он и балансировал на невидимом гребне жизни, боясь окончательно сорваться в черную пропасть, и не смея даже думать о своем праве оглянуться в другую, светлую сторону.
* * *
Владимир Ярославич проснулся в чужой постели, рядом с чужой женщиной. Он осторожно пошевелил рукой, ощутив незнакомую прохладу дорогого шелка. Сквозь шторы пробивался мягкий уличный свет, и Пересветов рассмотрел, что шелковая сорочка прикрывает круглые плечи женщины, и край ее выбился из-под ее одеяла и накрыл его руку. Рука же его была непривычно вялой и короткой. В груди Владимира Ярославича вдруг возникло острое ощущение брезгливости. Он внезапно ощутил, что заперт в чужом теле, которое принадлежало, как говорили его прадеды, ворогу. Сердце его на миг сжалось, напомнив, что и оно – чужое. Лоб его (нет – опять не его!) покрылся испариной. Пересветов резко сел в кровати, и из груди его невольно вырвался тяжелый вздох. Женщина открыла глаза и внимательно посмотрела на него:
– Что, уже пора?
Владимир Ярославич только отрицательно покачал головой. Женщина повернулась на другой бок, и опять задышала тихо и успокоенно.
Пересветов осторожно свесил с кровати ноги, непривычно далеко внизу нащупал ступнями тапки, мягкие и пушистые, как у женщины. Потом встал и вдруг увидел собственное отражение. Из глубины зеркала на него внимательно смотрел невысокий, полноватый мужчина, голова его слегка блестела плешью. Глаза непривычно испуганно рассматривали собственное отражение. И тут Владимир Ярославич вдруг вспомнил все наставления, которые еще минуту назад слушал из уст Ярого и жены. Он представил вдруг, что сейчас под колпаком нейропульсара лежит его тело с сознанием Окаяннова, и ему сделалось страшно. Увидят ли, догадаются ли его близкие, что обмен состоялся? И не примут ли мысли и слова чужого человека за слова и мысли его, Пересветова? «Нет, – успокоил он самого себя, – ведь я был готов к обмену, а Сидоренко даже не подозревает о подобной возможности. И Василиса увидит и почувствует подмену сразу». Владимир Ярославич постарался сосредоточиться на том задании, которое он должен был выполнить. Итак, соглашение, которое он должен будет подписать завтра, не должно быть подписано. Мало того, он должен будет убедить заморских покровителей Сидоренко в его политической несостоятельности. Если не осталось нечто, о чем Свои не знают. Но почему-то Владимир Ярославич чувствовал, что это «нечто» существует, и оно может в корне изменить всю программу его проникновения.
За спиной щелкнул выключатель, и Владимир Ярославич увидел рядом со своим отражением мелькнувшую тень женщины. Анна Петровна потянулась за халатом, легким движением набросила его на плечи и молча вышла из комнаты. Владимир Ярославич решил, тем временем, освоиться. Он раскрыл дверцы огромного шкафа и увидел там ровный ряд костюмов и рубашек. Он выбрал темный, подобрал к нему рубашку и галстук. Обуви нигде не было. Он торопливо стал открывать дверцу за дверцей, пока в самом углу не обнаружил большой короб с автоматически выдвигающимися полками с обувью. Стоило ему открыть дверцу, как многочисленные ботинки и полуботинки бесшумно шагнули ему навстречу. Запах кофе напомнил ему, что пора идти в ванную и брить и умывать это чужое лицо. Он накинул халат, покорно свисавший со стойки, и вышел из спальни. И только потом, вспомнив схему расположения помещений в квартире Сидоренко, Владимир Ярославич вернулся назад и открыл одну из незаметных узких дверей. Да, его ванная была слева, ванная жены Сидоренко – справа.
Оказавшись в ярко освещенном белоснежном помещении, Пересветов заставил себя встряхнуться. «Да что же это я! Из-за мелочей сразу голову потерял! Вспомни, – сказал он своему незнакомому зеркальному отражению, – ты наглый, самоуверенный тип. Ты мало говоришь, поэтому окружающие ловят каждое твое слово. И если ты молчишь, всё равно все внимают тебе! Успокойся». Пересветов вдруг увидел себя со стороны: со свесившимся мягким брюшком, руки опираются о раковину, как будто ища в ней опору. А в глаза ему смотрит верный помощник президента, которого он со дня на день должен будет свергнуть его же собственными руками. Владимир Ярославич подмигнул себе чужим глазом и вдруг расхохотался. Все сразу встало на свои места, вселив в него уверенность и решимость как можно скорее покончить со всей этой, как это там Сергей говорит? Со всей этой бодягой. Да, именно. Пересветов и сам не заметил, как быстро он выбрил это холеное лицо, умыл его и даже тщательно вычистил сидоренковские зубы. Это ощущение обслуживания чужого тела все больше и больше поднимало в нем волну непрошеного смеха. А когда ему пришлось склониться над писсуаром, он с ухмылкой подумал, что Сидоренко, видимо, пьет на ночь много жидкости.
Наконец, он умылся, тщательно оделся и вышел из спальни. В столовой уже был накрыт стол, дымилась чашка с душистым чаем, а маленькая изящная тарелочка была наполнена противной овсянкой.
«Я ем эту гадость?» – чуть было не высказался вслух Владимир Ярославич, но вовремя опомнился и почти мстительно запихал липкую кашу в рот своему Сидоренко.
Анна Петровна бесшумно скользила по столовой и, видимо привычно, молчала. Взгляд ее скользил как бы сквозь мужа, не задерживаясь на нем. И только когда Владимир Ярославич встал из-за стола и привычно сказал «Спасибо, дорогая!», она вздрогнула и внимательно посмотрела на него:
– Что-нибудь случилось?
Владимир Ярославич удивленно поднял брови и вдруг опомнился: «Какая она тебе «дорогая»! Ни тебе, ни ему она не дорога! Он ни в грош не ставит эту женщину, и нечего очеловечивать их отношения. Вернется, разберется сам». Но в душе его уже поселилось сочувствие и симпатия к женщине, которая на одно-единственное слово, сказанное искренне и ласково, среагировала, как на взведенный курок.
– Почему ты так некрасиво повязал галстук? – Она подошла к нему и заново перевязала узел, сразу улегшийся уютно и незаметно, как и надлежит настоящему галстучному узлу. Её руки на какой-то миг замерли в воздухе и вдруг почти молитвенно сложились на груди. – Ты, должно быть, забыл, Павел – сегодня первое число.