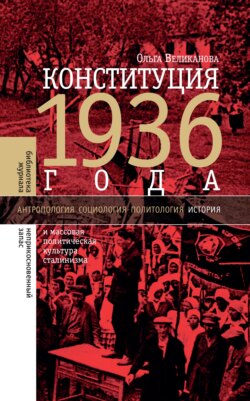Читать книгу Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма - Ольга Великанова - Страница 4
От автора
Глава 2
Источники
ОглавлениеНачало эпохи массовой политики заставило современные правительства отслеживать мнения граждан с целью более эффективного управления населением. Это привело к появлению социологических опросов и практики полицейского наблюдения. И социология, и полицейский надзор стремились узнать, что люди думают, и столкнулись с проблемой трудноуловимого характера мнений. Даже в свободных демократических странах существует проблема потенциальной неточности результатов опросов. Возможные искажения в результатах кроются в методологии опроса и не только. Опрашивающие агенты могут манипулировать ответами путем формулировки или последовательности вопросов. На неточность результатов опроса могут влиять неучтенные мнения тех, кто отказался отвечать на вопросы, неискренние ответы респондентов, воздействие СМИ и другие факторы. Случаи провала опросов общественного мнения хорошо известны в истории, например, на президентских выборах 1948 и 2016 годов в США, на парламентских выборах 1970, 1974 и 1992 годов в Великобритании, а также на российских парламентских выборах 1993 года с неожиданным успехом националистов. Тем не менее, вероятность неточных результатов не исключает использования опросов как важного инструмента изучения общества.
Это введение необходимо здесь для того, чтобы указать на большую возможность искажения картины мнений, формулируемых и собираемых в условиях, во-первых, сталинской диктатуры и всеобщего страха, во-вторых, в период, когда методика научных опросов была в лучшем случае рудиментарной, в-третьих, в условиях, когда заинтересованная сторона не могла задать соответствующие вопросы населению, а вместо этого какие-то крупные события провоцировали спонтанные высказывания. Эти неординарные в глазах современных социологов условия исторической реконструкции картины общественного сознания вызвали волну критики в академическом сообществе, когда огромный комплекс данных полицейского наблюдения стал доступен ученым сначала в Германии, а затем в 1990-х годах в России – особенно обзоры (сводки и Stimmungsberichte) политических настроений и мнений, составленные органами безопасности для тоталитарных режимов.
Эти обзоры часто критиковались в академической литературе за предвзятость и ненадежность. Жестокая репутация нацистских и сталинских силовых структур, вероятно, способствовала росту скептицизма. В итоге, двадцать пять лет дискуссий об источниках, созданных сталинским режимом, – их ограниченности и потенциале – привели к появлению особого жанра научной литературы о методах их критики и использования, значительно продвинув источниковедение[28]. В последнее время, после десятилетий скептицизма и плодотворных дискуссий, триангуляция всей имеющейся информации по конкретным темам привела к тому, что все больше историков[29] хоть и с оговорками, но признали ценность сводок как исторического источника не только для изучения общества, но и для анализа официальных и институциональных взглядов на общество. «Эти доклады НКВД в архиве КГБ… обычно содержат достоверные отчеты о сельскохозяйственной ситуации в сочетании с сильным акцентом, как и почти все документы НКВД, на якобы „контрреволюционной“ деятельности»[30]. Переоценка коснулась и другого рода источника, традиционно считающегося учеными ненадежным, такого как рассказы и воспоминания заключенных (используемые Александром Солженицыным в качестве источниковой базы для «Архипелага ГУЛАГа»), которые позднее, после сопоставления с архивными документами, были признаны достаточно достоверными[31]. Недоверие к советской статистике сохраняется, хотя, например, демограф Сергей Максудов считает данные переписей 1926, 1937 и 1939 годов относительно более достоверными, чем местная статистика, исходящая из деревень и областей[32].
Данное исследование основано на различных правительственных, личных и зарубежных источниках, в основном на архивных материалах: стенограммах и документах советских органов власти и комментариях к общенациональной дискуссии 1936 года. Хотя советская пресса широко освещала кампанию, большая часть предложений населения была скрыта в государственных архивах. Эти хранилища содержат сотни папок с неопубликованными письмами отдельных граждан в газеты, материалы собраний на предприятиях, анонимные письма в органы власти и формальные коллективные и индивидуальные предложения. Во-первых, для изучения целей дискуссионной кампании и ее политического механизма я использовала документы пленумов Коммунистической партии, материалы Центрального комитета и внутреннюю переписку лидеров. Во-вторых, я изучила материалы НКВД, который постоянно отслеживал политические настроения населения и регулярно направлял высшим партийным чиновникам секретные сводки. Эта внутренняя государственная документация дополняется данными британской и американской разведки для получения альтернативной внешней перспективы. В-третьих, я исследовала документацию организационного центра кампании Президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК), который составлял собственные сводки комментариев к конституции. Наконец, обзоры Комиссии ЦИК по делам культов о реакции верующих и духовенства на конституцию дополняют привлеченный массив государственных источников.
У каждого из этих государственных учреждений были свои собственные повестки дня и подходы к сбору и интерпретации информации, которые определяли структуру и характер обзоров. Такое разнообразие повесток дня дает историкам возможность сравнивать и объективизировать информацию, исходящую из различных органов и институтов. Привлеченные здесь материалы наблюдения (партийного, НКВД и военного) являются своеобразным историческим источником и требуют некоторых дополнительных комментариев. Так, при изучении сводок о настроениях и политической ситуации историки учитывают функции органов безопасности и специфику корпоративной культуры, которые оказали влияние на презентацию собранных данных. По словам Джона Маклафлина, бывшего директора Центрального разведывательного управления США, культура мира разведки характеризуется скептицизмом. Обязанностью аналитиков является поиск проблем и предупреждение правительства об опасностях. Это способствует более мрачному представлению событий в докладах[33]. Ф. Э. Дзержинский, основатель советской службы безопасности, отмечал аналогичную тенденцию в чекистских обзорах. Это и понятно, так как ЧК—ОГПУ—НКВД, в соответствии с охранительными и репрессивными функциями, в своих сводках общественных настроений уделяли основное внимание «негативным» процессам, антисоветской деятельности и инакомыслию. Секретари партийных организаций или партийные информаторы, сообщая о настроениях, не были столь репрессивны, не очень стремились к точности в именах авторов комментариев или их позиции, места службы и проживания. Напротив, НКВД в информационных материалах всегда указывал эти данные и дополнительно классифицировал высказывания людей по политическим направлениям: «троцкист-зиновьевец», «социалист-революционер» или кулак, хотя это не означает, что эти люди принадлежали к какой-то организации или были зажиточными крестьянами. Такие деноминации, как правило, представляют собой своего рода политические ярлыки, характеризующие идеальный тип врага в сознании составителя обзора. Характерной чертой материалов наблюдения была политизация, происходившая из задач каталогизации нелояльных лиц и отслеживания негативных тенденций. Репрессивная функция НКВД часто воплощалась в лаконичных пометках после изложения оппозиционных или недовольных комментариев: «Имярек арестован».
То, каким образом сводки представляют массовые настроения и политические суждения, характеризует специфику мышления офицеров НКВД, особое манихейское мировоззрение этой касты, склонной повсюду видеть угрозы, и типичное для всякого чиновника стремление продемонстрировать свою эффективность, соответствовать ожиданиям руководства или Сталина[34] и текущей партийной линии. Особого критического внимания исследователей требуют свидетельства о массовой фальсификации и фабрикации документов на всех уровнях делопроизводства ведомства, представленные историками, получившими доступ к региональным архивам советской службы безопасности – например, в Украине и Сибири, в том числе к агентурно-оперативным материалам. Один провокатор-агент, Николай Кузнецов, будучи арестован НКВД в 1934 году, показал, как он оставлял отчеты: «Даты, встречи, состав присутствующих – это неоспоримо верно, но там, где в моих донесениях начинаются чужие слова, заключенные в кавычках… <…> …Все наиболее резкое… являлось выдуманной, намотанной мной грубой ложью. Я здесь руководствовался одним, если человек не говорил против Сов[етской] власти, я ему ничего не выдумывал, но если этот человек настроен отрицательно к существующему строю и это мне в беседах высказывал, я ему приписывал неговоренное им… Приписки эти я делал, основываясь на своих предположениях»[35]. Новосибирский историк А. Г. Тепляков, указывая на «относительную степень достоверности чекистской информации», тем не менее подчеркивает, что многое проверяется и дополняется другими источниками, и признает соответствие действительности (в основном) по крайней мере отдельных видов информации. Понимая, что у сводок НКВД есть свои эпистемологические пределы, я пытаюсь их проверить и уравновесить их тенденциозность документацией альтернативного происхождения, среди прочего, разведывательными отчетами МИД Великобритании и американских спецслужб о положении в СССР.
В отличие от отчетов НКВД, сосредоточенных на негативных процессах, отчеты партийных, советских или экономических структур часто были склонны рисовать более позитивную картину общества, чтобы радовать власть репрезентацией успехов. Ответственным за продовольственное снабжение Ленинграда в 1932 году был партийный деятель П. А. Кулагин. Он говорил британскому консулу: «Мы не верим, как люди в Москве, что все хорошо». Если верить ему, продолжает консул, «многие чиновники посылают [наверх] положительную информацию, которая, как они знают, не соответствует действительности, потому что у них нет смелости сообщить правду; таким образом Кремль никогда не ведает, что происходит в реальности»[36]. Наилучшим решением при работе с тенденциозными или ненадежными источниками является проверка. Историки отслеживают, насколько их данные согласовываются с данными из других источников (триангуляция на языке разведки). Если различные источники, ситуации, ведомства и географические регионы дают сопоставимые данные, это говорит в пользу достоверности обсуждаемых фактов или распространенности того или иного мнения.
Другой государственный орган, Президиум ЦИК, организовывал и направлял дискуссию о проекте конституции и, пытаясь отследить широкий спектр и разнообразие мнений, требовал регулярной отчетности от местных должностных лиц о ходе кампании. Мониторинг общественных настроений был одной из целей кампании. ЦИК аккумулировал информацию из республик и регионов, газет и частных лиц. С июня по ноябрь 1936 года ЦИК обобщил и классифицировал 43 427 комментариев – около четверти дискуссионных материалов[37] – и составил 13 сводок и другой документации, включая статистические данные, которые я далее называю «оценками ЦИК». Эти статистические данные будут здесь представлены, хотя характер источников не позволяет с точностью оценить количественные параметры различных политических субкультур в обществе. Скорее, они показывают их качественное многообразие. Эти статистические данные, при всей их ограниченности и фрагментарности, придают некоторую рациональность моим впечатлениям, полученным от прочтения массива комментариев. В статистических оценках, в дополнение к данным ЦИК, я также ссылаюсь на свою выборку из 470 типовых комментариев, систематизированных и обобщенных Исполкомом Горьковского края в его отчете Москве 16 октября 1936 года на основе 4000 комментариев. Краевой исполком составил таблицу с комментариями к статьям конституции из различных районов[38]. Я также использую подсчеты предложений к конституции, сделанные Арчем Гетти по Ленинградской (2627 писем) и Смоленской (474 письма) областям[39]. К сожалению, Гетти не включил в свою выборку «непрограммные замечания вроде благодарности Сталину», в то время как я учитывала полный набор комментариев. Льюис Сигельбаум справедливо отмечал, что следует рассматривать весь комплекс комментариев – как практических, так и фантастических, – а не только те, которые имеют непосредственное отношение к статьям конституции[40]. Иногда я представляю абсолютные цифры комментариев на основе всех своих исследовательских записей, полученных из различных источников: НКВД, ЦИК, областные сводки, письма в газеты и т.д. Хотя и лишенные процентного соотношения, эти цифры часто говорят сами за себя.
Помимо НКВД и ЦИК, данные собирали и другие ведомства. Комиссия ЦИК по делам культов подготовила обзоры о реакции верующих и духовенства на конституцию. Чтение между строк этих докладов оставляет впечатление, что их авторы принимают и даже иногда защищают интересы этой группы. Вероятно, их недостаточно жесткая позиция привела к закрытию этой комиссии в 1938 году. Хотя ЦИК и Комиссия по делам культов преследовали свои собственные корпоративные цели, их сводки не имели репрессивной функции и звучали более беспристрастно, представляя как несогласие, так и позитивный дискурс. Советские газеты («Правда», «Крестьянская газета», «Известия», «Коммуна» (Воронеж), используемые здесь) регулярно публиковали хорошо отфильтрованные и, вероятно, отредактированные комментарии граждан, причесывая их в соответствии с политическими нормами, одновременно конфиденциально направляя в правительство обзоры неопубликованных комментариев[41]. Конфиденциальные списки вопросов из аудитории, записанных на собраниях и семинарах и предназначенных только для местного партийного комитета, с их простонародным языком, наивностью и резкостью, представляются более достоверными, чем типовые списки предложений, составленные в соответствии с неким шаблоном и возможно подчищенные чиновниками для представления в Москву. Значительная часть использованных источников исходила из государственных и партийных органов.
Обзоры, составленные официальными лицами, дополняются документами индивидуального происхождения: дневниками и письмами в газеты и органы власти, которые тоже необъективны, но подвержены влиянию других соображений и условий. Ученые, работающие с документами личного происхождения сталинской эпохи, знают, что их авторы очень часто проявляли неустойчивую идентичность в силу изменчивости их статуса и беспрерывных социальных потрясений: одни граждане уже с энтузиазмом усвоили официальные ценности и сделали их своими (Галина Штанге и авторы дневников, представленных Натальей Козловой), другие находились в процессе формирования своей идентичности (молодые авторы – Степан Подлубный, Леонид Потемкин, Нина Костерина, – а также бывший либерал Николай Устрялов); другие научились демонстрировать внешнее соответствие, публично подчинялись нормам, но скрывали свои воззрения или несогласие (Аржиловский, Маньков, Гинзбург, Шапорина, Пришвин). Такая подвижность идентичности серьезно осложняет работу аналитика их записей. У членов всех этих групп были свои причины для участия в обсуждении конституции, например, для демонстрации лояльности. Для дневников, однако, характерна аура интимности и искренности. В советской ситуации затяжного кризиса и переменчивой идентичности мотивация к самовыражению была гораздо сильнее, чем в политических режимах с давно устоявшейся системой ценностей. Более того, некоторые советские авторы дневников – молодые и даже зрелые (Потемкин, Подлубный, Г. Эфрон, Устрялов), – вдохновленные идеей Нового Человека и нового мира, сознаются в постоянных усилиях по преобразованию себя в составную часть воображаемого социалистического сообщества, часто жертвуя своей личной автономностью, воспринимаемой ими как «мелкобуржуазный» индивидуализм[42]. Эти психологические свидетельства «бегства от автономии», исследованные историками школы субъектности, придают эпистемологическую глубину массиву нелиберальных комментариев к конституции.
Среди использованных здесь источников – около двух тысяч интервью и опросов, осуществленных в 1950–1951 гг. среди советских беженцев в Европе и Америке, известные как Гарвардский проект, посвященный советской социальной системе. Среди вопросов, которые американские интервьюеры предложили беженцам, был: «Какое впечатление произвела на вас советская Конституция 1936 года?» Поэтому здесь можно найти множество интересных материалов. Мировоззрение и опыт этого контингента были шире и богаче, чем у их соотечественников в 1936 году. Все корреспонденты могли сравнить условия в СССР с европейским и/или американским опытом. Организаторы не могли игнорировать тот факт, что беженцы, вероятно, чувствовали себя обязанными перед страной, которая обещала или предоставила им убежище, и хотели угодить американцам и сказать то, что от них ожидается; поэтому в проекте были предприняты попытки учитывать такую «лесть» и возможную предвзятость. Кроме того, свидетельства беженцев дистанцированы от события (общенациональной дискуссии) и обогащены знаниями о его последствиях. Вместе с внешней перспективой это повлияло на часто критическое отношение беженцев к советской действительности, отмеченное исследователями. Однако нередки случаи, когда респонденты высказывали мнения вопреки политическому мейнстриму в США, например, восхваляя государственный контроль, социальную защиту и честно признавая, что они лично пользовались новыми свободами после 1936 года, например, когда дети кулаков получили доступ к образованию. Данные Гарвардского проекта позволяют сравнить динамику политических ориентаций в 1930-х и 1950-х годах.
Несмотря на ограниченность каждого конкретного источника, их разнородность дает возможность триангуляции информации и в конце концов позволяет характеризовать основные элементы политической культуры. Разнообразие источников обеспечивает максимально возможную в данном случае репрезентативность выборки взглядов советского общества, особенно когда мнения, содержащиеся в различных источниках, как личных, так и официальных, выражают одно и то же отношение. Несмотря на эпистемологические проблемы предвзятости, репрезентативности и точности каждого конкретного источника, а также на непоследовательность и неоднозначность мнений, исследователи не могут игнорировать такие интригующие свидетельства о советском обществе. Отсутствие возможности количественной оценки данных не перечеркивает исследовательскую значимость общественного мнения в формировании сталинского общества.
Еще одной проблемой моих источников была непоследовательность и изменчивость настроений. Загадочную двойственность мышления советского гражданина, когда зачастую противоречивые мнения и смешанные, конфликтующие взгляды сосуществовали даже внутри одного человека, можно объяснить двойственностью его среды, с разрывом между официальными нормами и реальным опытом. Настроения определялись как повседневной жизнью с ее тяготами, так и заявленной высокой целью социализма: первая может вызвать критику, вторая – воодушевление[43]. Тем не менее, такой «иррациональный» образ мышления не был уникальным советским явлением, он был характерен для крестьян любой национальности с социальным в основном, а не экономическим способом мышления, в котором одновременно могут присутствовать два противоречивых мнения[44]. Кроме того, делая задачу аналитика еще более сложной, любой человек в один момент мог чувствовать вдохновение и патриотизм, а в другой момент неудовлетворенность, в зависимости от многих переменных, включая изменение социального статуса или такие элементарные ощущения, как голод или сытость, как показал социолог Питирим Сорокин[45].
Эти трудности и ограниченность имеющихся данных не позволяют сделать количественные оценки частоты мнений в исследованиях советского общественного мнения. Природа наших источников и методов, используемых в культурологии, отличается от социологических и исторических позитивистских исследований. Изучая массив неструктурированных данных, я использую качественный метод как аналитический инструмент для получения более глубокого понимания культурных практик. Этот метод классификации исторических и культурных данных по темам, вычленения паттернов, чтобы сделать собранные данные интерпретируемыми, использовался в первую очередь в антропологии и этнографии для достижения понимания того, что мотивирует поведение человека, но в последнее время он стал более междисциплинарным и используется в исторических исследованиях[46]. Тематический анализ является наиболее распространенным методом, используемым в качественных исследованиях для определения паттернов в собираемых данных. В отличие от социологического исследования, преимущество этого метода заключается в успешном снижении вероятности предвзятости, предопределенной позицией исследователя и интервьюера[47].
Этот метод получил признание, например, в ходе полевых исследований по изучению социокультурных ориентаций местного населения в ходе операций Международных сил безопасности в Афганистане. Для оценки убеждений и представлений афганцев специалисты отходили от традиционных опросов, поскольку вопросы слишком часто отражали предвзятость исследователей, и те, таким образом, получали ожидаемые ответы. Вместо этого исследователи задавали чрезвычайно открытые вопросы, провоцируя рассказывание историй (например, историю села), которые выявляли ценности, представления и опасения. Триангуляция нескольких сюжетов открывала возможность для анализа[48]. Поведенческие экономисты также учли критику метода опросов, сосредоточившись на полевых исследованиях, а не на лабораторных экспериментах и социологических данных. В отличие от традиционной экономической науки, которая предполагает, что люди в основном рациональны и неэмоциональны, поведенческая экономика учитывает влияние ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля на индивидуальное поведение. Таким образом, специфика исследованных источников диктует необходимость использования комбинации аналитических методов, поскольку, например, эмоциональная составляющая была частью комментариев в конституционной дискуссии.
Когда это возможно, исследователи могут применять статистический анализ для оценки тем, хотя количественная оценка не входит в число достоинств качественного метода. Формирование исследователем взвешенного, обоснованного впечатления признается допустимым аналитическим инструментом в качественных исследованиях, когда такое впечатление представляется в структурированной аргументированной форме. Я предприняла все усилия для сбора как можно большего объема репрезентативных данных для представления тем и нарративов, характеризующих политическую культуру советского общества, нашедшую выражение в конституционной дискуссии.
Предпочтительный термин «массовые восприятия/настроения/представления» отражает указанную неопределенность в источниках и используется здесь для того, чтобы отличить предмет моего исследования от хорошо организованного и измеримого «общественного мнения» в свободных обществах, основанного на социологических данных. Хотя до сих пор иногда материалы общенациональной дискуссии необоснованно недооценивались некоторыми историками[49], соответствующий критический анализ этих материалов позволяет нам изучать советское общество 1930-х годов и его отношение к индивидуализму, плюрализму, гражданским правам, насилию и компромиссу, а также уровень терпимости, которые характеризовали его переход от традиционного общества к современности.
28
Viola L. Popular Resistance in the Stalinist 1930s: Soliloquy of a Devil’s Advocate // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Slavica Publishers. Vol. 1. № 1. Winter 2000. P. 45–69; Velikanova O. Berichte zur Stimmungslage: Zur den Quellen politischer Beobachtung der Bevolkerung in der Sowjetunion // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 1999. № 47 (2). P. 227–243; Holquist P. ‘Information Is the Alpha and Omega of Our Work’: Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // The Journal of Modern History. 1997. № 69 (3). P. 415–450; Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia under Prewar Stalinism // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, and Communism / Ed. by Paul Corner. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 17–32.
29
Например: Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. Vol. 6, The Years of Progress: The Soviet Economy, 1934–1936. London: Palgrave Macmillan, 2014; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1934–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2010.
30
Р. В. Дэвис ссылается на доклад воронежского НКВД от 20 июля 1936 года о ситуации в области: Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 317; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. C. 278–280.
31
Applebaum A. Foreword / The Gulag Archipelago, 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation. Translated by T. P. Whitney and H. Willets. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2007. P. xix.
32
Максудов C. Демография «Великого перелома» 1929–1933 / интервью М. Соколову // Эхо Москвы. 2019. 2 июня. URL: https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2435957-echo/.
33
Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations / Ed. by R. Z. George and J. B. Bruce Washington, DC: Georgetown University Press, 2008. P. 73.
34
В задачи американских разведчиков-аналитиков входит определение потребностей заказчика (правительства) и предоставление разведданных для удовлетворения этих потребностей (Analyzing Intelligence. P. 2). В советской практике, однако, это могло превратиться в дилемму, когда видение некоего события правительством не соответствовало тому, как это видел аналитик. Советские статистики в «репрессированной» переписи 1937 года заплатили своими жизнями за статистику, которая не соответствовала взглядам Сталина на общество.
35
Тепляков А. Г. Машина террора. ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. М.: Новый Хронограф, 2008. C. 22, 24, 204–205.
36
Bullard R. W. Inside Stalin’s Russia. P. 116.
37
Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. P. 134; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 125. К 1 ноября 1936 года семь союзных республик представили отчет по 94 521 рекомендации.
38
Общество и власть. Российская провинция 1917–1980-е годы: В 3 т. / Под ред. Кулакова А. А., Сахарова А. Н. Т. 2: 1930 – июнь 1941 г.. М.: ИРИ РАН, 2005. С. 389–435.
39
Getty A. State and Society under Stalin; Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 353.
40
Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. P. 134.
41
Например, «Крестьянская газета», см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы: В 5 т. М.: РОССПЭН, 1999–2006. Т. 4. С. 795–799, 804–809, 819–827.
42
Hellbeck J. Liberation from Autonomy: Mapping Self-Understandings in Stalin’s Time // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, and Communism / Ed. by P. Corner. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 53.
43
Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia under Prewar Stalinism. P. 25–26.
44
Peasants and Peasant Societies: Selected Readings / Ed. by T. Shanin. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1971. P. 247.
45
Sorokin P. A. Hunger as a Factor in Human Affairs. Translated by Elena Sorokin. Gainesville: University of Florida Press, 1975.
46
Denzin N., Lincoln Y. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.
47
Boyatzis R. Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998; Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. № 3(2). P. 77–101.
48
Price B. R. Notes on My Mixed Methods Approach to Rapid Assessment. 2017. Unpublished manuscript.
49
И. Б. Орлов и Е. О. Долгова писали: «Многие граждане СССР не заметили введения Конституции»; Медушевский и Бранденбергер в соответствующих исследованиях почти проигнорировали дискуссию 1936 года. См.: Орлов И.Б,. Долгова Е. О. Политическая культура россиян в ХХ веке: Преемственность и разрывы. Сергиев Посад: СПГИ, 2008. С. 150; Medushevsky A. Russian Constitutionalism: History and Contemporary Development; Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. New Haven: Yale University Press, 2011.