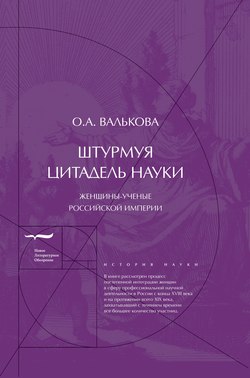Читать книгу Штурмуя цитадель науки. Женщины-ученые Российской империи - Ольга Викентьевна Валькова - Страница 5
Часть 1
Женщины – любительницы наук в России в конце XVIII – первой половине XIX века
Глава 4
Кабинеты натуральной истории и естественно-научные коллекции российских женщин в первой половине XIX века
ОглавлениеВ бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься!.. Стены, пол, потолок, все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет!
В. П. Желиховская. Как я была маленькой. Из воспоминаний раннего детства
Наверно, самым распространенным видом научной деятельности любителей естественных наук еще с XVIII века было составление естественно-научных коллекций и создание личных кабинетов натуральной истории. Просвещенные дамы не стали исключением из этого правила. И как бы ни относилось светское общество к ученым дамам, ученые и учебные учреждения Российской империи охотно пользовались плодами научной деятельности женщин, причем не только российских. Так, в своей знаменитой «Истории императорского Московского университета» профессор С. П. Шевырев рассказывает о пожалованном 12 февраля 1802 года императором Александром I Московскому университету «Натуральном кабинете, купленном после бывшаго воеводы Брацлавского, князя Яблоновского у его наследников за 50 000 голландских червонцев»190. С. П. Шевырев основывал свое заключение на небольшой заметке, опубликованной в газете «Московские Ведомости» 1 марта 1802 года191. Однако журналист допустил небольшую неточность в этом сообщении, и вслед за ним ошибся С. П. Шевырев. Кабинет принадлежал не князю, а княгине – Анне Паулине Сапеге Яблоновской (1728–1800)192, владелице местечка Семятичи, и был куплен после ее смерти у ее наследников (в том числе графа Станислава Солтыка)193. В 1802 году химик и минералог, академик Петербургской академии наук Василий Михайлович Севергин (1765–1826) по поручению правительства совершил путешествие из Петербурга в Семятичи194, занявшее почти полгода (с 15 февраля по 1 июня), как он писал, «…для осмотра, приема и препровождения в Императорской московской университет, бывшаго там Натурального кабинета покойной княгини Анны Яблоновской»195. Во время поездки В. М. Севергин вел что-то вроде путевого дневника, в котором подробно описал как встреченные достопримечательности, так и сам Натуральный кабинет княгини. Эти записки были опубликованы уже в 1803 году под названием: «Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным»196. В. М. Севергин счел необходимым дать общее описание Кабинета княгини Яблоновской: «Сей кабинет расположен был в замке Семятиченском в четырех больших залах. Покойная княгиня Анна Яблоновская, супруга бывшего Брацлавского воеводы, урожденная княгиня Сапега, обращала кажется внимание свое на все предметы упражнений разума человеческого. От сего происходит, что в сем кабинете находятся не только вещи до естественной истории принадлежащие; но также многие физические орудия, модели махин, медали и монеты древние и новейшие вазы, идолы и разные искусственные произведения, янтарные, костяные и другие как просвещенных, так и некоторых диких народов», – писал он197. Из этой фразы можно не только получить некоторое представление о размерах и составе коллекций – не вызывает сомнений, что В. М. Севергин абсолютно уверен: этот самый состав зависел исключительно от круга интересов и увлечений княгини Яблоновской, то есть именно княгиня, а не ее покойный супруг (например) была инициатором создания Кабинета. Некоторым подтверждением мнения В. М. Севергина может служить фраза из биографии известного итальянского доктора философии и медицины Степана de Bisiis Trexonariensis (Бизи), опубликованная в словаре Брокгауза и Ефрона: «Познакомившись с княгиней Яблоновской, он отправился с ней в Польшу в качестве ее домашнего врача и жил три года в Семятычах, где был уже раньше основан музей естествознания, богатая библиотека и школа повивальных бабок»198. По времени это событие относится к 1763–1768 годам. Как отмечает современный литовский исследователь А. Андрюшис: «Примечательно, что один из первых профессоров медицины Вильнюсского университета итальянец С. Л. Бизио (1724?–1790?) в 1763–1768 годах преподавал в акушерской школе поместья в Семятичах (Белоруссия), будучи придворным врачом у княгини А. Яблоновской»199. О репутации, которой Кабинет Яблоновской пользовался в ученом мире, можно судить из объявления о публичных лекциях профессора Федора Герасимовича Политковского (1753–1809), опубликованного в третьем номере журнала «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» за 1803 год. В нем между прочим говорилось следующее: «Для сих лекций открыт будет почтенной публике Семятический Натуральный кабинет, известный во всей Европе200 и принадлежавший княгине Яблоновской»201.
Несмотря на заявление о том, что подробное описание Кабинета Яблоновской должны будут дать его новые владельцы, то есть сотрудники Московского университета202, В. М. Севергин все-таки сделал некоторое описание коллекций в своих «Записках», по стечению обстоятельств оказавшееся единственным. Описание это состоит из двух частей: 1) общей характеристики предметов и 2) подробной характеристики собрания польских минералов, особенно привлекших внимание ученого своей полнотой, а также имевших отношение к его научным занятиям203. Общее описание Кабинета состоит из описания экспонатов по царствам природы и, далее, по месту их происхождения. О коллекции предметов животного царства В. М. Севергин пишет следующее: «Между телами животного царства отличались изящностью и редкостью своею как многие четвероногие; так и птицы, рыбы, Амфибии, насекомые, черви и животнорастения. А особливо птицы, а между Амфибиями змеи, между черепокожными же раковины, составляли собрания и многочисленные и изящные, так как и кораллы. К сему принадлежат также редкие анатомические препараты из воску сделанные, служащие для показания различных частей принадлежащих к орудиям чувств человеческих. Сие собрание в своем роде почти совершенное»204. Он отмечает: «Собрание к прозябаемому царству принадлежащее состояло из брусочков разных дерев, также камедей, смол и бальсамов, некоторых семен и других плодов, большею частию Европейских»205. О коллекции ископаемых замечает, что она содержала экспонаты из различных европейских стран, в том числе из Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Португалии и Англии. Отмечая при этом небольшое количество минералов из России и других северных стран206, Севергин также дал описание наиболее интересных образцов минералов и назвал местности, из которых было получено наибольшее их количество: Гарц, Саксония, Кобург, Карслбад, Идрия, Гессен, Пруссия, Франция, Италия, Испания, Португалия и др., подробно описав, какие образцы из какой именно страны получены207. Таким образом, В. М. Севергин оценил коллекции княгини А. Яблоновской достаточно высоко.
Разумеется, представители Московского университета приняли подобный дар с большой благодарностью. Как писал автор заметки в «Московских ведомостях», «с чувствованиями живейшей благодарности и глубочайшего благоговения, преклоняя колена пред Престолом Великого Монарха и лобызая Отеческую щедрую Его десницу, Начальство Московского Университета священнейшею обязанностию своею поставляет сей столь драгоценный и во всей просвещенной Европе редкий дар, стараться всеми силами учинить общеполезнейшим для всех любезных соотечественников и наипаче для обучающегося юношества»208. Конечно, Московский университет не мог не выразить благодарность должным образом, однако и современные специалисты оценивают научное значение Кабинета княгини А. Яблоновской достаточно высоко. По мнению, например, историка геологии З. А. Бессудновой, основанному на изучении записок В. М. Севергина, «…в этом Кабинете были собраны практически все минеральные виды, известные в Европе при жизни княгини Яблоновской»209.
Однако Натуральный кабинет княгини Яблоновской не был единственным вкладом женщины в создание коллекций и музеев Московского университета. В 1807 году другая княгиня, на этот раз российская, Екатерина Романовна Дашкова подарила Московскому университету свои собственные естественно-научные коллекции. 15 мая 1807 года «Московские ведомости» опубликовали следующую заметку: «Ее сиятельство, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная графиня Воронцова, императорского всероссийского двора статс-дама, ордена Св. Екатерины большого креста кавалер, прежде бывший директором Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, и член академий и славнейших в Европе ученых обществ, достойно заслужившая всеобщее уважение отличным соревнованием в распространении успехов просвещения, патриотизмом и своими сочинениями, благоволила принести в дар Императорскому Московскому университету свой кабинет редкостей натуральной истории. Сие драгоценное собрание, – к составлению которого ее сиятельством употреблено более тридцати лет, и к приращению которого содействовали царствовавшие высочайшие особы: Иосиф II, император Римский, курфюрст Саксонский, король Шведский, великий герцог Тосканский, и многие другие, – содержит в себе:
Сей дар, посвященный ее сиятельством распространению наук и на пользу московской публики, стоящий более 50 000 рублей, помещен будет в залах, прикосновенных к музею Московского университета, расположенному во всевозможно удобнейшем для обозрения порядке, и таким образом, что как высочайше пожалованные, так и прочие подаренные редкости и драгоценности поставлены в особенных залах, кои для незабвенной памяти и благодарности означены именами, и украшены бюстами или портретами благотворителей и приносителей значительных даров сему училищу. Таковы залы суть: его императорского величества, благополучно царствующего всемилостивейшего государя; его превосходительства Павла Григорьевича Демидова; его сиятельства князя Александра Александровича Урусова; его сиятельства графа Александра Сергеевича Строгонова.
Сообразно сему расположению и благонамеренной цели, Императорский московский университет обязанностью своею почитает, расположа и сей новый дар новыя Благотворительницы своей в особых залах, и отлича оныя именем ея сиятельства, украсить портретом ея, дабы оный навсегда был памятником признательнейшей благодарности, каковую обязаны будут все обучающиеся питать к особе ея в своих сердцах»210.
Чуть больше чем через месяц, 26 июня 1807 года, Е. Р. Дашкова дополнила свой дар еще несколькими предметами: «Ныне благоволила она показать новый опыт благорасположения своего приношением для умножения и обогащения музея разных 332 предмета, – писали «Московские ведомости» 26 июня 1807 года. – Они составляют большую часть драгоценных камней, физические инструменты, антики, оригинальные рисунки, представляющие насекомых, трудов девицы Дрезд, сочинения исторические и принадлежащие к истории натуральной, знатное число книг для библиотеки, между коими особливое заслуживает внимание Новый Завет, напечатанный по воле Императора Петра I на славянском и голландском языках»211.
Некоторые из подаренных Е. Р. Дашковой предметов оказались редкими и очень ценными с научной точки зрения, на основании их изучения были сделаны научные открытия, в частности профессором Московского университета Фишером фон Вальдгеймом (1771–1853)212. В примечании к статье о Ф. Г. Политковском, написанной для «Биографического словаря профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», первый профессор геологии и минералогии Московского университета, один из выдающихся отечественных геологов Григорий Ефимович Щуровский (1803–1884) упоминает об использовании Ф. Г. Политковским собрания княгини Яблоновской во время проведения публичных лекций и добавляет: «Вскоре потом княгиня Екатерина Романовна Дашкова пожертвовала в пользу Московского университета богатейшее в тогдашнем ученом свете собрание минералов. Таким образом составился при университете весьма богатый музеум натуральной истории, и самое лучшее, полнейшее собрание минералов, которому тогда во всей Европе не было подобного»213.
С. П. Шевырев привел подробные данные о коллекциях, подаренных университету Е. Р. Дашковой, в своей знаменитой «Истории Московского университета», заимствовав их, по-видимому, из заметок в «Московских ведомостях»214 (сам он не указывает источник своих сведений). Более подробного описания естественно-научных коллекций Е. Р. Дашковой, по сведениям современных исследователей, не сохранилось215.
Таким образом, большой частью своих естественно-научных допожарных коллекций Московский университет был обязан научным интересам, личному труду, а также значительным материальным тратам двух женщин. И это «женское» происхождение никоим образом не смущало московских ученых и не мешало им использовать указанные собрания. Во всяком случае, никаких указаний на нечто подобное нами найдено не было. Хотя, конечно, журналист «Московских ведомостей», сообщивший о покупке Кабинета князя Яблоновского, мог сделать это совсем не случайно, а намеренно, дабы не умалять столь важного события упоминанием женского имени или чтобы не признавать значительных заслуг женщины в таком неженском деле. Но это только догадки.
Надо заметить, что в указанный период, то есть в начале XIX века, знатные женщины выступают не только как дарительницы своих кабинетов натуральной истории, но и как меценаты по отношению к научным учреждениям. Например, № 1 журнала «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» за 1803 год сообщает, что 12 декабря 1802 года «вдовствующая действительная тайная советница графиня Л’Есток, урожденная баронесса фон Менгден» прислала письмо в Дерптский университет, в котором сообщала, что назначает 15 000 рублей серебром в пользу учащихся этого университета. После ее смерти проценты с этого капитала должны быть использованы для трех стипендий по 200 рублей серебром в год для неимущих студентов из местного дворянства. Когда же благодаря процентам капитал возрастет до 16 000, следует назначать четыре стипендии216. По-видимому, в данной заметке имеется в виду графиня Мария Аврора Лесток, дочь барона Магнута-Густава фон Менгдена, с 14 февраля 1742 года бывшая фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны и 11 ноября 1747 года вышедшая замуж за лейб-медика, действительного тайного советника Иоганна Германа Лестока (1692–1767)217, а в 1748 году разделившая с ним заключение в крепости и последовавшую многолетнюю ссылку. Подобное пожертвование свидетельствует о заинтересованности в судьбе университета, в распространении образования, в том числе среди тех, у кого недостаточно средств, чтобы оплатить его самим, то есть как минимум о понимании важности подобных занятий. Кроме того, по некоторым данным, графиня Лесток помимо денег пожертвовала университету свою библиотеку, которая могла быть на самом деле частью знаменитой медицинской и научной библиотеки ее супруга: «… известно, что в 1800 г. вдова бывшего лейб-медика передала в дар Дерптскому университету часть своей библиотеки – 378 томов, среди которых также могли оказаться отдельные книги из собрания И. Г. Лестока», – пишет П. И. Хотеев со ссылкой на известное издание: Vigel E. Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu asutamine ja areng aastail 1802–1839. Tartu, 1962. Lk. 15 (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. V. 115)218. Об этом также сообщает заведующая отделом научной литературы Научной библиотеки Тартуского университета О. Эйнасто в статье, посвященной 200-летию Тартуского университета: «Большая часть книг попала в библиотеку благодаря прекрасному обычаю XIX в. дарить книги. Первый дар библиотеке преподнесла графиня Мария Лесток, супруга лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны»219.
Конечно, и княгиня Яблоновская (не являвшаяся российской подданной), и княгиня Дашкова (европейски образованная и проведшая большую часть своей жизни в Европе), и графиня Лесток, принадлежавшая к влиятельному прибалтийскому дворянскому роду, были представительницами XVIII века, века Просвещения. Возможно ли, что XIX век внес свои коррективы и со сменой политического курса исчезли и женщины, чьи интересы выходили за узкие рамки, предписанные им общественной моралью? На первый взгляд кажется, что это так, но факты опровергают подобную точку зрения.
Первая половина XIX века представляет нашему вниманию нескольких женщин, широко известных своими кабинетами натуральной истории и интересом к естествознанию. На основании выявленных фактов можно также обоснованно предположить, что в этот период увлечение коллекционированием, прежде всего созданием ботанических коллекций, было распространено среди не только аристократок, но и более скромных представительниц провинциального дворянства.
Знаменитый отечественный мемуарист Ф. Ф. Вигель (1786–1856), рассказывая в воспоминаниях о своем детстве и полученном образовании, писал об одной даме, имевшей на него, тогда подростка, большое влияние: «Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце220 моей любезной Турчаниновой»221. К сожалению, более подробного описания «кабинетца» Ф. Ф. Вигель не оставил, но из нескольких слов, брошенных им об этой даме, ясно видно, что она безусловно была любительницей наук: «Не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими222 науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее знали под именем философки», – пишет он223. По словам Ф. Ф. Вигеля, эта дама была близко знакома с монахами киевского Братского монастыря, бывшего в то время центром «киевской учености».
Ф. Ф. Вигель говорит здесь об Анне Александровне Турчаниновой (1774–1848), личности весьма известной в нашей литературе, правда благодаря не столько ее познаниям в естественных науках, сколько более позднему увлечению так называемым магнетизмом. Дочь богатых помещиков Киевской губернии224, она, по-видимому, занималась самообразованием, писала и публиковала стихи225, а также перевела и опубликовала по крайней мере две книги философского содержания: «Натуральная этика или законы нравственности, от созерцания природы непосредственно проистекающие»226 и «Lettres philosophiques de Mr. Fontaine et de m-lle Tourtchaninoff» («Философские письма месье Фонтэйна и мадемуазель Турчаниновой»)227. В 20-е годы XIX века она приобрела широкую известность в петербургских великосветских кругах как магнетизерша, излечивавшая взглядом. Исследователи творчества А. С. Пушкина пишут о его интересе к явлению магнетизма и к Турчаниновой как человеку, обладавшему способностями к этому виду деятельности. Основываясь на сообщениях мемуаристов, в частности М. А. Салтыкова, они предполагают личное знакомство А. А. Турчаниновой и А. С. Пушкина.
Гораздо большую известность, причем именно в ученом мире, хотя и не только в нем, приобрел кабинет натуральной истории другой дамы, а именно Елены Павловны Фадеевой (1788–1860), урожденной княжны Долгорукой (по старшей линии этого известного в России рода). Ее внук, воспитывавшийся у нее в доме и научившийся читать и писать, сидя у нее на коленях, будущий председатель Совета министров Российской империи Сергей Юльевич Витте (1849–1915) писал в воспоминаниях о своей бабушке: «Елена Павловна была совершенно из ряда вон выходящая женщина по тому времени в смысле своего образования; она очень любила природу и весьма усердно занималась ботаникой. Будучи на Кавказе, она составила громадную коллекцию кавказской флоры с описанием всех растений и научным их определением. Вся эта коллекция и весь труд Елены Павловны были подарены наследниками ее в Новороссийский университет»228.
В 1860 году, после смерти Е. П. Фадеевой, в газете «Кавказ» (г. Тифлис) был опубликован посвященный ей подробный биографический очерк, изданный вскоре отдельной брошюрой229. Установить автора этого очерка пока что, к сожалению, не удалось. По словам дочери Елены Павловны, Надежды Андреевны Фадеевой (1829–1919), он был написан «человеком, близко знавшим ее»230. Но наше предположение о том, что этим человеком был кто-то из детей или внуков Е. П. Фадеевой, возможно супруг, не подтверждается. В личном фонде писательницы Веры Петровны Желиховской (1835–1896), внучки Е. П. Фадеевой, сохранился экземпляр биографической брошюры с некоторыми рукописными исправлениями, сделанными В. П. Желиховской. Исправления касаются даты рождения Е. П. Фадеевой, сведений о ее предках и других семейных обстоятельствах, о которых члены семьи, конечно, не могли не знать231. Тем не менее автор биографического очерка был прекрасно осведомлен о характере исследовательской работы Елены Павловны и о ее научных интересах. Вот что он (или она) пишет: «…ботаника сделалась любимою наукою всей ее жизни; памятниками этой любви служат оставшиеся после покойной 50 томов собственноручных рисунков растений, которые она сама же и определяла, при помощи библиотеки, составленной из всех занимательных сочинений по этой части. Кроме того, она успела составить богатую орнитологическую коллекцию, часть которой еще при жизни подарила Кавказскому обществу сельского хозяйства. – Минералогическая и палеонтологическая коллекции, а также собрание древних монет и медалей, весьма замечательные во многих отношениях, составляют теперь собственность детей покойной»232.
Можно сказать, что за свою долгую жизнь Елена Павловна сыграла несколько ролей, каждая из которых раскрывала ее характер с новой, иногда неожиданной даже для близких друзей и знакомых стороны. Так, со времени своего замужества, большую часть жизни, она была супругой крупного чиновника, «первой дамой» тех мест, где им приходилось жить, что подразумевало некоторые обязанности, например занятие благотворительностью. Она, конечно, являлась матерью и воспитательницей своих детей, а впоследствии и внуков, хозяйкой дома, управляющей семейными имениями, когда семья владела ими, поскольку супруг был занят службой. Все это роли обычные и привычные для женщины ее круга. Однако одновременно она была ученой: великолепно образованной, обладавшей обширными познаниями, страстной любительницей естественных наук, прежде всего ботаники. И в этом качестве ее знали и уважали представители научного мира, в то время как остальной мир даже не подозревал о ее необычных увлечениях. В. П. Желиховская заметила об этой «двойной» жизни своей бабушки: «Е. П. Фадеева при всех своих глубоких знаниях и ученых занятиях, была так непритязательна в обращении; так искренна и обходительна со всеми, что многие простые смертные, знавшие ее по годам за ласковую, веселую собеседницу, – иные за прекрасную хозяйку, другие – за хорошую рукодельницу, – все за добрую помощницу, всегда готовую услужить и советом, и делом, часто и не подозревали ее глубоких знаний и ученой деятельности. И наоборот: не раз люди науки, хорошо знакомые с ее кабинетом и разнообразными коллекциями, открывали в изумлении рты, когда нянька вызывала ее покормить ребенка или являлась ключница за наставлениями… Потому-то и сказала я, что мало кто знал ее вполне»233. Было ли подобное поведение вызвано истинной скромностью или нежеланием бросить тень на доброе имя мужа, но Е. П. Фадеева действительно никогда не афишировала своих научных занятий перед непосвященными. Охотно принимая в своем доме профессиональных ученых и путешественников, поддерживая многолетнюю переписку со многими из них, пользуясь репутацией серьезного исследователя, она никогда не публиковала никаких научных работ, никогда не выступала публично, действительно стараясь не привлекать внимания к своим научным занятиям, отнимавшим большую часть ее времени и сил. Однако надо отметить, что не только муж Е. П. Фадеевой, А. М. Фадеев, не был против ее научных занятий, но и его близкие друзья и коллеги по работе также знали о занятиях Е. П. Фадеевой. Например, Иаков, епископ Саратовский и Нижегородский (Иосиф Иванович Вечерков)234, писал А. М. Фадееву 8 декабря 1846 года: «Божие благословение Елене Павловне. Просите ее продолжать в Тифлисе полезные для науки рисунки по делам флоры. Это занятие сделает в лице ее честь русским дамам»235.
Возможно, что история не сохранила бы никаких следов этой ее деятельности, но усилия ее детей и, даже в большей степени, воспитанных ею внуков воспрепятствовали этому.
Княжна Елена Павловна Долгорукая родилась 11 ноября 1788 года в одной из самых известных российских семей. Ее отцом был князь Павел Васильевич Долгорукий (1755–1837), екатерининский генерал, вышедший в отставку в начале царствования Павла I, в 1796 году, в чине генерал-майора; матерью – княгиня Генриетта Адольфовна Долгорукая (?–1812), урожденная де Бандре. Так получилось, что с самого своего рождения Елена Павловна жила и воспитывалась в доме родителей своей матери, дедушки и бабушки де Бандре, находившемся в городке Ржищеве, неподалеку от Киева. И именно там в 1812 году она познакомилась с Андреем Михайловичем Фадеевым (1789–1867), одним из младших сыновей дворянского рода Фадеевых, мужчины которого традиционно служили в российской армии еще со времен Петра I, хотя и не выслужили особых чинов и наград, и в 1813 году вышла за него замуж. Брак этот был воспринят окружающими как мезальянс. Однако дети и внуки Фадеевых яростно протестовали против подобной трактовки событий, заявляя, что единственной причиной брака была взаимная любовь236. Прекрасные связи молодой жены, точнее, ее родственников позволили А. М. Фадееву начать гражданскую карьеру (традиционная для его семьи военная служба его не прельщала), которая, как показало будущее, сложилась вполне удачно237.
Известно, что ко времени знакомства с будущим супругом научные интересы княжны Долгорукой уже были вполне сформированы. По сведениям автора некролога Е. П. Фадеевой, опубликованного в газете «Кавказ» 15 сентября 1860 года, большое влияние на юную княжну оказала некая соседка, помещица графиня Дзялынская, близкая знакомая бабушки Елены Павловны: «Елена Павловна с самого начала полюбила естественные науки и из них в особенности ботанику. Независимо от врожденной охоты к положительному знанию, эту страсть возбудила в ней соседка по имению ее бабушки, графиня Дзялынская. С тех пор ботаника сделалась любимою наукою всей ее жизни…» – пишет автор некролога238
190
Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. Репринтное издание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 315.
191
В Москве // Московские ведомости. 1802. 1 марта. № 18. С. 258.
192
Księżna Anna Paulinaz Sapiehów Jabłonowska (1728–1800).
193
См.: Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 22.
194
В описываемое время Семятич (Семятичи) принадлежал к прусской части Польши; впоследствии местечко вошло в состав Гродненской губернии Российской империи.
195
Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным. СПб.: При Императорской Академии Наук, 1803. С. [1].
196
Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным. СПб.: При Императорской академии наук, 1803.
197
Там же. С. 77.
198
Бизи или Бизио // Энциклопедический словарь. СПб., 1891. Т. 111а: Бергер – Бисы. С. 833.
199
Андрюшис А. Подготовка акушерок в Вильнюсском университете и Медико-хирургической академии в 1774/75–1842 гг. // Медицинская профессура Российской империи. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. М.: Изд. ММА им. И. М. Сеченова, 2005. С. 5–6.
200
Курсив наш. — О. В.
201
Начертание о новоучреждаемом при Императорском Московском университете преподавании нужнейших и полезнейших наук для почтенной московской публики // Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1803. № 3. С. 288.
202
Севергин В. М. Указ. соч. С. 76.
203
Там же. С. 83.
204
Севергин В. М. Указ. соч. С. 77–78.
205
Там же. С. 78.
206
Там же.
207
Там же. С. 80.
208
В Москве // Московские ведомости. 1802. 1 марта. № 18. С. 258.
209
Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 23.
210
Московские ведомости. 1807. № 39. Мая 15 дня. Середа. С. 869–870.
211
Там же. № 51. 26 июня. Середа. С. 1116.
212
Об этом подробнее см.: Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 32–33.
213
[Щуровский Г. Е.] Политковский, Федор Герасимович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году и расположенный по азбучному порядку. Ч. 2. М., 1855. С. 280–287.
214
Шевырев С. П. Указ. соч. С. 372.
215
См., например: Бессуднова З. А. Указ. соч. С. 32. Прим.
216
Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1803. № 1. С. 81–82.
217
Фрейлины императрицы Елизаветы Петровны / Публ. [и вступ. ст.] К. А. Писаренко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. XV]. С. 171.
218
Хотеев П. И. Библиотека лейб-медика И. Г. Лестока // Книга и библиотеки в России в XIV – первой половине XIX в.: Сб. научных трудов. Л., 1982. С. 44. Прим.
219
Эйнасто О. 200-летие Библиотеки Тартуского университета // URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/11/f11_11.htm.
220
Курсив наш. — О. В.
221
Вигель Ф. Ф. Записки. M., 2003. Т. 1. С. 107.
222
Курсив наш. — О. В.
223
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 107.
224
Подробнее о семье Турчаниновых см.: Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 106 и др.
225
См.: Турчанинова А. А. Отрывки из сочинений Анны Турчаниновой. СПб., 1803.
226
Турчанинова А. А. Натуральная этика или законы нравственности, от созерцания природы непосредственно проистекающие / Пер. с лат. Анны Турчаниновой. СПб., 1803.
227
Lettres philosophiques de Mr. Fontaine et de m-lle Tourtchaninoff. Paris, 1817.
228
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1 (1849–1894). М., 1960. С. 19.
229
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426; Елена Павловна Фадеева (Биографический очерк). Тифлис, 1860.
230
[Фадеева Н. А.] По поводу статьи «Роман одной забытой романистки». Письмо Н. А. Фадеевой // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1886. Ноябрь. С. 457.
231
Елена Павловна Фадеева (Биографический очерк). Тифлис, 1860 // РГАЛИ. Ф. 197. Оп. 1. Д. 57. Л. 1–7.
232
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426.
233
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган, писательница-романистка в 1835–1842 гг. // Русская старина. 1887. Март. С. 765.
234
Вечерков Иосиф Иванович (1792–1850) был известен своими работами по истории, географии, археологии Саратовского края. См.: Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии // URL: http://www.eparhia-saratov.ru/pages/3257_iakov,_arhiepiskop_nijegorodskiy_i_arzamasskiy.
235
Иаков, епископ Саратовский и Нижегородский. Письмо А. М. Фадееву. 8 декабря 1846 г. // РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 15. Л. 1 об., 2.
236
Фадеева Н. А. Комментарии // Фадеев А. М. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790–1867 гг.: В 2 частях. Одесса, 1897. С. 24.
237
Подробнее об этом см. в: Фадеев А. М. Мои воспоминания // Русский архив. 1891. № 2–12.
238
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426.