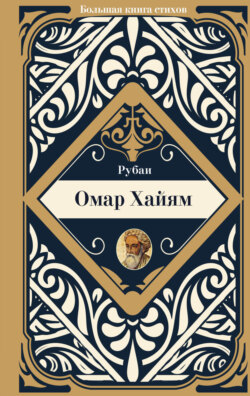Читать книгу Рубаи - Омар Хайям - Страница 2
Лирика как разговор в образах
ОглавлениеОмар Хайям (1048–1131), великий персидский философ, ученый и поэт – неоспоримый классик мировой лирики. Есть классики в строгом смысле, античные писатели, которые показывают богоподобие героев, дружбу богов и людей: как победители Олимпийских игр становятся равны богам, а протагонисты трагедий проигрывают в соревновании с богами. Такая классика призывает читателя открыть образ бессмертия в самом себе. Есть классики нового времени, люди, подобные нам, со своими слабостями, которые вдруг могут увлечь нас. Такая классика позволяет осознать и почувствовать то, что мы не можем извлечь из обычных наблюдений за повседневной жизнью. Омар Хайям – уникальный средневековый поэт, принадлежащий сразу к двум группам или способам понимания классики. Он говорит об условиях бессмертия, о том, что в человеке становится божественным и драгоценным, и он же повествует о мгновенном, изменчивом, самом слабом в человеке, об отчаянии и задумчивости, переживаниях и недоумениях, что вдруг тоже причастно вечности и позволяет вечному развернуться и ожить в нас. Любовь, дружба, верность, уверенность, ревность, скептическая мудрость – и тут же переживание нынешнего бытия человека как хрупкого, ничтожного, но в этом ничтожестве бессмертного – в его поэзии не лирический каприз, не неожиданные повороты сюжета, а строгая закономерность бытия, увиденного как бы божественными глазами. Так постоянное сопоставление временного и вечного в каждом его рубаи делает Хайяма классиком сразу в двух названных смыслах.
По профессии Хайям был хакимом – это слово означает «мудрец» и соответствует нашему «доктор»: в широком смысле – образованный человек, а в специальном – врач. Известно, что он учился философии и врачебному делу в родном Нишапуре, Балхе, Самарканде и Бухаре. На детство Хайяма пришлось самое драматическое событие в истории Центральной Азии Средних веков – сельджукское завоевание, когда войска огузов прошли волной с востока на запад, подчинив Мавераннахр – ключевой регион исламской учености, к которому и принадлежали Бухара и Самарканд. Хайям с горечью писал, что война уничтожила лучших представителей науки: города были разграблены, школы работать не могли, а за врачей стали выдавать себя бродячие шарлатаны, так что не было возможности отделить истинных ученых от ложных. К этим бедам прибавилась и эпидемия, унесшая жизнь родителей нашего поэта, когда тому было 16 лет. Ему пришлось поспешно держать экзамены в Самарканде, чтобы быть признанным как врач среди знающих людей, а для этого вступать в диспуты по всем вопросам тогдашней науки и тем самым приобретать славу профессионала. В столь юном возрасте он поражал всех способностью выдерживать спор с самыми учеными людьми эпохи.
Жизнь Хайяма после триумфа в Самарканде десять лет была связана с Бухарой. Там он стал библиотекарем, хотя не совсем в нашем понимании: он не просто знал, что в какой книге написано, но систематизировал книги, излагал их, создавал учебники на основе книг. Мы бы назвали его скорее «методистом», но тогда это всё просто относилось к обобщенному понятию учености. Так он создал несколько трактатов по математике, доступно изложенных. В 1074 году он был приглашен в Исфахан, персидский город, где только что разместился двор сельджукского султана Мелик-шаха I. Правитель неожиданно для всех возникшей империи нуждался в ученых для своей новой столицы: надлежало реформировать календарь для лучшего планирования мирной жизни, разобраться с финансовой системой, наконец, открыть множество медресе и других училищ для подготовки врачей и инженеров. Хайям принял предложение и стал одновременно духовным наставником султана (по сути, консультантом по всем научным вопросам, или министром науки) и руководителем обсерватории, которая опять же представляла собой не просто сооружение для наблюдения за звездами, а центр знаний, ведавший вопросами календаря, погоды, сроков сельскохозяйственных работ и расчета военных и гражданских кампаний. По сути, Хайям занимался задачами военной и продовольственной безопасности, – тем самым заменяя добрую половину нынешних министерств и государственных служб, от экономического блока правительства до статистических ведомств. Он разработал новые астрономические таблицы, создал самый точный из всех существующих до сих пор календарей и реформировал систему образования.
Вообще, научная деятельность Хайяма часто равнялась на практику – например, он усовершенствовал созданный Архимедом принцип определения чистоты золота через сравнение веса и объема, что требовалось для правильного учета богатств. Но в 1092 году Мелик-шах умер, и Хайям был отправлен в отставку как слишком смелый мыслитель. Это не значит, что он жил как частное лицо: он продолжал пользоваться уважением как врач и наставник мудрости, чтимый ревностными учениками. Эта отставка скорее напоминает нынешние, когда бывший министр экономики становится университетским профессором или деканом. Известно, что он комментировал труды персидского философа и визиря Ибн-Сины (Авиценны) до самой смерти, и умер с именем Бога на устах, благодаря Его за возможность хотя бы устремляться умом к высшим сферам.
Теперь необходимо сказать, чем являлись метафизика и комментарий для ученых тогдашнего исламского мира. Метафизика, скажем, труды Ибн-Сины, объясняла закономерности природы исходя из более общих закономерностей, таких, например, как отношение бытия и познания, причины движения, взаимосвязь материи и формы. Напрямую вывести из этой философии отдельные врачебные предписания было нельзя, но этого и не требовалось: следовало научиться мыслить так, чтобы принимать неожиданные и продуктивные решения во врачебной практике; допустим, по симптому угадать возможное развитие болезни. И как раз здесь был необходим комментарий как способ поразмышлять над отвлеченными тезисами и вскрыть их неожиданные аспекты. Например, философия утверждает единство материи и формы. Комментатор говорит, что единство – это не просто пребывание вместе, а особое единение, которое бывает разных типов. И затем врач, размышляя о единении в разных смыслах, находит способ выправить течение болезни. Так комментарий становится в конце концов источником иного знания, позволяя вводить новые, неожиданные понятия, новые ракурсы рассмотрения вещей, которых в прежней философии не было. И рубаи Хайяма – это по сути ракурсы нового рассмотрения всем известных вещей, которые становятся поразительными и вдохновляющими в пределах четырех строк.
Истоки поэтического лаконизма Хайяма – как ни странно, в его математическом профессионализме. Как математик Хайям был алгебраистом, но алгеброй тогда было не совсем то, что мы понимаем под этим словом сейчас. Алгебра для всех, кто окончил среднюю школу, – раздел математики, более сложный, чем арифметика, изучаемая в младших классах, но менее сложный, чем математический анализ, доступный только старшеклассникам и студентам. Но алгеброй в мире исламской учености называлась наука о решении квадратных уравнений, основанная на заимствованных из Индии цифрах, которые все знают как арабские. Новый строй цифр позволял упрощать формулировки: если в античной математике была своя риторика, свой способ публично рассуждать о числах, пропорциях и отношениях и нужно было как бы телесно впитать эти формулировки, чтобы заниматься математикой, то алгебра позволяла просто смотреть, как раскладывается уравнение, как без дополнительных слов работают математические знаки. Античная математика в основном была действительно телесна, словно танец, требующий переставлять фигуры и перетаскивать числовые значения как кирпичи, записывая всё по преимуществу словами, а не знаками, тогда как средневековая арабская и персидская математика по-настоящему духовна, она подразумевает прямое действие отвлеченных символов.
Омар Хайям постоянно работал над упрощением математики до лаконизма, заменяя античные телесные теории пропорций на новые одухотворенные теории чисел: например, если аксиома о параллельных прямых у Евклида формулировалась довольно громоздко, поэтому нужно было вообразить телесно эту непересекаемость линий как почти физическое свойство длительности, то Хайям действовал апофатически (мы ниже скажем, что значит это слово, пока просто его запомните) и сказал афористично, что все прямые линии стремятся пересечься, а если они не пересеклись, придется назвать их параллельными. Этим и объясняется афористичность поэзии Хайяма: это не поспешная мораль, но просто готовность принять формулу, если она объясняет все явления данного порядка. Иначе говоря, он не выводит из бытовых утверждений о следовании рядом двух вещей, отвлеченные понятия о параллельности и соответствующие способы работы, а сразу показывает, как действие простых отвлеченных показателей вроде «способности пересечься» определяет разные понятия, в том числе и о параллельности, которые можно сделать теперь бытовыми и поэтическими понятиями: например, воспев параллель горя и радости или параллель человеческой жизни и мысли. Хайям всегда в своих рубаи принимал самые общие, отвлеченные понятия и создавал переживания поразительной глубины, затрагивая самые интимные отношения души и мироздания.
Чтобы разобраться с поэзией Омара Хайяма на фарси (персидском), сначала поговорим о жанрах средневековой персидской поэзии. В этой поэзии существовали только жесткие формы, такие как газель, касыда и рубаи. Газель, канонический тип которой создал через полтора века после Хайяма исламский мистик Саади, а еще через век – другой мистик и поэт Хафиз Ширази, – это то, что мы бы назвали посланием: обращение к идеализированному собеседнику, Богу, возлюбленной или другу, который недостижим, и именно поэтому нужно подбирать всё больше необычных слов и образов, чтобы если не достичь желаемого, то воспарить над обычаями своего времени и своего круга. Касыда – повествовательная поэзия, рассказывающая какую-то историю, чтобы восхвалить кого-то другого, но не забыть и о себе. Здесь, наоборот, нужно не подбирать слова, а употреблять те, что сразу пришли на ум, целеустремленно и продуманно. Наконец, рубаи, тот жанр, в котором и писал Хайям, – это эпиграммы, афоризмы, в сжатом четверостишии рассказывающие одновременно о том, как действует любовь или радость и как действует сама поэзия, являясь способом соединения слов. Это жанр, отсылающий не только к жизненным противоречиям и духовным открытиям, но и к стиху, который тоже не забывает заявить о себе и на миг показать себя выразительнее самой жизни.
В рубаи трудно различить, где речь идет о людском опыте, а где – о собственных свойствах стиха выражать или уточнять этот опыт; где – о расхожих страстях, а где – о той неповторимой страсти, которую может внушить только поэзия.
Ближайшим источником образности персидской поэзии является неоплатонизм, пришедший от греков, которые тогда были не просто соседями, а ближайшими соседями. Когда император Византии Юстиниан I в 529 г. закрыл платоническую Академию как языческое заведение, философы во главе с Дамаскием, Симпликием и Прискианом прибыли ко двору персидского царя Хосрова I, где продолжили научные занятия. Любой платонизм утверждает, что существует непреодолимое расстояние между нашим привычным земным миром и духовным божественным миром идей, что всё земное – только тень небесного, и что тень может самое большее намекнуть на то, как устроено истинное бытие. Но неоплатонизм, взяв за образец арифметические и геометрические правила, стал говорить не просто о непреодолимости этого расстояния, а о том, что оно обладает своими качествами и свойствами, что надо восхищаться этой непреодолимостью и понимать ее широту и глубину, более того, инвестировать в нее возможности нашего языка, весь пыл речевого восторга.
Для неоплатонизма земное не просто намекает на небесное; нужно определенным способом измерять это земное, работать с ним, прослеживать его динамику и степень дальности расстояния от небесного, чтобы мы вообще могли что-то сказать о небесном, а не застывали бы перед небом в благоговейном молчании. Поэтому, если говорить совсем просто, между земным и небесным выстраивается обратная математическая пропорциональность аллегории или сравнения: чем более низкий предмет берется для сравнения, тем более высокую реальность он может нам приоткрывать. Так, греческий христианский неоплатоник, выдававший себя за ученика апостола Павла Дионисия Ареопагита, ввел понятие апофатического богословия: мы можем говорить о Боге, только отрицая какое-либо сходство Бога с земными предметами и понятиями. А для этого, перебирая предметы, мы должны удаляться от катафатического богословия, от утверждений о Боге по аналогии. Ведь Бог бесконечно несравним ни с солнцем, ни с пьяницей – оба сравнения недопустимы для потусторонней и непостижимой природы Бога. Но катафатическое богословие допускает сравнение Бога с солнцем, потому что Бог столь же высок, прекрасен и милостив ко всем. Просто чтобы не впасть в язычество, требуется более одного основания для такого сравнения. А вот апофатическое богословие требует говорить, что Бог не похож на солнце и не похож на пьяницу, но раз про солнце мы уже говорили, то нужно дальше хотя бы мысленно сказать: «Бог – пьяница», это не будет более нечестивым, чем сказать: «Бог – солнце». Достаточно то, что было для мнимого Дионисия Ареопагита мысленным экспериментом, превратить в лирическую импровизацию, и перед нами будет поэзия Омара Хайяма, где постоянное питье вина и есть образ причастности к истинному божественному знанию.
Вообще, персидская поэзия так глубоко усвоила уроки платонизма, что определила и облик европейской лирической поэзии, и сами представления о высоком лирическом настроении, когда любовь или дружба понимаются не просто как что-то прекрасное, но как что-то высокое, недостижимое, принадлежащее миру идей. В таком утверждении высших ценностей опять же реализовывался неоплатонический квадрат расстояний: чем ниже предмет, взятый для сравнения, тем выше и небеснее оказывается то, что подразумевается сравнением. Эта поэзия поэтому постоянно работает с отвергнутым и просто запретным – все знают, сколь строго ислам запрещает винопитие и сколь смело нарушали этот запрет Хафиз и Хайям. Принимая запретное и тайное за основание сравнения, мы приоткрываем небесные тайны и самое главное в человеческой жизни.
Например, самые известные образы всей персидской поэзии – это соловей и роза. Понятно, что по происхождению они телесны, указывают на тайные части мужского и женского тела; но когда мы читаем лирическое стихотворение о соловье и розе, мы меньше всего думаем о телесных прикосновениях, а больше – о тихой грусти, трепете ожидания, томлении, бесконечном, как песня, и радости встречи, ясной, как соловьиная нота. Также и образы опьянения, низости, бренности, скоротечности жизни и безысходности – это те необходимо ничтожные категории сравнения, которые и должны в поэзии Хайяма открыть небесное и непостижимое. Именно об этом всегда нужно помнить, когда мы читаем в некоторых книгах о якобы «вольнодумстве» и чуть ли не «безбожии» великого философа и поэта, – на самом деле это особый тип веры, в которой благоговение перед тайной неотделимо от стремления познавать Бога и от признания постоянных отчаянных, но сладостных поражений в этом познании.
Неоплатонизм был не просто системой созерцания, но и определенной аскетической практикой. Прежде всего неоплатоник должен уметь созерцать внутренний свет, чувствовать себя в этом мире как во тьме, которая вдруг неожиданно озаряется светом познания и правильной жизни. Такой философ не может отделить задачи познания от задач преображения жизни: он созерцает внутри себя некий образ, который и позволяет перейти от отдельных чувств и эмоций к выстраиванию жизни на совсем новых основаниях. Персидская поэзия и в основном Хайям превратили это созерцание, прежде доступное только единицам философов-профессионалов, в общее настроение лирики. Когда мы сегодня смотрим на фотографию любимого человека или храним его образ в душе, вспоминаем родной голос и улыбку, не спим всю ночь и призываем мысленно предмет своей любви, – то мы думаем о том, что его прямым предшественником был платоник, который в своей душе мог увидеть свет истинного, подлинно духовного тела, идеального божественного облика, равно как и монах, в темной келье молящийся перед лучезарной иконой. Хайям, по сути, просто расширяет число способов созерцания: созерцается идеальная телесность, идеал просветленного и просвещенного человека, каким он может стать, чтобы быть прекрасным влюбленным и другом, испытав отчаяние, разочарование, пережив хрупкость жизни и познав ненадежность прежних убеждений. Аскету нужно идти своим путем, не уклоняясь, оставив все сомнения при начале пути, тогда как лирик может позволить себе сомневаться даже на высотах созерцания.
В этой же аскезе любовь понимается как язва, как сладостное и одновременно мучительное переживание. Такое понимание пришло из Античности: страдание, любовная страсть как патетическое наслаждение, торжественное и мучительное, которую нес с собой Эрот (Амур) с луком и стрелами, – рана от стрелы болезненна. Этот образ перешел в средневековое богословие: так, в православной молитве Ангелу-хранителю есть просьба: «К любви небесной уязви (т. е. рань) душу мою» – на смену Эроту пришел Ангел, тоже крылатый, и любовь уже обращена к Богу. Хайям не пересматривает этих представлений о близости страдания и унижения к высшему наслаждению и небесному бытию, но просто опять невероятно расширяет сферу их применения. Болезненно можно переживать не только саму свою влюбленность, но и свое время, свой круг общения, скоротечность событий, тяжелые жизненные испытания, длительную меланхолию, заставляющую рассуждать и успокаиваться за чашей, – но всё это окажется частью встречи с самыми общими законами бытия, где любовь имеет свой собственный лик, где мир освещен солнцем, порыв к новой жизни оказывается не просто подхвачен, но умножен и возведен в степень.
Европейский читатель долго не знал Хайяма, в отличие от Хафиза, который был признан классиком и авторитетным исламским богословом в Османской империи, благодаря чему о нем узнали ученые Запада. Хайяма открыл английский писатель Эдвард Фицджеральд в 1857 году, когда его друг нашел в библиотеке в Калькутте персидское издание рубайят (множественное число от рубаи). Фицджеральд поднял стихи Хайяма на знамя нового мировоззрения, порвавшего с традиционной бытовой религиозностью и искавшего небывалых возвышенных переживаний, и расположил их так, чтобы выстраивался единый сюжет жизни человека, который во всем сомневается, но всякий раз находит рай рядом с собой или в себе. Это и был герой новой эпохи, своего рода предшественник сверхчеловека Ницше, и поэтому Хайям стал самым цитируемым средневековым поэтом в Англии конца XIX века, а потом и во всей Европе. В СССР интерес к Хайяму поддерживался тем, что его жизнь оказалась неотделима от истории СССР, а именно республик Средней Азии, Таджикистана и Узбекистана. Для советского человека Хайям уже просто стал образцом чистого лирика, который высказывает моральные суждения с такой искренностью, что в них не остается ни тени нарочитости или бытового возмущения, а только прямота.
Каким станет Хайям для читателя XXI века? Конечно, прежде всего поэтом, на примере которого можно объяснять, что лирическое настроение вовсе не противоречит ответственной философской и моральной позиции. Напротив, лирическая эмоция может только тогда развернуться, когда ты знаешь, ради чего ты живешь и ради чего умираешь – ведь она обращается к другому; а как можно говорить о другом, пока ты еще не нашел себя и не предписал себе моральные законы? В нашу эпоху говорят много об отсутствии, о том, что жизнь людей становится слишком частной и замкнутой. Омар Хайям позволяет говорить о присутствии, о том, что даже частности нашей жизни – это законный предмет разговора со всем человечеством, если при этом они хоть как-то приобщаются общим правилам исправления мира.
Александр Марков,
профессор РГГУ