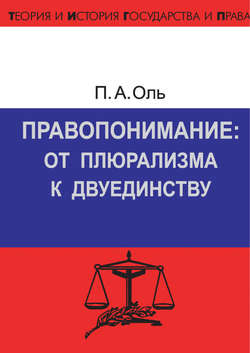Читать книгу Правопонимание: от плюрализма к двуединству - П. А. Оль - Страница 5
Глава 1
Правопонимание как феномен и объект типологизации
§ 2. Субъекты, уровни и критерии научного правопонимания
ОглавлениеВыраженное в предложенном нами определении понятие правопонимания позволяет раскрыть уровни понимания права, так как если мы употребляем термин «правопонимание» в данном значении, включенные в дефиницию элементы могут характеризовать сам феномен и по отдельности.
Например, можно говорить о правопонимании гражданина, «обладающего минимальным правовым кругозором, столкнувшимся с проблемами права вообще».[19] При этом речь, скорее всего, идет не о понятии, сформулированном данным гражданином о феномене «право», а о восприятии или некоторых представлениях. Этот гражданин может иметь представления о праве и отдельных правовых явлениях, воспринимать их соответствующим образом, но не иметь понятия, оно еще не сформировалось в его сознании. Таким образом, если термин «правопонимание» употребляется в широком смысле, речь может идти как о чувственном, так и о рациональном уровне, но при этом, если речь идет о восприятии и представлениях, то, безусловно, должна подразумеваться потенциальная возможность субъекта правопонимания к формулировке понятий. В противном случае вообще неправомерно вести речь о сознательной деятельности, об интеллектуальной деятельности человека.
Вместе с тем в достаточной степени очевидным и, на наш взгляд, не требующим специального обоснования является тот факт, что субъектом правопонимания всегда будет выступать человек. Это обусловливается тем, что образование понятия – способность, характерная только для человеческого сознания. В этом существенное отличие понятия от ощущений и представлений. «Ощущение и представление – отмечает известный венгерский философ-логик Б. Фогараши – это то, что общее у человека и животного; понятие – то, что имеется только у человека и связано с языком, с сигнальной системой языкового выражения».[20]
Следует отметить, что круг людей, способных понимать право и в силу этого являющихся субъектами правопонимания, весьма широк. И если правопонимание интерпретируется в широком смысле, то, как уже отмечалось, в качестве таковых могут выступать не только лица, имеющие специальные юридические знания, но и те, кто не имеет таких знаний. За основу можно брать различные критерии классификации субъектов правопонимания, но наиболее наглядной является градация в соответствии с уровнями познавательно-правовой деятельности, которые в определенной степени совпадают с выделяемыми в юридической науке уровнями правовой культуры (обыденный, профессиональный, теоретический)[21] и с уровнями правосознания.[22]
1) Лица, не имеющие специальных юридических знаний, но в силу разных причин сталкивающиеся с правовой действительностью. Правопонимание этой категории лиц можно охарактеризовать как обыденное, определяемое, прежде всего, отношением к праву через ощущения, восприятия, представления. Это неюридическое восприятие права сливается с восприятием моральных устоев общества. «Нетрудно убедиться, – пишет в этой связи Л. С. Явич, – в том, что в реальной жизни существуют определенные моральные права и обязанности, что мы с полным основанием говорим о правах (обязанностях) членов различных негосударственных объединений, закрепленных в уставах неюридического характера… Да и в быту отнюдь не редко речь идет о таких правах и обязанностях в отношении дружбы, товарищества, которые никак нельзя считать юридическими».[23]
Несмотря на то, что на рассматриваемом уровне могут складываться отдельные элементарные понятия (на низшем, бессознательном уровне),[24] он, прежде всего, характеризуется чувственным восприятием правовой действительности. Этот уровень правопонимания весьма точно описан С. С. Алексеевым. В своей работе «Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования» ученый отмечает, что на первом этапе происходит «знакомство с правом», вырисовываются «первые впечатления» о праве. Именно здесь «люди лицом к лицу сталкиваются с правом и наглядно, чуть ли не до осязаемой реальности могут «увидеть», "ощутить" его на себе (что, кстати сказать, и позволяет рассматривать право как строгую объективную данность, юридическую реальность)».[25] В частности, автором приводятся примеры конкретных жизненных ситуаций, в которых складываются «первые «живые» впечатления о том, что представляет собой право в нашей жизни», впервые формируются представления о властном, волевом характере права о его общеобязательности и строгой формальной определенности и т. д.[26] Общие впечатления о праве и сделанные на них выводы, по совершенно точному замечанию С. С. Алексеева, являются «ступенькой к тому, чтобы перейти к главному – к понятиям о праве».[27]
2) Лица, профессионально занимающиеся юридической практикой и способные уяснять и разъяснять смысл и содержание правовых норм. Если обыденное правопонимание характеризуется чувственно-эмоциональным отношением, то для правопонимания данной группы лиц, определяемого как профессионально-юридическое, свойственно не только чувственное восприятие правовых явлений, но и апеллирование к исходным понятиям, категориям и т. д., при помощи чего формируются знания о праве. При этом оценка правовых явлений осуществляется в основном с позиции практической значимости и рационализма.
Этот уровень правопонимания можно рассматривать как своего рода промежуточный. У практикующих юристов, как правило, могут складываться сознательные понятия правовых явлений, они могут осознавать охваченные понятием признаки и соответственно могут раскрыть содержание понятия в соответствующем определении. Это предопределяется как юридическим образованием, предполагающим наличие специальных знаний, так и требованием практики глубже разбираться в конкретных правовых вопросах.
Вместе с тем понимание правовых явлений на рассматриваемом уровне не обязательно носит теоретический характер, который присущ следующему уровню правопонимания.
3) Ученые, специально занимающиеся изучением права как феномена и правовых явлений. Правопонимание данной группы субъектов соответствует теоретическому уровню. Представляется, что этот уровень правопонимания может рассматриваться и как собственно правопонимание, интерпретируемое в узком смысле, «т. е. научное познание и объяснение права как своеобразного и относительно самостоятельного, целостного, системного явления духовной жизни общества».[28]
Для характеристики этого уровня правопонимания важно выделить критерии научности, т. е. факторы, условия, позволяющие охарактеризовать соответствующее правопонимание в качестве научного. В этой связи для нас представляет интерес исследование А. В. Кезина, который в своей работе «Научность: эталоны, идеалы, критерии…» выделяет «минимальные требования научности», предъявляемые к исследованию: проблемность, предметность, обоснованность, интерсубъективная проверяемость и системность.[29]
Итак, научность того или иного типа правопонимания во многом определяется фактором проблемности. Этому критерию не соответствует, например, обыденный или профессионально-юридический уровень правопонимания. На этих уровнях не возникает необходимости превращения неизвестного в известное, действует «презумпция очевидности», полноты представлений о праве. Субъекты обыденного и профессионально-юридического правопонимания, как правило, исходят из того, что право – это вполне очевидное явление, понимаемое вполне однозначно всеми окружающими. Для субъектов ненаучного правопонимания не стоит проблема, связанная с формированием соответствующего понятия, выявлением признаков права и т. д.
Следующим критерием научности правопонимания является предметность. «Общеизвестно, что каждая наука решает не все проблемы, а лишь проблемы довольно строго определенного рода. Научные знания обладают специфическим характером в том смысле, что они относятся к определенной выделенной предметной области, и их содержательное значение определяется соответствием или несоответствием своему предмету».[30] Применительно к научному правопониманию это положение отражает необходимость осознанной определенности предмета правопознания и реальное наличие явлений, о которых складываются соответствующие представления и понятия. Весьма точным в этой связи представляется следующее замечание Аристотеля: «…если нет познаваемого, то нет и знания (ведь оно в таком случае было бы знанием ни о чем)».[31] Поэтому вызывают серьезные сомнения в научности те подходы к пониманию права, в рамках которых данный феномен определяется через некую «божественную волю», «провидение», «божье творение»,[32] т. е. через явления, существование которых представляется весьма сомнительным с точки зрения современной науки.
В качестве критерия научности правопонимания следует также выделить обоснованность. Решая проблему, связанную с формированием понятия о праве, выделяя сущностные признаки и формулируя определения явлений, относящихся к предметной области, «ученый выдвигает аргументы, стремится выявить и представить в развернутой форме основания в пользу тех или иных утверждений или отрицаний».[33] При этом в отличие от обоснований, существующих на обыденном уровне, для научного уровня правопонимания характерно стремление к полноте, обоснованности и доказательности.
Критерием, позволяющим охарактеризовать конкретный подход к пониманию права в качестве научного, является также интерсубъективная проверяемость. «Для науки, – отмечает в этой связи А. В. Кезин, – характерно также и то, что ее аргументы открыты для критической проверки любым субъектом, обладающим нормальными способностями, иначе говоря, научные аргументы интерсубъективно проверяемые».[34]
Иногда, казалось бы, при совершенно верной постановке вопроса о необходимости соответствия истинно-научного знания критериям предметности и объективности, некоторые авторы игнорируют именно принцип интерсубъективной проверяемости знаний, положенных в основу соответствующего подхода к пониманию правового феномена. Так, например, Р. А. Папаян в своей работе «Христианские корни современного права» совершенно точно отмечает, что «истинная наука, будь то физика, биология или филология, ничего не выдумывает, а лишь выявляет изначально существующие в природе, в том числе и в жизни человеческого общества, явления, феномены, их закономерности и суть. Правоведению, если оно претендует быть истинной наукой, надлежит делать то же самое: выявлять те правовые отношения, которые изначально являлись основой функционирования человека и человечества».[35] Но при этом автор пытается объяснить эти «правовые отношения» и обосновать научность своего подхода на основании материалов, изложенных… в Библии! В этой связи Р. А. Папаян констатирует следующее: «Естественно, что как религиозные, так и философские, морально-этические представления основаны на той концепции возникновения мира, которая изложена в Библии. Следовательно, ученый, считающий себя носителем этого мировоззрения или просто являющийся приверженцем христианских ценностей, призван исследовать и открывать в природе и в жизни закономерности Божьего творения, будь то области астрофизики или права. И тогда правовые нормы будут не сочиняться, а открываться». Научность такого подхода автор «подкрепляет» цитатой из религиозных источников: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, – и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят – смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем».[36]
На наш взгляд, такой подход вряд ли можно определить иначе как антинаучный, по крайней мере в силу двух причин.
Во-первых, Р. А. Папаян в предмет включает феномен, существование которого требует серьезных дополнительных аргументированных обоснований – наличие неких «закономерностей Божьего творения».
Во-вторых, следует признать невозможность интерсубъективной проверки того, что, по мнению самого автора, считается не требующим доказательств, т. е. «концепции возникновения мира, которая изложена в Библии». Более того, Р. А. Папаян не призывает к выявлению истины и последовательной аргументированности, он видит призвание правовой науки лишь в исследовании и открытии «закономерности Божьего творения».
Как нами уже отмечалось, наряду с проблемностью, предметностью, обоснованностью и интерсубъективной проверяемостью важнейшим критерием научности является системность. На теоретическом уровне осуществляется переход от отдельных сторон или элементов права (правовых норм, форм права, субъектов права, юридических фактов и т. д.) к их изучению в качестве системы, т. е. в их многосторонней связи, в их конкретности. Теоретическое правопонимание подразумевает выявление объективных законов, тех важнейших связей, которые объединяют и подчиняют себе все элементы права как специфической системы. «Выделение всеобщего основания взаимосвязанных между собой элементов системы позволяет в одном понятии охватить то, что было разобщено на предыдущем этапе эмпирического анализа, и затем эта обобщающая идея становится инструментом создания стройной и развитой теории».[37] Таким образом, именно на этом уровне формулируется научное понятие права.[38]
19
Леушин В. И., Перевалов В. Д. Понятие, сущность и социальная ценность права // Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. М., 1998. С. 218.
20
Фогараши Б. Логика. М., 1959. С. 154.
21
См., например: Сальников В. П. Правовая культура // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2000. С. 633–634.
22
Так, например, В. А. Бачинин включает в общественное правосознание обыденное, официальное и теоретическое:
«1. Обыденное правосознание – это представления широких масс о принципах обычного права, о властных функциях государства, юридических законах, системе судопроизводства и присутствующей в их содержании и деятельности мере справедливости.
2. Официальное правосознание складывается из совокупности всех нормативно-юридических предписаний, исходящих от верховной власти и требующих от граждан определенных форм социального поведения.
3. Теоретическое правосознание – это совокупность функционирующих в обществе юридических, философских, социологических, этических и политико-идеологических доктрин, создаваемых учеными-теоретиками и идеологами для рационального обоснования существующих правовых требований» (Бачинин В. А. Философия права и преступления. Харьков, 1999. С. 116).
23
Явич Л. С. Право и социализм. М., 1982. С. 30.
24
В этой связи следует выделить точку зрения Р. М. Айдиняна, в соответствии с которой выделяется «два уровня, или этапа овладения субъектом тем или иным понятием: низший (бессознательный) и высший (сознательный). На первом этапе, хотя субъект уже владеет понятием, он не может, однако, раскрыть содержание данного понятия, ибо не сознает обобщенные в нем признаки соответствующих предметов, а способен лишь указать на того или иного конкретного представителя данного класса (остенсивное определение). На втором этапе субъект уже сознает охваченные в понятии признаки предметов и поэтому может раскрыть содержание понятия в соответствующей дефиниции» (Айдинян Р. М. Система понятий и принципов гносеологии. Л., 1991. С. 70.).
25
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 6.
26
Там же. С. 6–26.
27
Там же. С. 27.
28
Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 17.
29
Кезин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. Критический анализ методологического редукционизма и плюрализма. М., 1985. С. 32–35.
30
Там же. С. 33.
31
Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 70.
32
См., например: Напаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002. С. 1.
33
Кезин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. Критический анализ методологического редукционизма и плюрализма. М., 1985. С. 34.
34
Там же. С. 34.
35
Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002. С. 1.
36
Там же.
37
Режабек Е. Я. Теория // Диалектическая логика / Под ред. А. М. Минасяна. Ростов, 1966. С. 492.
38
Проблема структуры правопонимания рассматривается также в публикации: Оль П. А., Сальников М. В. Правопонимание как феномен: понятие, уровни, критерии научности и основания типизации // Юридический мир. 2005. № 3.