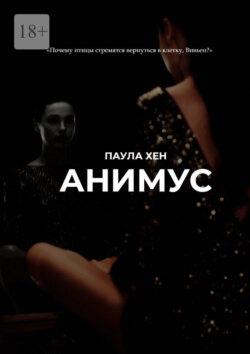Читать книгу Анимус - Паула Хен - Страница 5
1
ОглавлениеНенавижу проезжать остановки, на которых мы были вместе. Они отдаются неприятным щекотанием в горле, словно ты вот-вот готов согнуться пополам и вырвать собственную душу. Поэтому приходится жмуриться. Каждый раз, когда автобус останавливается, перед этим делая большой круг, чтобы подобрать стайку людей, спешащих на работу, я жмурюсь. Детское правило: если не видишь опасность, значит, ее и нет. Моя подруга Лолита твердит, что я слишком зациклилась на этом. Не могу отпустить ситуацию и позволяю ей стать удавкой на собственной шее, тянущей ко дну. Что я могу ответить ей на это? Она не знает, что такое терять, и я прошу Всевышнего, чтобы не узнала.
Прабабка любила говорить: «Такого и врагу не пожелаешь». Когда-то я не осознавала смысл этой фразы, не понимала, почему есть вещи, которые не заслужил бы самый злейший враг. Стоило стать старше и столкнуться с этим, как криком захотелось кричать, падая на колени и прося, чтобы ни один человек в этом мире, кем бы он не был, не постиг вершин настоящего горя. Нам привыкли внушать, что боль делает сильнее, но почему никто не рассказывает о том, как сильно она ломает, оставляя после себя пустоту?
В автобусе около тридцати человек: жмутся к друг другу с искажёнными недовольством лицами, грязно ругаются и наступают друг другу на ноги. Люди стали агрессивнее. Отстраненные и вечно колючие.
Помню, как одна женщина кричала на свою пожилую мать. Мы тогда сидели в какой-то забегаловке, где подавали вкусные хачапури: большое обилие сыра, который тянулся нитями, и вкусное воздушное тесто. Дедушка всегда брал себе водку на лимоне и довольно подмигивал, пока прозрачная жидкость с максимально стерильным ароматом обжигала гортань. Я ненавидела томатный сок, который в том месте всегда был в ассортименте. С комочками, безвкусный, словно его постоянно разбавляли проточной водой. Кофе дешёвый, пахнущий землей, он слишком горчил и разносил аромат чего-то горелого и острого. Но я была счастлива. И этого было достаточно. В детстве мы умеем искать радости в обычных вещах, которые не являются идеальными, показательными – мы видим его повсюду: в шелесте ветра и дешёвом кофе, который пьёт мать, потому что другого не сыскать, в тёплых руках и в том, что сегодня у тебя ничего не болит, или со школы отпускают раньше.
***
Лолита много курит. На самом деле, она переняла эту привычку у меня, постоянно отнимая сигареты, фильтр которых я зажимала зубами. У Лолиты курносый нос, за который в детстве над ней подшучивали, рябь веснушек на переносице, и стойкость солдата. Она любит мешковатую одежду, коротко стрижена и с обилием татуировок. Она никогда не говорит, зачем это делает, но почему-то мне кажется, что в ее глазах, в которых нет острых углов и конца, кроются все ответы.
Она по-настоящему заботится обо мне, несмотря на то, что ее жизнь тоже было трудно назвать мёдом. Но слабой она выглядеть не любила. Родители отказались от неё из-за стиля жизни и той вырожденной дерзости, которая цвела в ее венах острыми шипами. Почему-то, когда у меня спрашивают о наиглупейшем, я невольно вспоминаю человека. Самый разумный индивидуум, который, чаще всего, ведёт себя неразумно и опрометчиво. Люди смертны, сердце может «уснуть» безвозвратно, но вместо того, чтобы ценить каждый момент, держаться крепче за ближнего, мы способны оттолкнуть его из-за ориентации, цвета кожи, взглядов и того, что он чем-то отличается от нас.
Мы не говорим с ней об этом. Она молчит. Сжимает мою руку, когда автобус, пыхтя, останавливается на том самом месте, делая ком в горле мягче, пока я стараюсь не смотреть на внушительные размеры вывески торгового центра, которую не меняли уже несколько лет: она выцвела от частых встреч с солнечным лучами, слилась в однообразную кляксу, но текст по-прежнему был читаем. Я дала этому пункту новое имя. Назвала его болью, и внушаю себе, что однажды мне хватит сил поехать другим маршрутом, либо вовсе никогда сюда больше не возвращаться.
Теперь настала моя очередь отнимать у Ло «никотиновые бомбы».
Когда водитель даёт по газам, заставляя двигатель, рыча, откликаться, я словно отпускаю себя. Мне хочется верить, что все это не всерьёз, и что дома меня, как раньше, вновь ожидаешь ты. Но прошлое не может стать настоящим. Оно уходит в забытье, оставаясь глубокими шрамами на сердце, которые не заживают. Ты просто умираешь с ними, а после рождаешься вновь. С новой жизнью, с новыми возможностями, но с тем же израненным сердцем. «У некоторых людей слишком грустные глаза. Это все потому, что в прошлой жизни на их сердце оставили много шрамов. Ведь это только жизнь может быть другой, а сердце… оно одно, поэтому оно вынуждает нас ощущать то, чего ты не знал никогда, но считаешь знакомым».
Мне хочется верить, что мои шрамы все же рано или поздно затянутся, а израненное сердце найдёт в себе силы мчать изо всех сил вперед, не боясь открываться и впускать в себя новое. Мне часто говорят, что у меня грустные глаза. В них стало ещё больше тоски, когда не стало Маттео, словно он поделился со мной своей частью, бережно отделив от своего тела, ушедшего в сырую землю, что-то очень важное.
Однажды, в университете, мне попалась тема непереводимых слов в французском языке. Там, среди изобилия всевозможных слов, я отыскала значение того, которое сейчас стало для меня куда глубже. Оно звучит, как Chantepleurer, что в переводе означает петь и плакать одновременно. Сейчас я проживаю похожее состояние, когда хочется петь, что есть мочи, но сердце плачет, захлебываясь солью.
Иногда ты шутил, что, выливаясь из берегов, мои глаза смогли бы утопить каждое живое существо на этой планете, а что сейчас? Мне хватило бы сил выплыть?
***
Мы не говорим с ней об этом. Она молчит. Сжимает мою руку, когда автобус, пыхтя, останавливается на том самом месте, делая ком в горле мягче, пока я стараюсь не смотреть на внушительные размеры вывески торгового центра, которую не меняли уже несколько лет: она выцвела от частых встреч с солнечным лучами, слилась в однообразную кляксу, но текст по-прежнему был читаем. Я дала этому пункту новое имя. Назвала его болью, и внушаю себе, что однажды мне хватит сил поехать другим маршрутом, либо вовсе никогда сюда больше не возвращаться.
Теперь настала моя очередь отнимать у Ло «никотиновые бомбы».
Когда водитель даёт по газам, заставляя двигатель, рыча, откликаться, я словно отпускаю себя. Мне хочется верить, что все это не всерьёз, и что дома меня, как раньше, вновь ожидаешь ты. Но прошлое не может стать настоящим. Оно уходит в забытье, оставаясь глубокими шрамами на сердце, которые не заживают. Ты просто умираешь с ними, а после рождаешься вновь. С новой жизнью, с новыми возможностями, но с тем же израненным сердцем. «У некоторых людей слишком грустные глаза. Это все потому, что в прошлой жизни на их сердце оставили много шрамов. Ведь это только жизнь может быть другой, а сердце… оно одно, поэтому оно вынуждает нас ощущать то, чего ты не знал никогда, но считаешь знакомым».
Мне хочется верить, что мои шрамы все же рано или поздно затянутся, а израненное сердце найдёт в себе силы мчать изо всех сил вперед, не боясь открываться и впускать в себя новое. Мне часто говорят, что у меня грустные глаза. В них стало ещё больше тоски, когда не стало Маттео, словно он поделился со мной своей частью, бережно отделив от своего тела, ушедшего в сырую землю, что-то очень важное.
Однажды, в университете, мне попалась тема непереводимых слов в французском языке. Там, среди изобилия всевозможных слов, я отыскала значение того, которое сейчас стало для меня куда глубже. Оно звучит, как Chantepleurer, что в переводе означает петь и плакать одновременно. Сейчас я проживаю похожее состояние, когда хочется петь, что есть мочи, но сердце плачет, захлебываясь солью.
Иногда ты шутил, что, выливаясь из берегов, мои глаза смогли бы утопить каждое живое существо на этой планете, а что сейчас? Мне хватило бы сил выплыть?
10 мая 2012 г.
Из дневника Вивьен
Ты умер в самый жаркий день весны. Он запомнился мне потерей сознания от неблагоприятной новости, запахом размякшего асфальта и пылью, хрустящей на зубах. За десять дней до нашей годовщины. Этот день должен был запомниться нам надолго, потому что все бесконечно твердили, что мы обязательно обручимся. Все это действительно было незабываемо, но только для меня. Я осталась с чувством тоски, ярости, непонимания и обиды, стоя на городском кладбище и ощущая, как каблуки вязнут в липкой грязи. С сотней вопросов, на которые никто не мог дать мне ответы. Я ненавидела тебя, любила, снова ненавидела, пыталась убежать от себя, уходила в рефлексию, не позволяя себе умереть внутри окончательно. В моем мире произошло падение атомной бомбы, что своей взрывной волной закралась в каждый закоулок ноющего тела.
Рак лёгких. Словно приговор для меня, с которым я должна была теперь мириться. Желание понять, почему ты скрыл от меня и ярость на саму себя за то, что закрывала глаза на изменения в тебе, словно отказываясь их видеть. Внушая себе, что все хорошо, а вся эта вереница событий не больше, чем проделки моего внушаемого воображения.
Не было ни родственников, ни родителей. Морги, юридические учреждения, ритуальные услуги – все это слилось в бесконечную кляксу чёрного. Безвылазное болото, что заливалось в уши и глаза, забивало тиной рот и не давала дышать.
В день твоих похорон шёл дождь. Реки грязной воды текли по тротуарам и шумели в сточных трубах, она неприятно хлюпала в туфлях и заливалась в салон автомобилей. На похоронах небольшое скопление людей, состоящих из общих знакомых. Единственный человек, которого я не знаю, стоит в стороне, скрытый за зонтом. Все, что я могу разглядеть, это рукава чёрного пиджака, такого же цвета рубашку и сильные красивые руки, которые приковывают внимание. Вздутые от напряжение вены и то, как он поглаживает указательным пальцем рукоять зонта, словно нервничая.
Тебя хоронили в закрытом гробу. Я не видела тебя после смерти. Я не являлась ни твоей женой, ни родственницей, поэтому все двери для меня вмиг запахнулись. Говорили, что тебя слишком изуродовали в морге: «Бедняжка Маттео. Говорят, что попал к настоящему мяснику. Это же нужно сотворить такое. И нет возможности взглянуть на него в последний раз». Я жмурилась, а острый ком в горле увеличивался. «А все потому, что с родителями оборваны связи. Говорят, что они на дух друг друга не переносят. Ведь без денег даже похоронить невозможно по-человечески». Люди любили трепать языком, но они не были правы: ни в том, что касалось денег, потому что я предлагала каждой организации удовлетворительную сумму, но они лишь качали головой, отказываясь, ни в том, что ты ушёл из дома с разросшимся до гигантских размеров конфликтом. Все было куда проще: никто не знал, где семья Маттео, который ревностно прятал ее даже от меня, оберегая свою конфиденциальность.
У меня не было слез: ни тогда, когда я узнала о том, что тебя больше нет, ни во время похорон. Глаза – высушенная пустыня. Мое горе настолько перешло грань своей силы, что не позволяло даже плакать. Быть может, излей я свою душу кому-то или проплачь несколько дней подряд, мне стало бы легче, но на тот момент это было чем-то невозможным для меня. Все, что я смогла – начать писать. Вести дневник, который якобы должен был помочь мне справиться с силой утраты.
Прошло уже почти полгода, но мои исповедания бумаге практически ничего не дали, кроме того, что сила утраты больше не выдирала куски, засыпая раны солью, они просто по-прежнему продолжали кровоточить. Особенно в те моменты, когда я говорила с тобой, как сейчас.