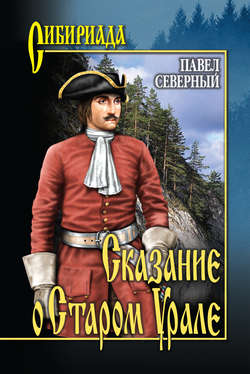Читать книгу Сказание о Старом Урале - Павел Северный - Страница 8
Книга первая. Рукавицы Строганова. По камским и чусовским сказаниям и преданиям
Часть первая
Глава вторая
2
ОглавлениеВ трапезной воеводских хором стол накрыт парчовой скатертью. Свечи в медных свешниках уже оплыли, закапали подставки в виде орлиных лап. Желтый свет падает на два лица, красных и потных от хмеля. От обеих голов и высоких стоячих воротников на бурых бревенчатых стенах ворошатся тени, как взмахи вороньих крыльев.
На столе глиняные миски с остывшей стерляжьей ухой, подносы с пирогами, ломтями хлеба, оладьями, плоские тазы с засолами и холодным мясом, пареная осетрина с инбирной подливой.
На серебряном блюде – остатки съеденного индейского петуха. Дубовый, в позолоченных обручах, бочонок с можжевеловым медом, два ковша меду смородинового, кубки заморской романеи и темно-красной мальвазии опустели наполовину. Слуги отпущены – беседа не для холопьих ушей.
Собеседники, насытясь, распоясались и отпустили парные застежки камзолов под кафтанами. Ближе к свету – хозяин, облокотился на стол. Против него – гость, Соликамский воевода Запарин, развалился в кресле с высокой спинкой, обитой волчьей шкурой, придавил тяжелым седалищем подостланную пуховую подушку малинового бархата.
Время позднее. Над хозяином хмель все еще не взял полной воли, и только в глазах нет-нет и появится слезливая пелена сонливости. Зато гостя хмель облапил крепко, и оттого проскальзывала во взгляде его плохо скрытая хмурость. Угадывались за нею недобрые помыслы, готовность творить злое дело повелительным словом и своими руками.
У Запарина сползла на затылок с потного темени голубая бархатная тафья, унизанная шитым жемчугом. На его отечном и морщинистом лице землисто-бледную кожу пробивала краснота прожилок, и на ней пятнами серели темные подглазины. Нос у Запарина мясистый и горбатый, похож на клюв филина.
Наевшись до отрыжки, собеседники чаще и чаще приумолкали: оба знали, что, охмелев, начнут, чего доброго, говорить совсем не то, о чем вели беседу, садясь за стол.
Хозяина нежданный приезд гостя взволновал, разворошил память обо всем, от чего заслонился он в Чердыни непроходимыми звериными лесами. Печаль охватила от недобрых вестей про дела в Москве-матушке. Не понравилось и то, что Запарин будет жить у него под боком. Гостя своего, Дементия Запарина, он знал хорошо! Темное любит, особливо если оно звонкую прибыль посулить может, любит нашептывать небылицы, оговаривать добрых людей за глаза, а в глаза лестью выстилать хитрые подходы к собеседнику.
Вот и за трапезой он говорил об одном, а думал о другом, и все время, как шилом, исподтишка покалывал Орешникова взглядом прищуренных, будто простодушных глаз, но всегда таящих настороженность.
В раскрытые окна донесся шелест листвы от налетевшего речного ветра, и собеседники прислушались, как звучно забулькали капли дождя в лужах.
– Шибче пошел. Поутру моросил, как по осени.
– Тоскливо у тебя, Михайлыч, в мокреть?
– Мыслями о сем себя не нужу. Иной раз бывает, особенно в пору, когда волки выть начинают. Подойдут под самые стены и воют. Но ничего! Я ко всему приобык в Чердыни.
– Вижу, что приобык. Экое клятое место: лес да небо! Поди, и звезд-то ладом не увидишь?
– Об этом напраслину говоришь. Звезды здесь особенные. В Москве таких нету.
– А чем они от московских разнятся?
– Больно много их, да и яркости необыкновенной.
– Поживу – погляжу.
– Понимать велишь, что любишь небесными светилами любоваться?
– Люблю на звезды глядеть. Охота мне дознаться, какой это в них огонь возгорается? Люди всякое про звездный огонь говорят, а мне охота самому дознаться. Как думаешь, есть тепло от звездного огня?
Хозяин посмотрел на гостя, покачал головой, засмеялся.
– С чего это разом развеселился?
– Смеюсь оттого, что ты, Дементий, мастак людей спрашивать про никому не ведомое.
– Нет, ты постой, постой, от ответа не уходи. Греют ли нас звезды небесные?
– Не ведая, ничего сказать не могу. Звезды высоко, и лап до них не дотянешь даже с маковки Полюдова Камня.
– А я все равно хочу дознаться. И дознаюсь обо всем про звездный огонь.
Запарин, не глядя, протянул руку и, гребнув было попусту горстью воздух, поймал чару с медом, пригубил и поперхнулся. Искрясь на свету, пролитый мед зернышками-капельками скатился с рыжей бороды. Запарин обсосал замоченные усы и поставил чару на стол.
– Вот как высветлело-то в нашей жизни, Михайлыч. Повстречались мы с тобой снова в клятом краю, да еще оба на той же службе царю.
– Это верно. Повстречались нежданно и негаданно.
– Примечаю, что встрече со мной душой ты не рад.
– Про зряшное речь ведешь.
– А ты прислушайся все же. Плохого ничего не скажу, но попрекнуть тебя дружеским словом осмелюсь. Обидно мне за тебя.
Запарин скрипнул зубами, даже кулаком себя по колену хватил.
– Обидно! Сколь годков не виделись? Все двадцать! В разных местах жили. Ты с царем Казань покорял, а я новгородцев московскому порядку учил, в мозги его там вдалбливал. Полагаешь, раз убрался на чудскую землю, можно о дружках и недругах позабыть? Ан, вышло по-иному. Я вот возьми и объявись перед тобой в новом обличий, и тоже в воеводском звании… В голове у меня больно шумит от твоего меду, вот и скажу: жаль мне тебя, Михайлыч. Не тот ты теперь боярин. Будто сокол, петухом обряженный. Не серчай за правду, хотя она и колючая. Помню, каким ты был. Ухарь мужик. Сухопарый. Могучий. Голову держал вот эдак, жиром не оплывал. А теперича… Да и разобидел ты меня седни!
– Чем?
Орешников убрал локти со стола и прямо взглянул в глаза собеседнику.
– Только не серчай.
– Сказывай.
– Ишь как злобишься – язык обсох от суровости, промочил бы… Скажу так: скрытностью своей меня обидел ты! Про что ни спрашиваю тебя – все ты с дороги в канаву воротишь. Речь со мной ведешь при свечах, а будто в потемках на большой дороге с чужаком разговариваешь. Будто я не воевода Соликамский, а тайный углядчик подосланный, а то, может, доносителя подлого во мне опасаешься?
– Воевода Соликамский…
– Ты погоди! Высоким званием незнатного рода моего не прикрывай. От этого у меня башка кругом, как у филина, не завертится.
– На все спрошенное ответы слышал.
– Да, только не больно ясные. Пошто от друга давнего правду утаиваешь? Может, слушок про меня какой дошел из неправедных уст? Потому от завидок моему почету в Москве у иных, из вашего боярского сословия, горло перехватывает. Думаешь, не знаем в Москве, что в подвластных тебе лесах крамольники царские хоронятся, как тати, да про честных царевых слуг, вроде меня, хулу распускают? Сюда, окаянные, от царского гнева, как тараканы бегут, будто для них, треклятых, новгородцы тропинку в Сибирь протоптали. От своего царя убегают к ханам татарским да под крылышко Строгановых прячутся, чтобы голову от плахи уберечь. Все знают на Москве про этот край. Царь тоже знает. Только ему сейчас недосуг вашей крамолой заняться. Ему сперва надо в Москве многих на голову укоротить. Понимаешь, о чем речь веду, боярин?
– Как не понять. Ты, стало быть, по отрубленным боярским головам, как по кочанам капусты, к царскому престолу шагаешь?
– Чего сказал?
– Про то, о чем услышал.
– Ты мои слова неверно в разуме уместил.
Запарин встал, но его качнуло, и, упираясь руками в стол, заговорил сдавленным шепотом:
– Правду от моих ушей таить нечего! Не за тобой мне здесь доглядывать приказано. В строгановские места царем послан волю московскую утверждать, купчишку вычегодского осадить, от зазнайства вылечить, на правильное место поставить. Скажи мне по совести: отчего Соликамский воевода зимусь в райские сады к угодникам отселя отправился? Сам помер али помог кто?
– Не многое про то известно. Любого на свете могила ждет, но все одно живые про нее говорить не любят. Лег в нее по воле господней – и позабыт в сем мире. Лишь бы в поминальнике у попа записан был. Счет упокойникам в нашем крае не ведут, потому с правильного счета все равно собьешься. Охота тебе знать, как помер воевода Гаврилов? Да просто: сел за стол трапезничать, после еды занемог. От стола до постели на карачках дополз и кончился.
– Трапезничал где?
– Дома.
– Строгановы порешили?
– А почему на них подумал?
– Причину имею.
– Скажи.
– Доносил покойник царю, что Строгановы беглых бояр с холопами к себе на службу принимают, богатства отнимают, не в казну сдают, себе прикарманивают. По доносу выходит, что Строгановы царской воле ослушники.
– Поверил царь доносу?
– Кто же знает о том? Сдается мне только, что купчишкам Строгановым государь больше веры дает, чем вам, боярам, и нам, первым слугам царевым, милостью его за верную службу должностями высокими пожалованным. В вас, боярах старых, он, батюшка-государь, теперь ворогов своих видит, да и к нам, служилым, переменчив бывает – к каждому приглядываться некогда! Случится, что ухо свое царское к напраслине какой преклонит – и голова с плеч у нашего и у вашего брата. А купчишке этому – почему-то – вера, да какая! Донос-то про воеводину смерть царю доложен, а купчишка и поныне по белу свету гуляет, ничего ему не сделалось.
Желая переменить тему, Орешников спросил, каково стало житье при дворе московском после смерти царицы Анастасии. Про попа Сильвестра и опального Адашева он решил и не поминать.
Запарин подмигнул, собрал губы и морщины у глаз в хитрую улыбочку, снова потянулся за кубком.
– Житье-то… сладкое, особливо красным девкам и молодицам. Нынче, ежели хочешь кому из высших советников царских угодить и у самого государя в милости пребыть, посылай за этой милостью дочь, коли молода, или супругу, коли пригожа… Только ты, Михайлыч, опять меня с дороги увел…
Орешников отшатнулся от собеседника при словах его о похоти бесовской, что овладела державным государем Московской Руси, но Запарин вернулся к делам здешним, отвлекая хозяина от забот московских.
– Чьею же рукой Строганов воеводу Соликамского ядом опоил?
Собеседники не заметили, что в этот миг обозначилась в дверях статная женская фигура. Боярыня Анна Павловна Орешникова шла в трапезную, чтобы хозяйским глазом окинуть стол и заказать слугам перемену блюд, да вдруг на пороге так и замерла, услышав последний вопрос гостя. Замерла, словно срослась с дверным косяком. Обернись кто из беседующих, смог бы углядеть, как в настороженных ее очах шевелятся искорки от пламени свечей… Но ни тот, ни другой не заметили присутствия боярыни.
– Про то у него же и спроси, небось сам теперь воевода Соликамский, – не скрывая в голосе насмешки, ответил боярин.
– Что ж не спросить-то?
– Смотри, Дементий, легче по новой тропе ходи. Мхами и травами в нашем краю тропы укрыты. Падать мягко, а не встанешь.
– Не пужай.
– Упреждаю, Дементий.
Запарин снова тяжело опустился на подушку в кресле.
– Не испугаюсь Строгановых. Заставлю их выполнять царский закон. Обучу закон московский чтить.
– А ты боек, куда там! Не знаешь, что и у них свой закон водится? Царь дал им этот закон по дарственной грамоте. По ее буквицам ты у них только слуга-помощник. Вчитайся в дарственную грамоту Строгановым… Просил даве меня не таиться? Теперь сам от меня не утаивайся. Я-то знаю, что ты сюда не царем Иваном послан, хотя указ его рукою подписан. Нет царю надобности выверять верность Строгановых. Знает царь, плохо ли, хорошо ли, честно ли, или воровато, но Строгановы своей кремневой волей помогают ему накрепко, на веки пришивать камский край к Московскому государству единому. Кровь людская на Строгановых не в счет: царь знает, что, землю копая, нельзя рук не замарать; сам тоже кровь ушатами льет, да в ней Русь моет. Строгановы, брат, мужики умные, а потому в рукавицах орудуют. Рукавицы у них сшиты тоже умно. Двойные они. Ближе к телу – беличий мех на сукне, но это лишь нутро. Поверх надета рукавица кожаная, красная цветом, чтобы на ней свежая кровь не была заметна, а как подсохнет, то, как грязь, сама осыпается. Строгановы на Колве, Вишере и Каме хозяева. Они Русь здесь ставят. Мы с тобой перед ними никто. У них к любой царской двери свои ключики в карманах.
Запарин поежился, хотел что-то вставить, но Орешников перебил его, повышая голос:
– Воеводствуй в Соликамске как угодно, но гляди, чтобы на твою тень чья другая не пала. Со всеми Строгановыми разговаривай: Анику Федоровича и двух сыновей, Григория да Якова, обо всем спрашивай, но лучше никогда ни о чем не спрашивай третьего сына, Семена. А коли, не ровен час, сам он тебя о чем спросит, то без промедления отвечай. Потому, все Строгановы только думают, а надуманное ими Семен на свой манер облаживает.
– До чего же, однако, нас, царевых слуг, купчишки Строгановы запугали! Ни за что не поверю, что я, московский воевода, из опричнины, царем посланный, не волен спрашивать Строгановых, пошто они в крае беззаконие творят. Грабят они царскую казну?
– Не знаю.
– А хочешь поглядеть, как начну в их карманах прибытки пересчитывать?
– Будет хвастать, Дементий! Не так легко с языка слова спускай. И в моей крепости строгановские уши водятся! Не забывай, что тебе отсюда в Соликамск их вотчинами плыть. Видал, сколь плотов строгановских на воде?
Запарин только махнул рукой.
– Не отмахнешься! Главное, охота мне толком узнать от тебя, Дементий, кем ты послан на воеводство в Соликамск, чтобы здесь бояр беглых ловить?
Запарин вытаращил глаза на хозяина:
– Пошто об эдаком спросил? От кого дознался? От кого, спрашиваю, дознался о тайном наказе про беглых?
– Дознался? Ты и в самом деле подумал, что я из сокола петухом обрядился? Нет, Дементий, ежели иной раз и обряжаюсь, то по хитрости. В этих местах без нее шагу нельзя ступить. Здесь даже лешие к нашему воеводскому званию не больно большое уважение имеют.
– Кем послан, спрашиваешь? Как сказал давеча: царем Московским и всея Руси Иваном Васильичем, чтобы за строгановским воровством глядеть, отучить их пригревать царских ворогов.
– Врешь. Нет у тебя такого царева наказа. Ведомо мне, кем послан беглых бояр ловить. Ведомо, с кем будешь делить прибыток от отобранных богатств. Скуратову служишь.
– Да ты разум потерял, боярин!
– Нет, разум мой при мне. А вот ты теперь не сплошай.
– Да будет, будет, боярин! До чего договорились. Все оттого, что лишку меду хлебнули. Пора спать ложиться.
– В воеводской избе, на втором ярусе, для тебя все налажено.
– Вот и спасибо.
– Сторожить тебя будут твои же люди.
– Воля твоя, небось и чердынская стража надежна. А теперь давай порешим: о чем говорили, о том позабыли. Говорили-то мы с тобой с глазу на глаз.
– Живу, Дементий, в Чердыни, а приложу ухо к земле и слышу, как в Москве колокола звонят.
– А ты в самом деле хитрый. Неужто перед Строгановыми шапку свою боярскую первым сымаешь?
– Нет, не сымаю. Чтобы себя не уронить, я их на своем крыльце с непокрытой головой встречаю.
– Опять, выходит, хитрый.
– Какой есть. Весь на виду.
– А скажи мне, как попу на исповеди: сам-то Строгановых боишься?
– Боюсь.
– Да не верю!.. А впрочем, пожалуй, и верно боязливым ты стал; даже боярыню свою, красавицу показать боишься. Наслышан я про ее пригожесть. Самому царю ведомо, что жена у тебя – новгородская красавица. Пошто не позвал к трапезе?
– Звал.
– Обещалась к перемене блюд, да, видишь, мы с тобой и в пол-ужина насытились; знать, на покой ушла.
– Бабам надо приказывать, они силу в нас почитают. Красавица не красавица, все одно – баба. Моя жена покойная крута была нравом, но ослушаться моего наказа не смела.
Оба вздрогнули, когда услышали из темноты певучий голос боярыни Анны Орешниковой:
– Ежели бы жила жена твоя в этом краю, не испугалась встречь мужнину наказу пойти. Наша чердынская жизнь с московской не схожа. Опасности ее нас не милуют. Коли надо ей, так и смерть нас в ряд с мужиками кладет. И думать умеем, привыкнув вместе с мужиками право на жизнь по-волчьи у судьбы выгрызать.
– Кто это воевода? Неужли мне спьяну бабий голос слышится?
– Боярыня моя пришла.
– Быть не может! Не угляжу. Где она?
– Вот и я. Челом тебе бью, Дементий свет Степанович. Давно собиралась тебе поклон хозяйский отвесить, да не хотела вашей беседе мешать.
Запарин с усилием встал, поднял подсвечник над головой и пошел на голос боярыни. Она стояла у косяка двери. Отвесив поклон гостю, опять скрестила руки на груди. Запарин поклонился хозяйке и приподнял свечу, чтобы лучше различить черты этой женщины.
– Дозволь поближе поглядеть на тебя, боярыня!
– Что ж, гляди. Может, и загорят щеки от твоего погляда, да все одно – это не зазор. Не девушка.
Гость, воззрясь на статную красавицу, так оторопел, что даже перекрестился левой рукой.
– Не крестись, я, чать, не оборотень. Окромя всего, говорят, грешно левой рукой крестное знамя творить, даже если в правой свеча…
Ее смех еще пуще взбудоражил гостя.
– Экая ты из себя, боярыня! Такая кого угодно ослушается. Тебе бы в Москве жить!
– Жила, да не поглянулась мне там жизнь. А теперь слыхано, что там нашей сестре и вовсе не житье. Будто ноне московские мужья, возвеличения и почета ради, не ратными подвигами к тому идут, но через прелести жен и дочерей поближе к престолу подбираются. Мало им горя, что иной раз жены не в силах довести их до желанного места, так, выгораживая себя, они еще небылицы плетут про царских любимцев. Дескать, мол, близкие к царю люди, одержимые бесом, сперва поганят семейные очаги свои, а потом жен-неудачниц по монастырским кельям рассовывают… Мне в Чердыни хорошо, спокойно. Никто, кроме мужа, до меня рукой дотронуться не смеет.
Запарин поставил свечу на стол.
– Побудь с нами, боярыня.
– Не обессудьте, не могу. Время за полночь. Не стану вас утруждать. Небось и гостю дорогому на покой пора?
Анна Орешникова с усмешкой оглядела захмелевших воевод, поклонилась обоим в пояс и покинула трапезную. Запарин покачал головой:
– Прямо не верится, что не сон видел…
Поддерживая друг друга, собеседники вышли из хором в дождливую ночную темень. Шмыгая носом, служка освещал дорогу фонарем. О его лубяной щиток разбивались капли дождя.
– Ни за что теперь не засну, – пробормотал Соликамский воевода. – Все будет мне твоя боярыня мерещиться. Во хмелю по ласке тоскую.
– Об этом не соскучишься. Живым теплом для тебя молодая баба постель греет.
– То, поди, сенная девка.
– Татарка.
– Бусурманка? А ежели душить зачнет?
– Надумал тоже! Какая же баба мужика за ласку душит?
– Все одно, боязно как-то!
– Не поглянется – сгонишь, как кошку.
– Ну, пошто же? Нешто ночью из постели бабу выгонишь?
– Вот и воеводская изба. Доброй тебе ночи, Дементий.
– Погоди. Надобно мне услыхать от тебя самую главную правду.
– Спрашивай.
– Купчишки Строгановы в царской опричнине?
– Про это, брат, от них сам дознавайся!
– Ух какой ты на правду тугой…
Возвращаясь домой в хоромы, воевода Орешников размышлял, пустит ли его боярыня в опочивальню или же, ткнувшись в запертую дверь, надо будет снова возвращаться в темноте и мокрети к воеводской избе.
На крепостной стене зычный голос Жука выговаривал часовым поверку:
– Крепость Чердынь царская спит, а мы все одно все слышим!
И в ответ ему с крепостной стены отвечали разными голосами нараспев дозорные.
– Слы-шим!
А лесное эхо, несмотря на дождь, подхватывало ответы дозорных и долго стонало над просторной далью:
– Слы-шим, слы-шим, слы-шим…