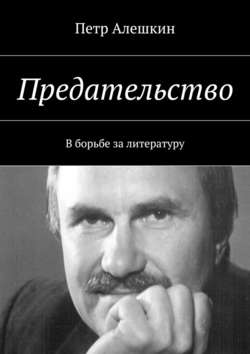Читать книгу Предательство. В борьбе за литературу - Петр Алешкин - Страница 4
Союз писателей во мгле
Предательство
Документальная повесть
2. Развитие действия
ОглавлениеНачалась веселая жизнь! Помещение на Писемской, теперь Борисоглебский переулок, где мы должны были сидеть, весь январь ремонтировалось. Собирались сотрудники издательства один раз в неделю в Московской писательской организации. Нас было уже немало. Я не хотел брать редакторов, но как-то получилось, что то одного, то другого предлагал Бежин, я соглашался, некогда было вникать.
Основные вопросы – снабжение, производство – были на мне, никто в эти отделы работать к нам не стремился. Зарплату нам установили на уровне семьдесят четвертого года. Технические работники получали сто десять рублей. Кто пойдет на такую зарплату? Мне приходилось самому мотаться по городам. Сыктывкар, Балахна, Электросталь, Киев, Ленинград, Чехов – из города в город, из типографии на бумкомбинат. И удивительно: мне почти все удавалось. Заключил договора на поставку бумаги и картона по госцене. Нашел типографии.
Уже в марте, через два месяца после начала работы, вышла первая книга: «История города Москвы» Ивана Забелина. Еще через месяц – вторая: «Библия для детей». О «Столице» заговорили. Я начал активно переводить издательство на аренду, чтобы повысить сотрудникам зарплату. В мае мы подписали договор об аренде.
Жизнь в «Столице» кипела. Кабинет мой всегда был забит людьми буквально со всех концов страны. В городе Уварове Тамбовской области я покупал ангap, чтобы поставить в Москве склад для хранения бумаги, которая шла к нам вагонами из Балахны, Пензы и Сыктывкара; химзавод того же города поставлял нам два вагона гидросульфита натрия для обмена в Соликамске на бумагу; заключал договоры с Мичуринским кирпичным заводом на поставку кирпича тоже для обмена; пробивал землю под Москвой под дачные участки для сотрудников; в Кисловодске покупал дом для отдыха сотрудников; с ВАЗом заключал договор на поставку «Жигулей» сотрудникам; выбивал помещение для издательства (о, как это было трудно!); искал сотрудников в технические отделы издательства. А сколько авторов бывало у меня ежедневно! В эти же дни я организовывал журналы «Русский архив», «Нива», «Фантастика» и газету «Воскресение»; учреждал малые предприятия по всей стране…
О журналах и малых предприятиях расскажу чуть подробнее. В то время в стране начали появляться первые независимые газеты и журналы. Закона о них пока не было, но они уже не запрещались. Журнал – это моя давняя мечта. Теперь можно было ее осуществить. Я решил возродить Бартеневский «Русский архив». Пригласил к работе над ним Ирину Смирнову, историка, архивиста. И вдвоем потихоньку начали собирать первый номер.
Однажды Смирнова прибежала ко мне в панике: случайно узнала, что еще два издательства работают над журналом «Русский архив», и якобы в одном из них книга сдана в производство. «Надо опередить!» – взвился я. Застолбить журнал за «Столицей», дать первыми рекламу! Номер был быстро сверстан, радио дало почти часовую беседу со мной о журнале, а по телевидению мы выступили вместе со Смирновой. Первый номер журнала вышел за три месяца.
Когда появился Закон о печати, мы сразу зарегистрировали и «Русский архив», и «Ниву», опередив издательства, которые пришли с заявкой после нас. Первый номер «Нивы» вышел попозже. Цену мы установили три рубля за экземпляр, а с лотков он продавался за тринадцать. Очень хотелось мне иметь свою газету, но если журнал я мог делать сам, работа знакомая, то опыта газетчика у меня не было. Нужны главный редактор и журналисты. Знакомых газетчиков у меня не было. Мне порекомендовали человека, имя которого я слышал впервые. Но другого не было, и я согласился попробовать.
Газета начала выходить, но не такой я видел ее. Мне представлялась она веселой и боевой, ироничной и тонкой, зубастой и умной, независимой и культурной, главной темой ее должна стать жизнь русского народа. Я надеялся, что газета окрепнет, развернется. Руки у меня совершенно не доходили до нее. До третьего номера, на мой взгляд, она потихоньку шагала вверх, появились читатели. Звонки, письма. Потом застыла на месте, стала однобокой, односторонней, и я отпустил ее на свободу, смирившись с неудачей.
Малые предприятия. О них заговорили в стране, стали поддерживать. И однажды мне пришла мысль, что под видом малых предприятий в городах России можно возродить закрытые Хрущевым областные издательства. Сколько обращений к правительству слышали трибуны писательских съездов и пленумов, но правительство безмолвствовало. А я спокойно и тихо начал открывать малые предприятия-издательства:
Липецк, Тамбов, Мурманск, Калининград, Тула, Курск, Харьков и т. д., было создано тринадцать издательств и два акционерных общества. Все они получили от «Столицы» деньги для развития. Одни из них за год окрепли, прочно встали на ноги, издают книгу за книгой, другие туго, медленно развиваются. Это зависит от характера, предприимчивости руководителей и местных условий. Мне мечталось о мощном издательском концерне, где в центре стоит «Столица» с ее журналами и газетой и филиалы ее по всей стране. Каким-то образом о деятельности «Столицы» узнавали зашевелившиеся предприниматели, и вряд ли найдется хоть одна область России, представители которой не побывали в моем кабинете. Со многими завязывались деловые отношения.
А скольких новых организаций «Столица» стала соучредителем! Ассоциация книгоиздателей (АСКИ), Союз арендаторов и предпринимателей, «Россия» – по связям с зарубежными соотечественниками, «Русская соборность» и т. д. и т. п. Написал я это, и пришла мне в голову ироническая мысль: вспомнить и перечислить все свои титулы-должности, или как там их еще можно назвать, даже не знаю – в общем, то, что обычно пишут на визитках, по состоянию на первое января 1991 года. Начал вспоминать и офигел! Записываю не по важности, а по тому, как вспоминалось: директор издательства «Столица», член Союза писателей СССР, член Правления Союза писателей РСФСР, секретарь Правления Союза писателей РСФСР, главный редактор журнала «Русский архив», член редколлегии журналов «Московский вестник» и «Нива», президент акционерного общества «Голос», член правления акционерного общества «Толика», член Правления ассоциации «Россия», член Правления Международного фонда «Русская соборность». Член, член, член…
Пишу эти строки спустя год, а кажется, давно это было! И каким интересным, насыщенным было то время. Ни дня покоя, ни часа отдыха! Удивительный год! А сколько сделано! Вспоминаю сейчас и удивляюсь: неужто все это уложилось в один год?
Да, за один год удалось организовать, поставить на ноги новое издательство. Создать на пустом месте и так, что о нем заговорили. Что же было сделано? Мы получили ордер на большое помещение на улице Горького неподалеку от Кремля, рядом с Центральным телеграфом, начали строить свою типографию, купили дом в Кисловодске, почти получили землю в Нарофоминском районе (облисполком подписал все бумаги), три склада ломились от бумаги, купили и привезли ангар под склад, о журналах, малых предприятиях и газете я написал.
Да, начало было энергичным, мощным, красивым, а кончилось все крахом! Крахом еще более стремительным, чем рождение издательства. Я не почувствовал, не увидел начало разложения, исток будущего краха. Не заметил лишь потому, как понимаю теперь, что по отношению к людям я романтик.
Да, я знал из книг, из газет, что есть негодяи, есть преступники, есть злодеи, есть доносчики, но я никогда не верил, что мои знакомые, друзья, окружающие меня люди могут быть завистниками, подлецами, доносчиками, я не верил, что мои знакомые могут сделать мне подлость, ведь я всем желаю добра, стараюсь делать все, что в моих силах, чтоб всем вокруг меня было хорошо. Разве найдется хоть один человек на земле, который может сказать, что я сознательно сделал ему какую-нибудь пакость?
Я мог кого-то нечаянно обидеть словом, шуткой, но из-за этого врагами не становятся. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я лишен чувства зависти. Нет, вру, я завидую Бунину: ну как ему удается так найти и соединить слова, что я не только вижу зримо все то, что он описывает, живу среди тех, о ком он говорит, но и наслаждаюсь этими самыми обычными словами. Господи, научи меня так же соединять слова, ведь я рассказываю в своих книгах совсем об ином времени, чем Бунин. Его уже нет, он не сможет рассказать! Ведь Ты, Господи, знаешь, сколько сил и времени я потратил над белым листом бумаги, чтобы найти свои слова, чтобы они вызывали такие же чувства у читателей, какие вызывают во мне строки Бунина и Достоевского…
А современникам своим, особенно тем, с кем знаком, я никогда и ни в чем не завидовал. У меня свой путь, и я почти всего достиг, о чем мечтал в юности, достиг и разочаровался. Единственно, что приносит радость и наслаждение – это литература. Мне хочется повторить еще раз слова, которые я повторил в семнадцать лет: «Жизнь – это литература, а все остальное лишь материал для нее». Мне уже немножко за сорок, и осталась у меня единственная мечта – читать и писать, писать и читать. Все остальное не приносит радости.
Во мне нет зависти, и я думал, что нет ее и в окружающих меня людях. Но я ошибался…
Многие писатели, руководители Московской писательской организации гадали, думали, чем вызвано это письмо, этот донос, с которого начался стремительный крах издательства. Кто стоит за этим доносом? Кому захотелось, кто спланировал уничтожение издательства? Каких только сил не называли, не выискивали! Но никто не произнес это короткое слово – зависть!
Прошел год, ровно год, пишу я эти строки 20 февраля 1992 года, а письмо появилось 18 февраля 1991 года, и теперь, издали, я вижу, что только зависть двигала Бежиным и некоторыми его соратниками. Остальные были просто одурачены.
Но все по порядку. Вы помните, что по идее московских писателей главным лицом в издательстве должен стать Бежин. Он это знал. Я не замечал в ежедневном бурлении его состояния. Однажды давняя моя знакомая Ирина Аксенова, главный редактор журнала «Нива», сказала мне, шутя:
– Ты, директором став, ничуть не изменился. А каким важным стал Бежин! Прямо очень большой человек. Не подступись!
Я посмеялся и забыл, приняв за обычную иронию, шутку. Но я был не прав. Позже Бежин напечатает большую статью в «Литературной газете» под названием «Как я был большим человеком». Из статьи той видно, что Аксенова права. Он действительно почувствовал себя большим человеком – ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ.
Я же никогда не ощущал себя директором. Некоторые друзья говорят, что это и было моей ошибкой. Не знаю! Я вел себя со всеми так же, как и когда был плотником. А Бежин, как все главные редакторы, решил посещать издательство только во второй половине дня и брать творческий день каждую неделю. Когда в журнале «Знамя» готовили к печати мою повесть, я впервые узнал, что главный редактор появляется в редакции один раз в неделю и всего на два часа. Я был страшно поражен. Думается, мою повесть он напечатал, даже не листая.
Вот таким редакторам стал подражать Бежин. Естественно, за те десять-двенадцать часов, которые он проводил в издательстве каждую неделю, нельзя было даже понять, что в нем делается. У меня же рабочий день продолжался, чуть ли, не круглые сутки. Ложился в постель с мыслями о делах издательства, обдумывал, как быть дальше, засыпал только со снотворным. Все видели, кто из нас как работает, и, естественно, успехи издательства связывали с моим именем. Приезжает телевидение – интервью дает Алешкин, радио – Алешкин, пресса – Алешкин. Я предположить не мог, как мучается он, бедняжка, что нет у него служебной машины, что не подкатывает к его дому мотор. У нас было две машины: на одной я мотался по организациям, на другой – коммерческий директор. Дел у него тоже невпроворот…
Только теперь понимаю я, представляю, сколько бессонных ночей прокрутился Бежин в постели, сколько промучился, бедняга, когда на съезде писателей России меня избрали одним из секретарей, а его просто членом Правления. Бедный Бежин! Прости, не знал я, не представлял, что это имеет для тебя такое значение! Но ты же помнишь, как я хвалил тебя всюду, на радио, с трибуны ЦДЛ, когда у нас была презентация; в первом номере за 1991 год журнала «Полиграфия».
Правда, в те дни, когда я всюду хвалил тебя, говорил, что издательству повезло с главным редактором, называл настоящим интеллигентом, ты бессонными ночами сочинял на меня донос, придумывал, как ловчее преподнести начальству, чтобы одним махом и навсегда уничтожить меня!
Да, я всюду называл Бежина настоящим интеллигентом, не только называл, но и искренне считал таковым. А себя я считал и считаю крестьянским сыном: как родился им, так и умру, хотя прошел все три слоя общества. До восемнадцати лет я жил в деревне безвыездно. Двухэтажный дом и электрическую лампочку увидел впервые в семнадцать лет, когда в первый раз приехал в город. Школу окончил при керосиновой лампе. С восемнадцати до тридцати трех, то есть пятнадцать лет был рабочим: три года на заводе, а остальные годы на разных стройках. И теперь почти десять лет нахожусь в среде, которая зовется интеллигенцией, более того, творческой интеллигенцией, так сказать, плаваю в сливках общества.
И вот что меня больше всего поразило, когда я перекочевывал из слоя в слой: самый нравственный, самый чистый, искренний, добродушный и доброжелательный народ – крестьяне. Рабочие уже поразвращенней, понахальнее, но безнравственней, развращенней, пакостней, чем творческая интеллигенция, представить себе трудно. Жалкие людишки, жалкие душонки! Если ты крестьянину не нравишься, так он к тебе и не подойдет, отвернется. А интеллигент, сделав тебе пакость, будет улыбаться, кланяться, жать тебе руку, как ни в чем не бывало. Ты отвернулся, он тут же начнет о тебе гадости говорить, и главное, знает сам твердо, что клевещет, сам в свои слова не верит. Что поделаешь, такой гнилой народишко!
В издательстве на творческих должностях были в основном те, кто знаком со мной давно, с кем я бегал по литстудиям, кто знал меня плотником. А они были в то время уже научными сотрудниками, обласканными писателями, смотрели свысока, как мельтешит рядом с ними какой-то Петька-плотник.
Первая книга Бежина была сильнее моей, ее заметили, отметили. Он действительно начинал неплохо. Это потом у него стали выходить книги, содержание которых он высасывал из пальца. Да и написаны они до того скучно, что читать их можно, вероятно, только в одиночной тюремной камере, сгорая от скуки.
Думается, зависть здорово пощекотала его и в те дни, когда главы из моего последнего романа напечатали в Германии и Париже журналы «Грани» и «Континент».
Паламарчук тоже начинал сильнее. «Континент» напечатал его значительно раньше. Но жизнь повернулась так, что эти бывшие научные сотрудники оказались в подчинении у бывшего плотника. Как говорят, не шибко радовало этих мелких людишек то, что с обывательской точки зрения у меня неплохо складывалась карьера. В тридцать три года я начал работать простым редактором издательства, а через семь лет стал директором.
Бежин ждал случая, а Паламарчук мелко гадил всегда. Петр Паламарчук в ЦДЛ человек известный. Внешне он всегда неряшлив: волосат, бородат, черен, с круглым выпирающим брюшком. И был он вечно пьян. И очень любил деньги. Нет, не наши деревянные рубли, а доллары. Умрет за доллар. Кинь доллар в вонючую лужу и скажи – можешь взять себе, но только ползком по луже, – и поползет, еще как поползет. В последнее время часто бывает за рубежом, живет у писателей эмигрантов. Он начитан, поговорить умеет. Работая в «Столице», наверное, больше времени проводил за границей, чем в Москве. Сейчас начинают раскрывать архивы КГБ, и я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что он сексот.