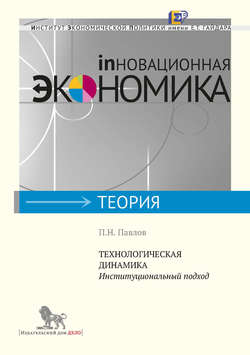Читать книгу Технологическая динамика. Институциональный подход - П.Н. Павлов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Эмпирические исследования институциональных факторов технологической динамики
2.1. Роль институциональных факторов в наверстывании технологического отставания
ОглавлениеВ 1966 г. в работе Р. Нельсона и Э. Фелпса[34] была формализована одна из наиболее важных идей в современной теории экономического роста, которая касается возможности наверстывания технологического отставания теми или иными странами. Страны, которые отстают от передовой технологической границы мира, в состоянии сократить свое отставание путем имитации технологий, разработанных в ведущих странах мира. Процесс ликвидации отставания не является одномоментным, а низкий уровень развития страны сам по себе не является достаточным условием для обеспечения высоких темпов роста.
Скорость, с которой происходит сокращение отставания, по мнению Р. Нельсона и Э. Фелпса, а также М. Абрамовитца[35], определяется прежде всего способностью получать потоки технологий со стороны технологической границы, со стороны развитых стран мира. В одной из современных работ подчеркивается значение человеческого капитала для освоения новых технологий, т. е. отличие в уровне человеческого капитала является фактором, объясняющим отличия в скорости диффузии технологий[36].
Но даже после учета различий в человеческом капитале существенные отличия между странами в темпах экономического роста, совокупной факторной производительности (TFP) тем не менее наблюдаются. Объяснение данному факту приводится в работе Ф. Манки[37], который тестирует гипотезу о том, что данные различия в TFP и темпах экономического роста могут объясняться различиями в институтах тех или иных стран мира.
Качественные институты не только способствуют улучшению результатов работы экономики, но также создают условия для привлечения и освоения технологий догоняющими странами[38].
В теоретических и эмпирических исследованиях, как правило, подчеркивается положительное влияние, которое оказывает в долгосрочном периоде усиление уровня защиты прав интеллектуальной собственности. В то же время редко подчеркивается, что усиление уровня защиты прав интеллектуальной собственности сопряжено как со стимулирующим, так и с дестимулирующим воздействием на темпы освоения новых технологий и темпы роста экономики. Дестимулирующее влияние усиления уровня защиты прав интеллектуальной собственности связано с увеличением барьеров для имитационного заимствования технологий. В ряде исследований показано, что имитация технологий затратна. Р. Левин[39] и Н. Таллинн[40], например, указывают на то, что механизм патентования повышает издержки имитации на 30 процентных пунктов в случае копирования новых (и на 25 процентных пунктов в случае копирования стандартных) продуктов химической отрасли; издержки повышаются на 40 процентных пунктов в случае копирования лекарственных препаратов.
Наряду с подчеркиванием роли защиты прав интеллектуальной собственности, в экономической литературе нередко упоминается и важность институтов, которые отвечают за установление свободного режима внешнеэкономических отношений, торговли: свобода торговли является важным фактором обеспечения инновационной активности, диффузии инноваций. Более открытые экономики быстрее переходят к импорту новых продуктов, в них более ярко выражены процессы обратного инжиниринга (аналитического восстановления технологии производства продукта), который является основным в случае имитации технологий.
Открытость торговых отношений важна и по той причине, что нередко копируемые товары поставляются на внешние рынки, а не только на внутренний рынок страны, в которой имитируется технология. Знаковым примером использования подобной модели развития являются экономики Китая и Индии.
Высокое качество институтов важно как с точки зрения обеспечения правильных стимулов работы в сфере исследований и разработок, так и с точки зрения устранения барьеров, понижающих возможности освоения новых технологий в экономиках развивающихся стран. К таким барьерам, как показано в одном из исследований[41], относят слабую защиту прав собственности и монополистическую модель организации производства.
В работе Ф. Манки[42] для измерения качества институтов используется Индекс экономической свободы (EconomicFreedom of the World index), публикуемый институтом Фрейзера[43]. Этот индекс построен на основе двух ежегодных публикаций: Global Competitiveness Report и International Country Risk Guide. Индекс используется для измерения уровня экономической свободы в 1970–2000 гг. в пяти основных сферах:
1. Размер государства: расходы, налоги, предприятия (Size of Government: Expenditures, Taxes, and Enterprises).
2. Структура права и защита прав собственности (Legal Structure and Security of Property Rights).
3. Доступ к финансовым ресурсам (Access to Sound Money).
4. Свобода международной торговли (Freedom to Trade Internationally).
5. Регулирование кредитования, рынка труда и бизнеса (Regulation of Credit, Labor, and Business).
В данных пяти сферах используется 21 компонента, из которых построен сам Индекс экономической свободы и подиндексы: всего для расчетов Индекса экономической свободы привлекается 38 источников данных. Преимуществом данного индекса является то, что он не только предоставляет сведения о качестве институциональной среды тех или иных стран, но и информацию о компонентах индекса, что позволяет с помощью дополнительных расчетов определить, какие параметры институциональной среды наиболее важны с точки зрения обеспечения высоких темпов экономического роста, высоких темпов роста TFP.
Всего в выборке в исследовании Ф. Манки представлено 50 стран мира, среди которых есть как развитые, так и развивающиеся. На долю представленных стран приходится 75 % мирового ВВП, измеренного по паритету покупательной способности для рассматриваемого периода 1970–2000 гг.
Перечень стран: Австралия, Австрия, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Бурунди, Великобритании, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Маврикий, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Португалия, Сингапур, США, Таиланд, Танзания, Тринидад, Турция, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.
В качестве альтернативы, для дополнительного тестирования, использовался также индекс институционального качества, представленный в другой работе[44], который отличается тем, что является точечным – приводятся расчеты только по данным за 1988 г., однако при этом набор стран, для которых рассчитывается индекс, является довольно широким. Надо отметить, что результаты использования разных баз данных для измерения качества институтов в целом приносят сходные результаты. Отчасти это вызвано тем, что качество институциональной среды, как правило, изменяется достаточно медленно, характеризуется инерционностью, проявлением эффекта сопротивления различных групп специальных интересов.
При изучении взаимосвязи между качеством экономических институтов и совокупной производительностью факторов вероятно возникновение проблемы эндогенности, т. е. достаточно сложно вычленить непосредственное влияние качества институтов на темпы экономического роста и TFP в связи с тем, что взаимосвязь между объясняемой и объясняющей переменной двусторонняя (в прямом и обратном направлении), одновременная.
Для решения данной проблемы обычно используется метод инструментальных переменных (IV) и обобщенный метод моментов (GMM). Выбор инструментальных переменных является определяющим с точки зрения точности результатов вычислений, инструментальные переменные должны быть коррелированы с эндогенной переменной, но в то же время не должны оказывать прямого влияния на зависимую переменную.
Прежде всего, уровень институционального качества страны (это эндогенная переменная в данном случае) объясняется ее колониальным прошлым. Будем исходить из предпосылки о том, что европейские страны обладают высококачественными институтами, поддерживающими сферы торговли, исследований и разработок (на основе механизмов защиты прав интеллектуальной собственности), в целом экономический рост. Можно заметить корреляцию между уровнем качества институциональной среды страны и влиянием, которое оказывала на нее метрополия в течение колониального периода. В ряде работ существует указание на тот факт, что регионы, которые подверглись колонизации со стороны европейских стран, с большей вероятностью в итоге выстроили социальную инфраструктуру (институты), воспроизводящую по характеристикам аналогичную инфраструктуру метрополии.
Географическая широта страны и степень распространенности по крайней мере одного из основных европейских языков представляет собой прокси для оценки качества институтов. Если страна располагается на широте, близкой к широтам основных европейских стран (в диапазоне Франции, Англии, Испании), то это является индикатором цивилизованной колонизации (в противовес хищнической, грабительской). В данном случае колонизаторы в силу благоприятных климатических условий могли рассматривать подобные страны в качестве локации, пригодной для долгосрочного проживания, и устанавливали институты, напоминающие в целом институты метрополии.
В то же время в локациях, более неблагоприятных с климатической точки зрения, с высокой вероятностью происходила хищническая колонизация, качество институтов было низким. Аналогичным образом объясняется наследование языков теми или иными странами.
Рассмотрим результаты оценивания эконометрических моделей, которые основываются на использовании инструментальных переменных.
Таблица 3. Результаты эконометрического исследования влияния качества институциональной среды на темпы роста TFP[45]
Источник: Manca, F. 2010. Technology catch-up and the role of institutions. Journal of Macroeconomics, 32,1041–1053.
Знаки при коэффициентах в рассматриваемых моделях позволяют сделать вывод о том, что качество институтов является фактором увеличения интенсивности перетока технологий из развитых стран в развивающиеся. При фиксированном расстоянии стран до передовой технологической границы страны, обладающие более высоким качеством институтов, в среднем быстрее сокращают отставание от лидеров через положительные и более высокие темпы роста TFP.
Изучая феномен ß-конвергенции, Ф. Манка включает в эконометрические модели величину ВВП и норму инвестиций в начальном периоде (в логарифмических единицах). Результаты в столбцах (iii) и (iv) показывают, что при включении в модель переменной, учитывающей величину отставания стран по показателю совокупной факторной производительности (Ln [10 х TFP gap]), при переменной, показывающей первоначальный уровень ВВП (Ln Ypp 1970), мы видим положительный и статистически значимый коэффициент. Если же обратиться к следующей модели (v), которая не включает переменную Ln [10 х TFP gap]), то коэффициент при Ln Ypp 1970 будет также статистически значимым, но отрицательным. Автор интерпретирует этот факт следующим образом: судя по всему, большая часть наблюдаемой ß-конвергенции может быть объяснена технологическим наверстыванием и эффектом, который привносит произведение уровня качества институтов (10) на величину отставания страны по TFP от страны-лидера (передовой технологической границы).
Далее автор вновь подчеркивает идею о том, что темы экономического роста зависят от действия двух факторов: во-первых, высококачественные институты сами по себе способствуют эффективному освоению технологий, во-вторых, создают условия для привлечения и последующего освоения новых технологий.
Для более скрупулезного исследования того, какие институциональные факторы являются наиболее важными, в эконометрическую модель включаются компоненты Индекса экономической свободы. Кроме того, интерес представляет вопрос о том, варьируется ли действие институтов в зависимости от уровня развития стран, от степени технологического отставания. Для ответа на данный вопрос предлагается разделить выборку стран на две подвыборки – подвыборку лидеров и подвыборку догоняющих стран, у которых в начальный год исследования отставание по уровню TFP от лидера (США) составляло не менее 10 %. В группу стран-лидеров вошли 15 стран, в группу догоняющих – 35 стран.
Результаты оценивания эконометрических уравнений для двух групп стран, включающих регрессоры, измеряющие качество компонент институциональной среды, представлены в табл.4.
Судя по результатам дезагрегирования Индекса экономических свобод, некоторые параметры институциональной среды не объясняют скорость наверстывания технологического отставания. Судя по статистической значимости оценок коэффициентов, не зафиксировано влияние следующих компонент Индекса экономических свобод: (1) Размер государства: расходы, налоги, предприятия (Size of Government: Expenditures, Taxes, and Enterprises); (5) Регулирование кредитования, рынка труда и бизнеса (Regulation of Credit, Labor, and Business).
Наиболее важными оказались следующие компоненты: (2) Структура права и защита прав собственности (Legal Structure and Security of Property Rights); (3) Доступ к финансовым ресурсам (Access to Sound Money); (4) Свобода международной торговли (Freedom to Trade Internationally).
Наиболее неожиданные результаты связаны с защитой прав интеллектуальной собственности. В спецификациях, которые включают переменную, отвечающую за общий уровень качества институциональной среды, увеличение уровня защиты прав собственности[46] замедляет скорость сокращения технологического разрыва[47]. Более конкретно: увеличение уровня защиты прав собственности (соответствующей компоненты Индекса экономических свобод) на 1 % приводит к сокращению темпов освоения технологий на 2 % для полной выборки стран и на 4 % – для группы догоняющих стран.
Таблица 4. Результаты эконометрического исследования: влияние компонент институциональной среды на темпы роста TFP[48]
Источник: Manca, F. 2010. Technology catch-up and the role of institutions. Journal of Macroeconomics, 32,1041–1053.
Результат соответствует ожиданиям того, что улучшение защиты прав интеллектуальной собственности может стать барьером на пути имитации технологий, особенно для стран, которые в наибольшей степени удалены от технологической границы и которые более других опираются на модель чистой имитации. Данный результат подтверждает гипотезу, высказанную в одной из работ ранее[49]: согласно этой гипотезе в том случае, если передача технологий осуществляется через канал имитации, защита прав интеллектуальной собственности может привести к снижению скорости наверстывания технологического отставания. По мере того как увеличивается уровень доходов и возрастают технологические возможности страны, отрицательное влияние защиты прав интеллектуальной собственности становится менее ярко выраженным.
Следует отметить, что влияние двух других показателей: Доступ к финансовым ресурсам (Access to Sound Money); Свобода международной торговли (Freedom to Trade Internationally) соответствует ожидаемому эффекту – совершенствование по данным переменным является благоприятным с точки зрения обеспечения темпов роста TFP. При этом Ф. Манка отмечает, что показатель «Доступ к финансовым ресурсам» следует расценивать как прокси для стабильной макроэкономической среды, которая снижает риски инвесторов и способствует диффузии технологий.
Еще одним интересным результатом работы Ф. Манки[50]является попытка определить минимальный уровень развития институтов, ниже которого представители группы догоняющих стран даже теоретически не могут приблизиться к технологической границе. Страны со средним качеством институтов ниже 66 % от качества институтов страны-лидера не в состоянии двигаться в тренде технологической конвергенции, напротив – их отставание будет только усиливаться.
Из 50 рассматриваемых стран у 15 уровень развития институциональной среды на момент проведения исследования не позволял рассчитывать на технологическую конвергенцию; перечислим эти страны: Гана, Нигерия, Бангладеш, Бразилия, Танзания, Бурунди, Малави, Перу, Турция, Аргентина, Израиль, Пакистан, Индия, Мали, Марокко. Из всех перечисленных стран только в Турции, Индии и Израиле наблюдался положительный темп роста TFP. Автор замечает, что расстояние Аргентины, Индии, Израиля и Турции до порогового уровня качества институтов невелико. Это означает, что небольшие усилия по приведению в порядок институтов имеют стратегическое значение и способны принести огромные выгоды таким странам. Другим странам необходимы более радикальные перемены для того, чтобы выбраться из ловушки технологической дивергенции.
34
Nelson, R., Phelps, Е. 1966. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. American Economic Review, 56, 69–75.
35
Abramovitz, M. 1986. Catching up, forging ahead, and falling. Behind. Journal of Economic History, 46, 385–406.
36
Benhabib, /., Spiegel, М. 2005. Human capital and technology diffusion. In: Aghion, P., Durlauf, S. (Eds.). Handbook of Economic Growth. Elsevier.
37
Manca, F. 2010. Technology catch-up and the role of institutions. Journal of Macroeconomics, 32,1041–1053.
38
Hall, R., Jones, C. 1999. Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics, 1141, 83-116; Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, /. 2001. The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. American Economic Review, 91, 1369–1401.
39
Levin, R., et dl. 1988. Appropriating the returns from Industrial R&D. Working Paper, Cowles Foundation, Yale University.
40
Gallini, N. 1992. Patent policy and costly imitation. The RAND Journal of Economics, 23, 52–63.
41
Parente, S., Prescott, E. 2000. Barriers to Riches. MIT Press, Cambridge, MA.
42
Manca, F. 2010. Technology catch-up and the role of institutions. Journal of Macroeconomics, 32,1041–1053.
43
The Fraser Institute, http://www.fraserinstitute.org
44
Hall, R., Jones, С. 1999. Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics, 1141, 83-116.
45
Ln IQ – логарифм среднего уровня качества институтов за период 1970–2000 гг., TFP gap – отличие величины TFP каждой конкретной страны от величины TFP США (лидер поданному параметру). Используемые инструментальные переменные: (i) – доля населения, владеющая английским языком; (ii) – доля населения, владеющая одним из шести основных европейских языков; (iii) – географическая широта; (iv) – количество лет реализации открытой торговой политики. Стандартные ошибки скорректированы с учетом гетероскедастичности.
46
Субиндекс «Legal Structure and Security of Property Rights» состоит из следующих компонент: (1) независимость судебной системы; (2) беспристрастность правосудия; (3) защита прав интеллектуальной собственности; (4) военное вмешательство в сферу закона; (5) власть закона.
47
Переменная «Ln Property Rights * TFP gap» входит в модель с положительным коэффициентом, что для используемой автором логистической функции распространения технологий следует интерпретировать как отрицательную эластичность по темпу роста TFP.
48
Ln IQ – логарифм среднего уровня качества институтов за период 1970–2000 гг., TFP gap – отличие величины TFP каждой конкретной страны от величины TFP США (лидер поданному параметру). Используемые инструментальные переменные: (i) – доля населения, владеющая английским языком; (ii) – доля населения, владеющая одним из шести основных европейских языков; (iii) – географическая широта; (iv) – количество лет реализации открытой торговой политики. Стандартные ошибки скорректированы с учетом гетероскедастичности.
49
Grossman, G., Lai, Е. 2004. International protection of intellectual property. American Economic Review, 94,1635–1653.
50
Manca, F. 2010. Technology catch-up and the role of institutions. Journal of Macroeconomics, 32,1041–1053.