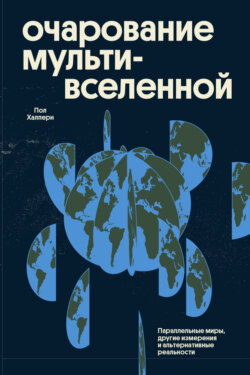Читать книгу Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности - Пол Халперн - Страница 5
Введение
Когда одной Вселенной мало
Ландшафты и грезы
ОглавлениеЕсли в физике понятие мультивселенной появилось относительно недавно, то мысленное конструирование альтернативных миров – занятие древнее. Плетение историй – привычное для нас дело. Во сне разум автоматически создает странные видéния событий, которые на самом деле никогда не происходили или по крайней мере происходили по-другому. Успешное планирование часто предполагает мысленное взвешивание альтернативных сценариев и выделение оптимального. Гроссмейстеры в шахматах на много ходов вперед продумывают многочисленные цепочки возможных событий и ответных решений, прежде чем двинуть с места хоть пешку.
Некоторые философы и богословы, пытаясь постичь божественный промысел, представляли себе Творца размышляющим над каждым шагом творения, прежде чем воплотить его в жизнь. Например, Готфрид Лейбниц предположил, что Бог – не только всевидящий и всезнающий в отношении реального космоса, но и всеведущий в отношении строения и развития всех мыслимых реальностей. Из этого множества Он выбрал лучший из всех возможных миров. Гениальный сатирик Вольтер безжалостно высмеял эту идею, воплотив ее в образе хронического сангвиника Панглосса в «Кандиде», который из любой трагедии извлекает самые радужные выводы. Остроумие этой сатиры основано на нашей склонности видеть темную сторону истории и считать, что человечеству не повезло. Однако в сравнении со всеми возможными космическими исходами, нам по крайней мере посчастливилось оказаться на процветающей планете с условиями, необходимыми для поддержания разумной жизни.
Мультивселенные, как мы видим, не обязательно представляют расширения осязаемого физического мира. Их можно разделить на две категории: те, которые расширяют Вселенную в физическом плане, например предполагая существование областей, недоступных для наблюдения, и те, что существуют в области гипотетических возможностей и служат в основном для сравнения. То есть одни – это ландшафты, а другие – сказочные грезы.
Современная физика, пытаясь ответить на вопросы «Что есть реальность?» и «Почему реальность обладает определенными свойствами?», использует оба подхода – физические расширения и нереализованные альтернативы. Оба варианта возникают в общей теории относительности Эйнштейна, которая включает в себя множество решений конечного или бесконечного размера для геометрии Вселенной. Например, пространство может быть положительно искривленным, подобно поверхности сферы, отрицательно искривленным, как седло, или плоским, идеально прямым во всех трех измерениях, как коробка, растянутая до бесконечности во всех направлениях. Каждую из этих (и не только этих) возможностей можно согласовать с уравнениями общей теории относительности.
В отличие от ньютоновской физики, которая предполагает единую, неизменную сетку координат, называемую абсолютным пространством, где небесные тела движутся на фоне единой однородной шкалы, называемой абсолютным временем, общая теория относительности обладает удивительной гибкостью. Тем не менее, предложив эту теорию, Эйнштейн надеялся найти физические основания, гарантирующие для космоса единственное конечное стабильное решение.
К большому его разочарованию, первое разработанное им решение, обладающее геометрией трехмерной сферы, оказалось неустойчивым. Пытаясь исправить ситуацию, он добавил в свою теорию новое стабилизирующее слагаемое, названное космологической постоянной, которая противостоит сжимающему действию гравитации. Это дало ему искомый стабильный результат.
Когда благодаря телескопическим исследованиям появились убедительные доказательства расширения Вселенной, Эйнштейн поменял свою позицию. Вместе с голландским ученым Виллемом де Ситтером в 1932 году он предложил модель Вселенной, которая бесконечна по протяженности, неограниченно расширяется и имеет плоскую геометрию. Создавая эту модель, которую теперь называют Вселенной Эйнштейна – де Ситтера, они приравняли космологическую постоянную к нулю, убрав ее из теории, которая больше не нуждалась в стабилизирующем факторе. Эта модель послужила концептуальной основой того, что позже стало известно как теория Большого взрыва.
Возьмите котел научного любопытства, наполните его космологическими моделями, бесконечно простирающимися во всех направлениях, смешайте с бесчисленным множеством альтернативных решений, и сварится суп из всех возможных композиций – ландшафтов и грез. Например, один из таких ландшафтов обусловлен конечностью скорости света, ограничивающей то, что мы можем наблюдать. За пределами зоны, откуда до нас могут дойти хоть какие-то сигналы, почти наверняка находятся участки, которые ускользают от нашего внимания. В результате гипотеза мультивселенной становится логической необходимостью, поскольку почти невозможно поверить, будто Вселенная просто обрывается за горизонтом наблюдаемости.
Если формулировать более абстрактно, то в теоретическом пространстве параметров космоса, таких как кривизна, гладкость, космологическая постоянная и так далее, существует огромное множество разных возможностей, которые составляют мультивселенную более умозрительного характера. Их можно либо отбросить как чисто математические модели, либо всерьез рассматривать как физические альтернативы – в зависимости от предпочтений теоретиков. Другими словами, мультивселенную, состоящую из альтернативных решений общей теории относительности, можно воспринимать в качестве своего рода интеллектуальной грезы, которая имеет мало общего с физикой, а можно – в качестве набора реальных конкурентов из ландшафта физических вариантов. Выбор определяется личными предпочтениями теоретиков.
Стремясь создать квантовую теорию гравитации, Уилер предпочитал рассматривать альтернативные решения в общей теории относительности как составляющие шипучей «геометрической пены», возникающей при чрезвычайно высоких энергиях. Из этой пены каким-то образом возникла наша простая космология в качестве оптимального пути через абстрактное пространство параметров, которое, согласно фейнмановскому методу суммирования по историям, представляет собой классический (ньютоновский) предел физики. Идея Уилера звучала захватывающе, но так и не получила широкого признания из-за невозможности достичь столь высоких энергий в рамках эксперимента, а также из-за колоссальных математических трудностей, связанных с построением жизнеспособного квантового описания общей теории относительности (это те самые трудности, которые в конечном счете привели многих физиков к теории струн).
Не говоря уже о квантовой физике, даже в стандартной космологии возникают вопросы о том, как Вселенная оказалась такой упорядоченной. Плоская геометрия и изотропное (одинаковое по всем направлениям) расширение очень хорошо подходят к идеям Эйнштейна и де Ситтера. Однако ускоренное расширение Вселенной требует, чтобы космологическая постоянная не была строго равна нулю, а имела очень маленькое положительное значение. «Почему она так мала, но все же не нулевая?» – задаются вопросом теоретики. Среди других космических странностей – чрезвычайно низкое значение энтропии, или меры беспорядка, наблюдаемой Вселенной; если бы не это, вначале в ней было бы мало или совсем не было бы энергии для создания звезд и других замечательных космических объектов, которые мы видим. Наконец, многие фундаментальные постоянные (например, задающие силу и радиус действия электромагнетизма в сравнении с другими взаимодействиями) кажутся на удивление благоприятными для возникновения галактик, звезд и планет.
В 1970 году, надеясь объяснить космические условия, исключительно благоприятные для появления разумных наблюдателей, Брэндон Картер, вдохновленный Уилером, предложил несколько вариантов гипотезы, которую он назвал антропным принципом. Это представление о том, что условия в нашей области пространства-времени и/или в самой Вселенной должны быть такими, чтобы в ней могли появиться люди (или другие разумные существа). Самая далекоидущая версия, «сильный антропный принцип», опирается на концепцию мультивселенной для объяснения благоприятных условий в нашей Вселенной. В разных Вселенных космологические параметры и условия могут сильно отличаться друг от друга. Наша Вселенная выделяется тем, что способна порождать стабильные звезды с планетарными системами, которые поддерживают физические и химические процессы, необходимые для процветания разумной жизни. Таким образом, само наше присутствие в качестве сознательных наблюдателей гарантирует, что мы находимся в таком космическом оазисе среди пустыни альтернатив.
Спустя десятилетия гипотезу Картера применили к струнному ландшафту в попытке сузить мириады его возможностей. В этом случае главным критерием отбора становится малое, но не нулевое значение космологической постоянной, вызывающее как раз такое расширение пространства, которое способствует появлению обитаемых планет, подобных нашей. Большая космологическая постоянная мешала бы гравитации сжимать облака материи и препятствовала бы образованию галактик, звезд и планет. Без стабильных планет и сияющих звезд жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, никогда не смогла бы зародиться. Сам факт нашего существования исключает такие безжизненные Вселенные с больши´ми космологическими постоянными, а также конфигурации теории струн, которые приводят к столь неблагоприятным моделям.
Однако в 1970‐е годы, когда Картер опубликовал свою работу, большинство физиков все еще надеялись объяснить значения физических параметров расчетами, а не философскими рассуждениями. Они ожидали, что новых открытий в науке о Вселенной в конечном счете окажется достаточно, чтобы рационально объяснить все ее свойства.
Картер в своей статье признал, что лучше по возможности использовать чисто механистический подход и не вписывать человечество в космологию. Некоторые параметры – например размер и плотность водородного газового облака, достаточные, чтобы под действием гравитации оно сжалось в светящийся звездный шар, – обеспечивают появление звезд в определенном диапазоне масс. Они попадают в категорию традиционных предсказаний, основанных исключительно на физических ограничениях. Вероятно, большинство теоретиков, читавших тогда статью Картера, были полностью согласны с таким прагматичным подходом.