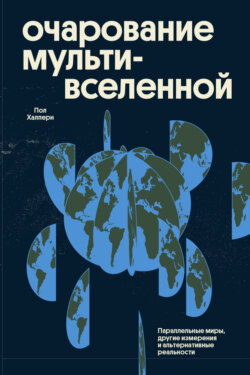Читать книгу Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности - Пол Халперн - Страница 6
Введение
Когда одной Вселенной мало
Пузырьки, пузырьки, вы тусклы али ярки?
ОглавлениеИ словно оправдывая эти ожидания в конце 1970‐х – начале 1980‐х годов Алан Гут и другие ученые предложили вариацию теории Большого взрыва, призванную объяснить космический порядок без обращения к антропному принципу. Модель Гута, названная инфляционной, предполагает, что на очень раннем этапе своей истории Вселенная пережила чрезвычайно короткий период сверхбыстрого расширения. Точно так же, как быстрое растягивание простыни выравнивает ее складки, эпоха инфляции, как считают сторонники этой теории, помогла сгладить все неоднородности в ранней Вселенной. Такой период сглаживания помогает объяснить, почему, несмотря на огромные расстояния, мы видим в разных направлениях неба примерно одно и то же. Также сглаживанием во время всплеска инфляции объясняется и то, почему Вселенная кажется пространственно плоской, а не отрицательно или положительно искривленной.
Странным образом, вскоре после того как Алан Гут и другие представили идею космической инфляции, Пол Стейнхардт, Андрей Линде и Александр Виленкин, каждый из которых независимо разработал свой вариант теории, указали: если наблюдаемая Вселенная началась с инфляции, то такой процесс, вероятно, будет запускаться и в других областях космоса, приводя к возникновению других инфляционных пузырей. Фактически первичный космос представлял бы собой кипящую пену из множества расширяющихся Вселенных. В некоторых местах инфляция могла бы продолжаться бесконечно. Это стали называть вечной инфляцией. При этом сегодня альтернативные Вселенные для нас недоступны, так как находятся далеко за пределами наблюдаемого мира.
Многие сторонники вечной инфляции вновь обратились к антропному принципу, чтобы объяснить, почему наша Вселенная именно такая, какая есть. Иронично, что теория, изначально предназначенная для динамического разглаживания наблюдаемой Вселенной (за счет непосредственно воздействующих на нее физических процессов) без использования принципа отбора, теперь, похоже, нуждается в нем, чтобы объяснить, почему мы не оказались в любой из множества других конкурирующих Вселенных с менее благоприятными свойствами.
В 2010 году исследователи Хиранья Пейрис и Мэтью Джонсон высказали предположение, что, хоть такие параллельные миры в настоящее время и недосягаемы, могли сохраниться отпечатки ранних столкновений между их формирующимися пузырями и пузырем нашей наблюдаемой Вселенной. Они предложили проанализировать реликтовое космическое излучение в поисках таких «шрамов». Их исследовательская группа нашла несколько кандидатов на основе данных, собранных спутником Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), но ни один из этих сигналов не вышел за пределы статистической погрешности. С тех пор появились новые идеи, как можно найти следы таких столкновений пузырей по данным о поляризации (направлению, в котором закручиваются фотоны) реликтового фона. Эти исследования ждут своего часа. Таким образом, проверка гипотезы вечной инфляции – одной из версий мультивселенной – все еще возможна, хоть и вовсе не гарантирована.
В отсутствие даже косвенных доказательств в пользу той или иной гипотезы мультивселенной (от ММИ до струнного ландшафта и вечной инфляции) все они продолжают вызывать резкую критику со стороны тех, кто – справедливо или нет – настаивает, что все, не имеющее перспективы экспериментальной проверки, не относится к настоящей науке. Призывы энтузиастов мультивселенной дождаться исчерпывающих объяснений природного мира, которые могут появиться в будущем, а не отвергать их с порога, не помогают скептикам справиться с беспокойством. Между теми, кто готов включить в свои теории недоступные области космоса, и теми, кто считает это полным безрассудством, возник глубокий раскол.
Чтобы глубже его прочувствовать, обратите внимание на язвительные слова писателя Джона Хоргана:
Наука страдает, когда выдающиеся мыслители пропагандируют идеи, которые не могут быть проверены, а значит, – уж простите – не относятся к науке. Более того, в то время, когда наш мир, реальный мир, сталкивается с серьезными проблемами, рассуждения о мультивселенных кажутся мне эскапизмом сродни фантазиям миллиардеров о колонизации Марса. Разве ученые не должны заниматься чем-то более продуктивным?[12]
Эти дебаты вышли на первый план в 2017 году, когда Стейнхардт совместно с физиками Анной Иджас и Абрахамом «Ави» Лёбом всколыхнули научный мир, опубликовав в журнале Scientific American резкую критику представления об эпохе инфляции. Учитывая, что Стейнхардт был одним из основоположников инфляционной теории, эта критика оказалась особенно шокирующей. Исследователи утверждали, что одна из первоначальных целей теории инфляции – объяснить, почему наша наблюдаемая Вселенная выглядит так, как она выглядит, – больше не выполняется. На самом деле, утверждали они, вывод теории инфляции о вероятном существовании других Вселенных-пузырей означает, что наша Вселенная не уникальна, и шансы, что она обладает особыми свойствами, сводятся к нулю. Авторы подчеркивали: «Поскольку каждая область может обладать любыми мыслимыми физическими свойствами, теория мультивселенной не объясняет, почему наша Вселенная обладает теми особыми характеристиками, которые мы наблюдаем. Они становятся чисто случайными особенностями нашей конкретной области»[13].
Стейнхардт более подробно изложил свои критические соображения в 2020 году в интервью:
Проблема с мультивселенной заключается в том, что она предсказывает существование областей пространства, в которых реализуются буквально все варианты развития событий, допускаемые законами физики. Цель инфляции состояла в том, чтобы объяснить, среди прочего, почему Вселенная пространственно плоская. Но в мультивселенной существует бесконечное число областей – как [отрицательно искривленных], так и [положительно искривленных][14].
Выступая с критикой вечной инфляции, Стейнхардт держал в голове другой тип космологической модели – с отскоками вместо взрыва и пузырей. В начале 2000‐х годов он вместе с несколькими другими физиками, включая Нила Турока, Джастина Хури и Бёрта Оврута, разработал альтернативу инфляционной теории, которая в разных своих воплощениях называлась экпиротической или циклической Вселенной. Эта теория устраняла необходимость в пространственной мультивселенной, предполагая, что повторяющиеся катаклизмы могут сглаживать Вселенную без вмешательства инфляции. Однако эта теория работала только при наличии как минимум еще одной параллельной Вселенной, которая отделена от нас пятым измерением и периодически сталкивается с нашей. Без мультивселенной и тут обойтись не удалось, хоть эта мультивселенная и размещается не в пространстве, а в гиперпространстве.
Более того, концепция циклов во времени во многом сродни представлениям о мультивселенной. Неограниченность череды космических эпох допускает, что все события на Земле когда-нибудь повторятся. Через триллионы лет случайно воссозданная версия вас может читать копию этой самой страницы.
Понятие бесконечного повторения не назовешь новацией: оно неоднократно возникало в истории идей. Мы увидим, как философ XIX века Фридрих Ницше был одержим мыслью, что вся его жизнь, к лучшему или худшему, будет повторяться снова и снова в цикле вечного возвращения.
В самом деле, стейнхардтовскую критику вечной инфляции за то, что она допускает все возможные исходы, вполне можно отнести и к реальности с неопределенным (а возможно, даже бесконечным) количеством циклов. Во многих отношениях циклические модели, включая вариант под названием «конформная циклическая космология», предложенный Роджером Пенроузом, подобно моделям мультивселенной, опираются на ненаблюдаемые явления, пусть и находятся они во времени, а не в пространстве.
Вскоре Линде и другие ученые опубликовали возражение на статью Стейнхардта и соавторов, подчеркнув, что гипотезу инфляции можно проверить. С их точки зрения, циклические столкновения в невидимом измерении, недоступном для прямого наблюдения, – крайне надуманная модель. Лучше уж мультивселенная в обыкновенном пространстве, которое подчиняется известным физическим законам, чем спекуляции о высших размерностях, утверждали они.
Жаркие дебаты продолжаются до сих пор. Для одних теория мультивселенной – вполне приемлемая часть науки. Для других – мишура, лишенная подлинного содержания. Если части космоса полностью отделены друг от друга, имеет ли смысл о них рассуждать? Или, может быть, их существование, пусть и предполагаемое, а не наблюдаемое непосредственно, позволит пролить свет на наш собственный уголок космоса? В знаменитой дискуссии о квантовой механике между Эйнштейном и Бором реализм столкнулся с более абстрактными подходами. В том случае история признала победителем Бора. Но мы пока не знаем, как она оценит сегодняшние дебаты вокруг гипотезы мультивселенной.
Вирджиния Тримбл, много писавшая об истории астрономии и астрофизики, серьезно относится к этой концепции. Она отмечает:
С исторической точки зрения каждый раз, когда возникал спор «один/многие» (землеподобные объекты вокруг Солнца; звезды с семействами планет; галактики; скопления галактик; эпохи звездообразования – все это не в хронологическом порядке), сторонники «многих» выходили победителями (то есть с годами их взгляды признавали более правильными). Это заставляет меня занять сторону «многих» и здесь. Королевский астроном [Мартин Рис] относится к этой гипотезе очень серьезно, а он всегда был для меня одним из авторитетов, раскрывающих «подлинное положение дел»[15].
В самом деле, наше представление о космосе и Вселенной, которая, по традиционному определению, включает в себя все существующее, сильно изменилось за прошедшие тысячелетия. Некоторые, хоть и не все, древнегреческие философы считали, что Земля занимает центральное положение, а Солнце, Луна, пять видимых планет (от Меркурия до Сатурна) и звездный купол находятся над нами, причем по современным меркам не слишком далеко. В конце концов победило гелиоцентрическое представление о Солнечной системе, отчасти благодаря изобретенному Галилеем в 1609 году астрономическому телескопу. Когда астрономы нанесли на карту огромное количество звезд Млечного Пути, многие именно его стали считать всей Вселенной. Прошло более трех столетий, прежде чем гораздо более мощный инструмент показал, что спиральные объекты, которые раньше считались газовыми облаками внутри Млечного Пути, – на самом деле самостоятельные галактики далеко за его пределами.
Наряду с попытками описать все, что доступно познанию, спекуляции о потусторонних мирах – одно из древнейших человеческих занятий. Не раз такие размышления в итоге оказывались верными – например, в случае с итальянским философом XVI века Джордано Бруно, который утверждал, что в космосе существуют мириады миров, и в том числе за это был сожжен на костре[16]. Подтверждением слов Бруно и других мыслителей служат многие тысячи экзопланет, которые за последние десятилетия были открыты астрономами, причем те считают, что это лишь вершина айсберга. Даже сейчас, когда вы читаете эти строки, космический телескоп «Уэбб» вовсю пытается отыскать еще больше экзопланет, особенно сопоставимых по размеру с Землей. Ученые продолжают надеяться, что пригодные для жизни планеты в итоге будут обнаружены.
К счастью, сегодня вера в существование мультивселенной не навлечет на нас гнев инквизиции. Тем не менее пока эта теория не поддается проверке, пусть хотя бы косвенной, она остается спорной. Многим она уже доказала свою привлекательность, но будет ли доказано, что она верна? Покажет только время.
12
Horgan J. The Seduction of the Multiverse // IAI News, issue 96, May 11, 2021. URL: https://iai.tv/articles/the-seduction-of-the-multiverse-auid-1806.
13
Ijjas А., Steinhardt P. J., Loeb А. Cosmic Inflation Theory Faces Challenges // Scientific American, February 1, 2017. URL: https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/.
14
Пол Стейнхардт в интервью Дэвиду Цирлеру: American Institute of Physics Niels Bohr Library and Archives Oral Histories, июнь 2020 года. URL: https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/46757.
15
Virginia Trimble, личное сообщение автору, 13 мая 2022 года.
16
Martinez A. Burned Alive: Giordano Bruno, Galileo and the Inquisition (London: Reaktion Books, 2018).