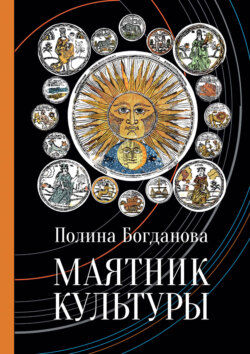Читать книгу Маятник культуры - Полина Богданова - Страница 5
Глава II. Классицизм – Просвещение
От А. П. Сумарокова до А. С. Грибоедова
ОглавлениеВ России не было чистоты драматических стилей. Дело не только в качестве драматургии, в чем тоже ощущалось отставание от Европы, где существовала давняя драматическая традиция, идущая от античной драмы, от Аристотеля. В России, кроме народных драм, драматический жанр совсем не был развит. Тут были свои объективные причины. Русь через Византию не получила античности. Сильная авторитарная власть в Московском царстве тоже не способствовала пробуждению человеческой инициативы. А для драмы нужен активный действующий герой, пусть он даже в результате погибает от роковой предопределенности, как у Эсхила. Поэтому, в то время как в России XVI века только начинала пробуждаться нация, в Англии уже был Шекспир, который впоследствии станет гением мирового значения. Заимствованная драма в России не была чистым классицистским жанром.
В своей первой трагедии «Хорев» (1747) Сумароков подражал П. Корнелю с его «Сидом». Корнель в «Сиде» в очень жесткой рациональной логике выстраивает конфликт между долгом и чувством. Родриго и Химена любят друг друга. Однако отец Родриго оскорблен отцом Химены. И у Родриго возникает конфликт между любовью к Химене и сыновним долгом, он должен отомстить за честь отца.
Родриго убивает отца Химены. Тогда и у Химены возникает конфликт между любовью к Родриго и необходимостью отстоять свою честь и отомстить убийце. Этот конфликт долго решается. Химена сама не может убить Родриго, как он ей предлагает. Тогда назначается поединок между Родриго и Доном Санчо, влюбленным в Химену и желающим отомстить за нее. Но поединок заканчивается тем, что Родриго дарит жизнь Дону Санчо. Таким образом Родриго жив, и коллизия у Химены между желанием мстить за гибель отца и любовью к Родриго счастливо разрешается.
Надо подчеркнуть еще раз, что конфликт у Корнеля выстраивается в жесткой рациональной логике. Корнель так проводит действие, что одно событие логично вытекает из другого и рождает следующую коллизию, которая должна разрешиться.
Сумароков в «Хореве» тоже создает конфликт между долгом и чувством, очень похожий на конфликт у Корнеля («Сид» написан в 1636 году, за сто лет до создания «Хорева»). Возлюбленные Хорев и Оснельда – представители враждующих держав. Хорев должен идти на войну против отца Оснельды. В нем борются два начала: с одной стороны, гражданский и патриотический долг, с другой – любовь к Оснельде. У Оснельды тот же конфликт – между долгом перед отцом и любовью к Хореву. И если Сумароков начал развивать конфликт между долгом и чувством, то он должен был его продолжить и построить действие, которое бы подчинялось развитию этого конфликта. Однако конфликт между долгом и чувством был оставлен и не завершен. В силу вступила дополнительная интрига. Оснельду убивает брат Хорева, правитель Киева Кий, во имя которого Хорев пошел на войну. Кия вводит в заблуждение его слуга, который клевещет на Хорева, – дескать, тот хочет предать Кия в войне с отцом его возлюбленной Оснельдой. В результате этой интриги оклеветанный Хорев закалывается. Таким образом, эта трагедия посвящена не столько конфликту долга и чувства, как заявляется вначале, а трагической смерти возлюбленных из-за клеветнической интриги одного из посторонних эпизодических персонажей. И это уже не совсем похоже на классицистскую драму, в ней возникает барочный мотив, который говорит о том, что мир, окружающий героев, враждебен, непредсказуем, населен злодеями и трагичен.
Введя барочный мотив и интригу, которая разрушила единство действия, Сумароков обнаружил противоречие не только с законами классицистской драмы, но и драмы вообще, так как единство действия – постоянный драматический закон, действующий на протяжении всего развития драматического жанра.
В чем причина такого слабого владения классицистским каноном в трагедии Сумарокова? Кроме отсутствия драматического опыта у автора, тут сказались и некие объективные обстоятельства. Классицистский конфликт был рожден не изнутри российской действительности, а был во многом заимствованным и потому не до конца органичным.
В России XVII века не было рационалистической философии, как во Франции, как не было и философии как таковой. Идеи господства разума в России были не слишком укоренены на российской почве. Кроме того, идеи общественного служения на благо абсолютной монархии ко времени написания «Хорева» (1748) тоже утеряли свою актуальность, Петр уже более двадцати лет как умер, а следующие монархи до Екатерины уже не обладали такой мощью и влиянием. Отсюда и слабости российского классицизма.
Сумароков подражал не только Корнелю, но и Расину. У Расина любовь должна подчиняться закону разума, это, пожалуй, главный тезис его философии. Расин показывал в своих трагедиях, как герои гибнут от пагубных страстей. Его Федра в одноименной трагедии, поддавшись неразумной страсти к своему пасынку Ипполиту, губила и себя, и его. В трагедии «Андромаха» та же модель. Тут неразумной безудержной страсти к Андромахе поддался Пирр. Андромаха не могла ответить на его страсть, так как он был убийцей ее мужа и семьи, покорителем ее народа. Преследуя Андромаху, Пирр тем самым оскорблял свою невесту Гермиону, влюбленную в него. Та, в свою очередь, желая отомстить Пирру, задумывала его убить и орудием этой мести выбирала влюбленного в нее Ореста. В результате погибал и Пирр, и Гермиона, а Орест терял рассудок.
Страстям, описанным Расином, были свойственны безудержность и игнорирование всех убеждений разума. В результате такая страсть приводила к поражению не только ее носителей, но и тех, кто падал их жертвой.
Драматургическая техника Расина была на высоте. Его трагедии – это настоящие драматические шедевры, так точно и логично они построены.
Сумарокова называли «северным Расином», потому что в трагедии «Синав и Трувор», создавая образ Синава, который своей безумной страстью к Ильмене губил и ее, и ее возлюбленного, своего брата, Трувора, Сумароков следовал расиновой «Андромахе». Трагедия «Синав и Трувор» отличается большим драматургическим совершенством, нежели «Хорев». Но и тут виден пример не чистого классицизма. Описывая страсть Синава к возлюбленной своего брата, Сумароков не создает образ узурпатора, человека одержимого, как Пирр с его неразумной страстью к Андромахе. Синав, скорее, несчастный человек, жертва своего безудержного влечения. Тут в финале звучат сентиментальные мотивы, мотивы жалости и сострадания к герою, которые усиливаются возвышенными и чувствительными сценами чистой преданной любви Трувора и Ильмены. Совсем не случайно сентименталист Карамзин восхищался этой трагедией и утверждал, что Сумароков «более старался описывать чувства, нежели представлять характеры в их эстетической и нравственной истине; не искал чрезвычайных положений и великих предметов для трагической живописи, но <…> основывал драму на самом обыкновенном и простом действии; любил так называемые прощальные сцены для того, что они извлекали слезы.»[17]
Не чистый классицизм можно обнаружить и в трагедии «Гамлет», где всех персонажей Сумароков взял у Шекспира, изменив только одно обстоятельство. В его трагедии Гамлета-старшего убивает не Клавдий, а Полоний. В сумароковской трагедии поначалу тоже существует конфликт между долгом и чувством. Гамлет стоит перед коллизией между любовью к Офелии, с одной стороны, и необходимостью отомстить ее отцу Полонию – с другой. В конце трагедии уже не только Гамлет, но и весь народ восстает против тирана Клавдия и свергает его с трона. Гамлет и Офелия соединялись в своих любовных чувствах; мотив долга и чувства, таким образом, исчерпан. Но появился новый мотив – тираноборческий. Кроме того, и знаменитая трагедия «Дмитрий Самозванец» тоже носила выраженно антитиранический характер. Это уже не свойственно классицизму, который служил твердой абсолютистской монархической власти. Монарх в классицизме не оценивался с точки зрения своих качеств. Антитиранический мотив более характерен для просвещенческой драмы. В Европе уже в эпоху Просвещения увлекались идеями «просвещенного абсолютизма». На Сумарокове сказалось влияние французских просветителей, выдвинувших идею «союза государей и философов».
17
Сочинения Карамзина. Т. 1. СПб., 1848. С. 593.