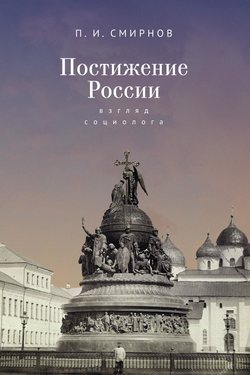Читать книгу Постижение России. Взгляд социолога - Пётр Иванович Смирнов - Страница 9
Часть I.
Познание общества: проблемы, средства, решения
Глава 1. Теоретические средства познания общества
1.4. Деятельность человека: признаки, свойства, основные разновидности
ОглавлениеВ разделе 1.1. сказано, что деятельность понимается как целесообразное инициативное поведение субъекта, направленное на преобразование и познание объекта. Оно противостоит общению, означающему взаимосвязь субъекта с субъектом. Однако, чтобы сделать это первичное определение деятельности более содержательным, нужно указать признаки и свойства человеческой деятельности, отличающей ее от деятельности животных, и выявить ее основные разновидности, наиболее пригодные при теоретическом рассмотрении общественных процессов и явлений. Иначе говоря, необходимо перейти от определения понятия к понятию. В качестве предварительного условия требуется проанализировать трактовки деятельности, имеющиеся в обществоведческой литературе.
О понятии «деятельность в обществоведческой литературе. Деятельность – удивительное и трудно постижимое явление. При попытке составить ясное и четкое представление о ней в голове невольно всплывает образ древнегреческого бога Протея, отличительным свойством которого была способность мгновенно менять свой облик и превращаться во все что угодно. Эта текучесть, изменчивость деятельности, ее «протеизм», вкупе с непосредственной данностью для любого из нас делают ее чрезвычайно трудной для теоретического описания. Утверждалось даже, что в какой-то момент человечество оказалось в ситуации, когда «оно не только не знало, что такое деятельность, но и не знало, какими средствами это можно узнать» [Щедровицкий. 1995, с.241]. Но поскольку все наши победы и беды – результат нашей собственной деятельности, необходимо научиться управлять ею. А для этого нужно составить пусть грубое, но, в главном, истинное представление о ней.
Одна из проблем познания деятельности состоит в том, что в настоящее время категории, отражающие различные проявления человеческой активности, например, такие, как «жизнедеятельность», «поведение», «деятельность», «общение» в научной литературе не соотнесены между собой. Они употребляются в обществоведении и науках о человеческом поведении либо как интуитивно ясные, либо метафорически поясняются друг через друга.
Так, встречаются утверждения, где активность поясняется через деятельность, а деятельность через активность. В первом случае утверждается, что «активность – энергичная, усиленная деятельность» [Современный словарь иностранных…. 1993, с.28]. В другом же утверждают, что «деятельность специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру», причем целостность деятельности «синтезируется в марксистском понятии практики, включающем многообразные формы человеческой активности» [Огурцов, Юдин. 1983, с.151–152]. Иначе говоря, деятельность поясняется через практику, а практика через активность.
Имеются принципиально неприемлемые попытки определить понятие «деятельность» через понятие единичного акта или действия [Соколова. 2003, с.272], опирающиеся на схему М. Вебера, включающую понятия «поведение», «действие», «социальное действие». Но в этой цепочке веберовских понятий допущена смысловая несообразность, ибо в ней стоят в логической последовательности понятия разного смыслового уровня.
Так, по Веберу, «поведение» … всегда являет собой для нас действие одного или нескольких отдельных лиц [Вебер. 2006, с. 461], а социальное действие – это «такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом … смыслу соотноситсяс действием других людей…» [Вебер. 2006, с. 453]. Но ведь значение слова «поведение» соотносится со значениями слов «деятельность», «общение», «речь», отражающими активность человека как процесс, не имеющий четко определенного завершения. Слова же «действие», «социальное действие» соотносятся со словами «поступок», «акт», «высказывание» и пр. Они означают завершенное в определенный момент времени проявление активности.
Логично предполагать, что поведение состоит из цепочки поступков, речь – из высказываний, деятельность – из действий. Поскольку отдельное высказывание или действие проще, нежели их последовательность, то в качестве отправных точек в теории логичнее использовать единовременные, завершенные проявления человеческой активности, строя из них соответствующие процессы, нежели наоборот.
Встречается странное мнение, согласно которому речь может рассматриваться в качестве деятельности [Щедровицкий. 1995, с.237, 238 и др.] или даже социальной деятельности [Штомпка. 2005, с.50–51]. Видимо, авторы подобных утверждений либо не знают, либо не принимают во внимание принципиальную позицию П.А. Сорокина о качественно различных типах взаимодействия между людьми. Метафорично утверждение, что деятельность является «системой и полиструктурой» [Щедровицкий. 1995, с.245], поскольку неясно о каких системе и полиструктуре идет речь.
Логичнее, на первый взгляд, кажется трактовка деятельности и поведения как двух способов взаимодействия человека с миром, причем смысл поведения оказывается в приспособлении человека к миру, а деятельности – в творческо-преобразовательном отношении к нему [Петушкова. 2003, с.734–735]. Но сомнительным в этой трактовке оказывается равенство обеих категорий (как видов взаимодействия) с точки зрения их объемов. Удобнее, все же, считать, поведение более широкой категорией по сравнению с деятельностью. Поведение включает в себя деятельность (преобразование и познание) и общение (ознакомление и понимание). Кроме того, как назвать строительство жилья или изготовление одежды? Поведением или деятельностью? Познание есть «творчески-преобразовательная деятельность» или «способ приспособления»? Ответов на эти вопросы в рамках данной трактовки анализируемых понятий не найти.
Разнобой в определении понятий, описывающих активность человека, связан, вероятно, с тем, что исследователи, как правило, пытаются дать определение конкретному (отдельному) виду человеческой активности, не обращая внимания на остальные и опираясь на тексты, представляющиеся им наиболее убедительными. Однако попытки определить отдельный вид активности, взятый сам по себе, неперспективны для развития теоретической мысли в науках о человеческом поведении. Предпочтительнее строить упорядоченную совокупность категорий, отражающих разные формы человеческой активности, на основе категории «существование», которые вкратце рассмотрены в разделе 1.1.
В обобщенном виде совокупность основных категорий, отражающих виды человеческой активности, представлена в Схеме 1. Заметим лишь, что выражение «типы взаимодействия», употреблявшееся ранее в изложении содержания монографии, заменено в схеме выражением «виды общения». Понятие «взаимодействие» является общенаучным, его можно использовать в естественных науках и в обществоведении. Но, учитывая особенности взаимодействия между людьми (субъектами), предпочтительнее называть типы взаимодействия между ними видами общения. Кроме того, в схеме представлены разновидности деятельности, названные основными, которые ранее не упоминались и которых речь впереди.
Специфика человеческой деятельности. Указав основные формы деятельности, свойственные субъекту вообще: преобразование и познание (см. схему), мы, тем самым, совершили некое углубление в содержание представления о деятельности. Но для дальнейшего углубления в него необходимо решить несколько задач: 1) определить особенности деятельности человека по сравнению с деятельностью других живых существ, 2) описать основные регуляторы деятельности, 3) выявить основные разновидности деятельности.
Схема 1. Совокупность основных проявлений человеческой активности
Первая задача (о специфике человеческой деятельности) определена тем, что признание деятельностного взаимодействия (общения) в качестве сущностного признака человеческого общества требует ответа на два новых теоретических вопроса.
Во-первых, можно ли построить достаточно адекватную теоретическую модель общества, используя только представление о деятельностном общении, не прибегая к дополнительным (рече-коммуникационному, правовому и пр.) видам?
Во-вторых, можно ли теоретически отличить человеческое общество от объединения общественных насекомых или других существ, если не подключать другие виды общения? Иначе говоря, можно ли отказаться от решения, неявно предложенного Аристотелем, который ввел речь в качестве признака, отличающего человеческое общество от любых объединений живых организмов?
Что касается адекватности теоретической модели общества, построенной на представлении о деятельностном общении, то ее можно оценить лишь в результате проверки следствий, вытекающих из нее. Но можно обосновать осмысленность подобной попытки, сославшись на аналогию относительно способов теоретического познания, в котором для построения теоретических моделей выбирают один из типов взаимодействия между естественными объектами, изучаемый отдельно (раздел 1.1). Эта аналогия уже использовалась при построении совокупности абстрактных человеческих объединений, возникающих на основе различных видов общения.
Что же касается вопроса о признаках теоретического отличия человеческого общества от объединений других живых организмов, то можно пойти разными путями.
Проще всего пойти вслед за Аристотелем, который видя, что человеческое общество напоминает улей, ввел представление о речевом взаимодействии в качестве отличительного признака первого от второго. Подобное решение кажется самым простым и логичным на первый взгляд. Однако оно явно приводит к усложнению теоретической модели, что противоречит исходному принципу простоты ее построения.
Можно также указать в качестве отличительного признака, что упомянутые объединения составлены из разных биологических организмов. Несколько иронично подобный признак использован в выражении «человейники» по отношению к объединениям людей [Зиновьев. 2006, с.199 и др.] Но теоретически это не слишком удачный выход. Ибо можно представить (как делают фантасты) сложноорганизованное общество с высоким уровнем развития, состоящее из гигантских муравьев или каких-то других существ. У этого общества могут оказаться те же самые проблемы, что и у нашего.
Однако существует возможность отличить человеческое общество от любого другого объединения насекомых или животных, не привлекая представление о дополнительном виде общения и не ссылаясь на морфологические особенности живых существ. Это можно сделать, если найдутся принципиальные отличия человеческой деятельности от деятельности общественных животных. Если эта деятельность, на обмене результатами которой существует общество, принципиально отличается от деятельности любых живых существ, то и наше общество принципиально отличается от любых объединений животных. Поэтому нужно найти признаки, которыми деятельность человека принципиально отличается от деятельности животных. Каковы же эти признаки?
Первым таким признаком можно считать наличие в голове человека представления о возможном результате деятельности. На него указывал К. Маркс, отличая человеческий труд от деятельности животных и предварительно отказавшись от рассмотрения «первых животнообразных инстинктивных форм труда». Он предполагал «труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально» [Маркс К. Т.23, с.189]. Намного раньше эту же мысль в менее развитой форме высказал А. Блаженный, упоминая о способности человека «наперед обнимать мыслию то, что предполагает он произвесть» [Августин. 1969, с.585].
Строго говоря, Маркс (как и мы) не знает точно, есть ли в голове пчелы некий образ будущего результата деятельности или нет. Но ясно, что, если он даже есть, пчела неспособна изменить его. Пчелиная ячейка из воска всегда будет похожа на шестигранник. А вот идеальная модель будущего результата деятельности в человеческой голове всегда свободно сотворена самим человеком. Каждый архитектор способен построить собственный образ будущего дома. Поэтому уже на этапе формирования идеальной модели в человеческой деятельности появляется один из ее существеннейших признаков – свобода.
Идеальная модель будущего результата является, может быть, главным отличительным признаком собственно человеческой деятельности. Но у последней есть и другие отличительные признаки, имеющие конкретный («социологический», а не философский) характер, которые выявляются при рассмотрении регуляторов деятельности.
Предположив, что любая деятельность как-то регулируется, можно выделить, как минимум, три вида ее регуляторов: стимулы, оформители и ограничители. Очевидно, для осуществления деятельности должны иметься некие ее стимулы. Кроме того, деятельность, при всей своей изменчивости, всегда упорядочена, оформлена, т.е. существуют какие-то оформители ее. Наконец, она всегда чем-то ограничена, подобно воде или газу в сосуде, т.е. существуют какие-то ограничители ее (см. Табл. 3).
В первом столбце таблицы указаны виды регуляторов, которые можно условно разделить на два класса: природные и социальные. Назовем природными регуляторами те, что свойственны и человеку, и животным, а социальными те, что свойственны только человеку.
Во втором столбце таблицы названы два класса ограничителей.
Природными ограничителями деятельности являются свойства внешнего мира (природы), осваиваемые с помощью органов тела.
Таблица 3
Природные и социальные регуляторы деятельности
Природное существо способно познавать и преобразовывать внешний мир лишь в той мере, в какой возможности его тела сопряжены с условиями внешнего мира. Тигр способен существовать лишь в условиях тайги или джунглей, для «кита всегда нужна вода» и т.д. Жизнедеятельность любых живых существ немыслима без наличия особых для каждого вида природных условий. Деятельности человека как природного существа также свойственны подобные ограничители.
Социальные ограничители – свойства внешнего мира, осваиваемые с помощью технических средств. Благодаря им человек способен познавать и осваивать характеристики природной среды, которые недоступны ему как живому существу. Он далеко отодвинул пределы своей деятельности, предметом которой стала едва ли не вся вселенная (по крайней мере, как предмет познания). Но люди не могут осуществлять свою деятельность, если природные явления слишком мощны по сравнению с возможностями технических средств или исчезло природное условие, за счет которого она была ранее возможна. Едва ли мы будем способны управлять процессами на солнце. Изменение же или разрушение каких-то природных условий влечет прекращение определенной разновидности деятельности, что может влиять на изменение структуры общества и даже на изменение человеческих свойств и качеств.
Так, во время палеолита, когда по территории Евразии бродили стада мамонтов и шерстистых носорогов, основным видом деятельности людей в зоне тундровой степи была коллективная облавная охота. Зверей загоняли в ловушки – ямы, топкие места, естественные овраги, а потом добивали. Подобная охота требовала от людей немалого мужества и слаженных действий. Позже, во время мезолита, после таяния ледника, гигантские животные исчезли. Людям пришлось заняться охотой на оленей, лосей, птиц, а также ловлей рыбы. Коллективная облавная охота уступила место индивидуальной охоте и ловле с помощью лука и сетей. Исчезновение гигантских животных вынудило людей изменить форму деятельности и потребовало от них новых психических свойств и качеств. Ведь «если палеолит был для человека школой мужества и организованности, то мезолит стал школой находчивости и личной инициативы» [Рыбаков. 1997, с.167].
Расширяя границы человеческой деятельности, технические устройства придают ей новые, по сравнению с деятельностью животных, свойства, резко повышая насыщенность ее энергией, информацией и веществом. Человек способен использовать намного больше энергии, нежели поглощаемой с пищей, и количество этой энергии несоизмеримо с энергией животных. Объем информации, которой пользуется человек, несопоставим с тем, который он может приобрести из индивидуального опыта (доступного животному). В простейших вещах (авторучка или кнопка выключателя), зашифровано знание всех естественных наук, а использование и перемещение человеком объемов вещества по нашей планете давно стало геологическим процессом.
Деятельность упорядочивается не только извне, а также и изнутри в соответствии с некими образцами, цепочки которых формируют определенные ее технологии. Эти образцы названы в таблице (третий столбец) оформителями деятельности.
Природные оформители – инстинкты и рефлексы, а социальные – нормы. Без них, задающих определенные алгоритмы конкретных действий, целесообразная деятельность невозможна.
Стимулы деятельности, благодаря которым она осуществляется и развивается, это потребности и ценности (четвертый столбец таблицы).
Важнейшая характеристика потребностей в том, что они заданы объективно, т.е. самой структурой деятеля. Это касается даже высших, духовных потребностей человека, ибо, если их не удовлетворять, он в каком-то отношении будет постепенно деградировать. Поэтому деятельность в соответствии с потребностями несвободна, а ее смысл задан не свободной волей деятеля, а самим процессом его существования.
Напротив, ценности названы социальными стимулами, ибо свойственны именно человеку и кардинально отличаются от потребностей по признакам свободы и смысла деятельности: человек свободен в выборе ценностей и, выбрав которые, он сам задает себе смысл собственной деятельности.
Наличие идеальной модели будущего результата деятельности и ценностей как стимулов деятельности оказываются предпосылками формирования еще одного качественного признака, отличающего деятельность человека от деятельности животных – устойчивой целеустремленности. Это свойство деятельность человека приобретает при условии наличия еще одной предпосылки, связанной с природой человека – человеческой воли. Воплотить идеальную модель в результат или достичь какой-либо ценности можно лишь при способности человека свободно принимать решения и достаточно долго удерживать их. Целеустремленность поведения животных определена силой потребности. Но человек способен подавлять потребности, связанные с существованием, и даже жертвовать своим существованием во имя свободно выбранной ценности.
Итак, в число признаков и свойств, отличающих деятельность человека от деятельности животных, входят:
1) идеальная модель будущего результата деятельности,
2) наличие дополнительного (социального) класса регуляторов – ограничителей, оформителей и стимулов,
3) неизмеримо большая мощь (насыщенность энергией, информацией и веществом), обусловленная наличием технических средств,
4) свобода (человек свободен в построении идеальной модели будущего результата деятельности и в выборе ценностей),
5) субъективно заданный смысл, определяемый наличием ценностей как стимулов деятельности,
6) устойчивая целеустремленность.
Можно указать другие признаки, отличающие человеческую деятельность от деятельности живых организмов (отложенность во времени, когда результат деятельности проявляется после некоторого временного промежутка, трансформация видов энергии из одного вида в другой и т.д., но далее они не рассматриваются).
Принципиальное отличие деятельности человека от деятельности животных определяет отличие человеческого общества от любого объединения животных, что позволяет строить теоретические модели общества, опираясь исключительно на деятельностное общение (взаимодействие).
Рассмотрение регуляторов деятельности привело к трем базовым понятиям социологии: потребности, нормы и ценности. Их анализ будет сделан позже, после решения проблемы основных разновидностей деятельности, на основе которых существует общество.
Основные разновидности деятельности: их важнейшие признаки и свойства. Деятельность имеет множество признаков, позволяющих построить разнообразные типологии ее разновидностей. Различают деятельности творческую и рутинную, индивидуальную и массовую, производящую и присваивающую и пр., а также экономическую, политическую, религиозную, научную, художественную и т.д. Важно определить, какие из разновидностей лежат в основе существования общества, точнее, нужно определить, какие из них удобнее всего использовать для построения теоретических моделей общества и других социальных явлений и процессов.
Уточнить поставленную задачу позволяет краткий анализ учения Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах, в основу которых положены важнейшие, с его точки зрения, разновидности деятельности.
Для описания названных типов Н.Я. Данилевский использовал в качестве основных четыре разновидности деятельности: религиозную, культурную, политическую и общественноэкономическую. В зависимости от преобладания той или иной разновидности или их комбинации возможны одноосновные, двухосновные, трехосновные и четырехосновные культурноисторические типы. Одноосновными типами являются Древняя Иудея (религиозная деятельность), Древняя Греция (культурная деятельность) и Древний Рим (политическая деятельность). Современную ему Европу Данилевский считает двухосновным культурно-историческим типом (культурная и политическая деятельности) и выражает надежду, что славянский тип будет первым полным четырехосновным культурно-историческим типом [Данилевский. 1995, с.400–430].
В методологическом отношении положение о том, что преобладающая разновидность деятельности определяет тип общества, следует считать крайне перспективным в теоретических исследованиях общества. Если деятельностное взаимодействие есть основа общества, то свойства преобладающей деятельности определят важнейшие свойства общества.
Однако набор конкретных разновидностей деятельности, предложенный Данилевским не совсем удачен для построения теоретических моделей общества, поскольку конкретные разновидности, выбираемые в качестве исходных элементов теории, должны, по возможности, удовлетворять трем условиям.
Во-первых, эти разновидности должны быть как можно проще, элементарнее, в теоретическом отношении. Во-вторых, они должны быть наиболее важными для существования общества в целом. В-третьих, эти разновидности должны быть самым тесным образом связаны с существованием человека, фактически быть проявлениями его жизнедеятельности, выполняя важнейшие функции в его существовании.
Что касается простоты, то почти очевидно, что разновидности деятельности, предложенные Данилевским (религиозная, культурная и т.д.), слишком сложны и неоднородны, чтобы их было можно класть в основу построения теоретических моделей общества. Зачастую трудно отличить религиозную деятельность от культурной, экономическую деятельность от политической и т.д. Религиозные войны – это проявления религиозной деятельности или политической? Говорят также, что политика есть концентрированное выражение экономики, война есть продолжение политики другими средствами и пр.
Сложно также соотнести с упомянутыми разновидностями конкретную профессиональную деятельность. Является ли древнерусская иконопись религиозной, культурной или экономической деятельностью? Очевидно, что в ней есть черты и первой, и второй, и даже третьей.
Наконец, существуют правила, регулирующие одновременно религиозную, экономическую и политическую деятельность людей. Их содержание не позволяет понять, идет ли речь об экономической, политической или религиозной деятельности, поскольку эти правила установлены пророками от имени высшей силы и включены в священные тексы. Деятельность людей в соответствии с ними ведет к крайне важным в социальном отношении следствиям.
В свое время М. Вебер заметил, что богатство распределено крайне неравномерно между представителями разных религий. По его сведениям, в Бадене в 1895 году «на 1000 евангелических христиан приходилось подлежащего обложению капитала в 954 060 марок капитала, на 1000 католиков 589 000 марок. Евреи с их 4 000 000 марок обложения на тысячу человек идут далеко впереди» [Вебер М. 1928, с.43]. Нетрудно подсчитать, что каждый иудей был примерно в четыре раза богаче протестанта и в шесть-семь раз богаче католика.
Вебер, занимаясь исследованием этических основ католицизма и протестантизма, показал, что капитализм как социальное явление имеет духовные корни в протестантской этике. Накопление богатства иудеями также можно объяснить религиозной этикой иудаизма. В «Ветхом завете» сказано: «Не отдавай в рост брату твоему (т.е. иудею – П.С.) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» [Второзаконие. 23.19–20].
Казалось бы, отдавать что-то в рост является экономическим правилом. Но является ли деятельность в соответствии с ним сугубо экономической? Думается, нет, ибо в ней одновременно преследуются и политические цели (овладеть землею, в которую ты идешь), что предписано «священным писанием», а значит, эта деятельность имеет религиозную струю.
В целом, разновидности деятельности, которые предложил Данилевский, излишне сложны, чтобы их можно было класть в основу теоретических моделей общества. Нужны более простые разновидности. Например, деятельность творческая (получение принципиально нового результата, продукта) и деятельность рутинная (тиражирование по имеющемуся образцу продукта и пр.), деятельность присваивающая (присвоение готовых продуктов природы или произведенных другими людьми) и деятельность производящая (изготовление продуктов) и т.д.
Но признаки, которыми отличаются эти относительно простые разновидности деятельности, не связаны непосредственно с жизнедеятельностью человека. Так, деятельности творческая и рутинная отличаются по признаку произведенного продукта («новый» и «скопированный»). В деятельности производящей и деятельности присваивающей отражена специфика отношений, возникающих между человеком и природой или между людьми. В одном случае человек сам что-то изготавливает, в другом присваивает что-то готовое. В таких разновидностях сам деятель и его жизнедеятельность «не видны», они лишь «подразумеваются».
Абстрактно простые разновидности деятельности, связанные с существованием человека, выявляются при рассмотрении простейшей ситуации, когда в наличии имеются: 1) деятель, 2) нечто «другое» (человек, общество, природа, Бог и т.д.) и 3) сам процесс деятельности. С учетом того, что деятельность всегда совершается для (ради) кого-то или для (ради) чего-то, простой перебор вариантов позволяет выявить три разновидности деятельности, выполняющие в жизнедеятельности деятеля важнейшие функции.
Во-первых, деятельность может совершаться деятелем для себя (назовем ее «эгодеятельность»), с ее помощью деятель обеспечивает свое существование, присваивая из окружающего мира все необходимое.
Во-вторых, деятель может совершать деятельность в пользу «другого». Это служебная деятельность, способная придать смысл существованию деятеля. Перед большинством людей встает вопрос, даже если они его не сознают: «Если я один и для себя, то зачем я»? В служебной деятельности деятель расходует накопленный запас жизненных сил.
В-третьих, он может совершать деятельности ради самой деятельности. Эту разновидность удобно назвать «игра». Она привносит в существование субъекта радость, веселье [Бороноев и др. 1996 с.86–87]. Игра возможна в минуты самодостаточности субъекта, когда он, освободившись от потребления мира или служения ему, свободно расходует свои жизненные силы в особом, сотворенном для себя, мире. В игре деятель отчасти подобен Богу, свободно играющему в собственном мире (в индийской мифологии существует образ вечно юного Вишну, играющего мирами).
Очевидно, что выявленные разновидности деятельности самым тесным образом связаны с жизнедеятельностью субъекта, деятеля, выполняя важнейшие функции: обеспечивая существование, придавая смысл существованию и привнося в существование веселье, радость, что делает полноценной жизнедеятельность деятеля. В случае же невыполнения одной из функций его жизнедеятельность оказывается явно ущербной.
Общество существует на сочетании эго- и служебной деятельности. Они объективно необходимы для его существования, причем преобладание одной из разновидностей определяет тип общества. Игра же субъективно необходима для деятеля и призвана, помимо придания ему радости существования, израсходовать излишек его энергии.
Ясно, что названные разновидности являются абстракциями, они выступают в качестве неких «струй» в общем потоке любой конкретной деятельности. Тем не менее, какая-то из этих «струй» может занимать господствующее положение, благодаря чему данная конкретная деятельность оказывается эмпирическим выражением соответствующей абстракции.
Рассматриваемые разновидности обладают важными и во многом противоположными признаками и свойствами (Табл. 4).
В первом столбце таблице даны краткие описания отдельных признаков и свойств разновидностей деятельности, а в последующих столбцах наличие или выраженность этих признаков и свойств.
Таблица 4
Признаки и свойства основных разновидностей деятельности
В первой содержательной строке таблицы названы функции разновидностей деятельности в жизнедеятельности деятеля. О них ранее сказано достаточно. Отдельное замечание касается лишь игры, на которую часто налагают дополнительные функции, связанные с биологическими (выход избыточной энергии, компенсация агрессивных побуждений) и с социальными потребностями (обучение, воспитание, социализация). Но важнее то, что «игра … поддерживается сознанием радостного отдыха за рамками требований «обыденной жизни» [Хейзинга, 1992, с. 229], а «подлинная игра …содержит цель в самой себе» [Хейзинга, 1992, с. 238].
Во второй содержательной строке таблицы дано соотношение разновидностей деятельности и инстинкта самосохранения. Очевидно, что эгодеятельность находится с ним в согласии, ибо этот инстинкт также направлен на обеспечение существование. Понятно также, что служебная деятельность часто находится с ним в противоречии. Служение имеет своей целью существование некоего «другого» и требует от деятеля самоумаления, вплоть до самопожертвования. Что касается игры, то ее отношение к инстинкту самосохранения является неопределенным, ибо игра иногда принимает форму состязания, проигрыш в котором влечет смерть [Хейзинга, 1992, с. 87–92 и др.].
В следующей строке рассматривается рациональность той или иной разновидности с точки зрения деятеля. При этом возникает любопытный парадокс: эгодеятельность, лишь обеспечивающая существование деятеля, оказывается для него всегда субъективно рациональной, а служебная деятельность, придающая существованию смысл, часто субъективно иррациональна для конкретного исполнителя.
Парадокс объясним, если учесть, что рациональность или иррациональность деятельности для деятеля зависит от степени его самостоятельности в принятии решений.
В эгодеятельности деятель сам принимает решение, поэтому цель и дальнейшие действия для него рациональны, хотя со стороны они могут казаться полной глупостью (поведение персонажа в романе Фаулза «Коллекционер», который пытается завоевать любовь девушки, заточив ее в подземелье, но забыв, что «любовь свободна»).
Напротив, в служебной деятельности рядовой исполнитель, не сам принимавший решение о тех или иных действиях, часто склонен рассматривать их как бессмысленную трату сил из-за «дурацких указаний начальства». Поэтому в армейской среде вырабатываются правила поведения, направленные на уклонение от «лишних» усилий («солдат спит – служба идет», «не спеши выполнять приказ, поскольку вскоре может последовать другой приказ, отменяющий предыдущий» и т.д.).
В игре вопрос о ее рациональности не стоит, поскольку цель игры в самой игре. Ее возможная дополнительная цель (приз) служит средством повысить напряженность игры, ее воодушевленность, азарт, но не задает смысл игры.
Последующие строки, в которых речь идет о наличии внешнего контроля, норм, системы наград и наказаний и торжественной клятвы, обусловлены предыдущими признаками – отношением к инстинкту самосохранения и субъективной рациональностью деятельности. Особенно сильно эта обусловленность проявляется в эгодеятельности и служебной деятельности.
Ясно, когда деятель действует в собственных интересах и сам себе ставит цели, его не нужно контролировать извне и жестко предписывать ему правила достижения собственных целей. Нужны лишь общие рамки, не позволяющие деятелю причинять ущерб другим. Кроме того, в эгодеятельности не нужны награды и наказания, поскольку таковыми в ней являются достижение или недостижение результата. Деятелю также не нужно клясться перед другими, что он постарается достичь поставленной для себя цели.
Что касается служебной деятельности, то, поскольку она часто противоречит инстинкту самосохранения, а деятелю представляется иррациональной, необходимы дополнительные меры, побуждающие его выполнять свои обязанности надлежащим образом.
Во-первых, нужны четкие правила, соблюдение которых должно привести к цели служебной деятельности, а их наличие позволит оценить качество ее выполнения.
Во-вторых, нужен внешний контроль, чтобы правила служебной деятельности строго соблюдались, иначе чрезмерно распространятся нормы, нарушающие ее надлежащее исполнение (например, коррупция).
В-третьих, наличие системы наград и наказаний «учитывает» инстинкт самосохранения и субъективную иррациональность служебной деятельности (страх наказания «приглушает» инстинкт, а награда придает ей субъективную рациональность).
Наконец, торжественная клятва отчасти гарантирует, что деятель, получивший дополнительны полномочия, связанные с обязанностями служебной деятельности, будет использовать их лишь для блага того, кому деятель обязан служить. Поэтому исполнение служебной деятельности часто начинается с клятвы, в которой деятель клянется выполнять свой долг честно и добросовестно, невзирая на возможные неудобства или опасности для себя лично. Нарушение присяги пагубно сказывается на процессе деятельности, а если деятель занимает высокое положение, то и на обществе в целом. В частности, катастрофическое развитие событий в недавней российской истории в немалой степени вызвано клятвопреступлениями Горбачева и Ельцина. Первый нарушил присягу, не защитив Конституцию СССР, быть гарантом которой он клялся. Второй – совершил государственный переворот, грубейшим образом нарушив Конституцию РСФСР и расстреляв законно избранный Верховный Совет.
Что касается игры, то поскольку нет четкого и определенного ее соотношения с инстинктом самосохранения и признаком рациональности, нет и жесткой необходимости во внешнем контроле, торжественной клятве, системе наград и наказаний, хотя иногда они возможны и востребованы. Однако абсолютно необходимы строгие и точные правила игры, поскольку их нарушение разрушает игру, превращая ее в разновидность мошенничества. В случае выявления мошенничества деятель наказывается игровым сообществом.
Наличие норм сближает служебную деятельность и игру, что позволяет зачастую превращать первую во вторую, главным условием чего оказывается забвение цели, а, значит, и смысла служебной деятельности. Таков был путь превращения языческих культовых ритуалов в современные народные праздники, связанные с ритуалами, переодеваниями и пр., а также в некоторые детские игры [Рыбаков. 1997, с.710]. В настоящее время таким же путем служебная деятельность иногда переходит в «бюрократические игры»: реальный смысл ее выхолащивается, а чиновник превращается в аппарат написания и передачи никому не нужных справок, отчетов, и пр.
Следующие далее признаки – скорость развития и стоимость результата – связаны с наличием (отсутствием) строгих норм и органов контроля в обеих разновидностях деятельности.
Эгодеятельность способна быстро развиваться, поскольку деятель свободно выбирает методы и средства достижения цели. Достигнутый же на ее основе результат относительно дешев, ибо в стоимость его входят только затраты самого деятеля.
Служебная деятельность консервативна и развивается крайне медленно, поскольку она выполняется на основе образцов (правил) деятельности, закрепленных в документе (инструкции) или в обычае. Изменить эти образцы крайне сложно. Ведь сначала кто-то должен понять, что образцы устарели и не соответствуют изменившейся реальности. Затем кто-то должен взять на себя инициативу по отмене устаревших и разработке новых образцов (правил), а инициатива, как известно, наказуема. Наконец, нужно научить работать по новым образцам всю основную массу исполнителей, что также требует времени.
Кроме того, служебная деятельность для своего точного и чистого исполнения требует наличия контрольных органов, что приводит к дополнительным расходам и обусловливает «дороговизну» результата служебной деятельности.
К игре понятие «развитие» практически неприменимо. Правила игры устанавливаются свободно либо самим игроком, либо игровым сообществом, но в течение игры соблюдаются жестко. Они могут быть изменены в дальнейшем, но тогда меняется и сама игра (хотя она может носить прежнее название). Игра в чистом виде не предполагает также стоимостной оценки. Она – проявление избыточной энергии участников. Так называемые «профессиональные игры» играми уже не являются. Для участников они могут являться эгодеятельностью или служебной деятельностью, а результат – приз или награда – платой за демонстрацию своих физических или умственных способностей и мастерства.
Признание названных разновидностей деятельности основными и элементарными вновь приводит к проблеме о соотношении абстрактно выделенных разновидностей деятельности с конкретными разновидностями, возникшей при рассмотрении концепции Н.Я. Данилевского. Как определить, является ли данная профессиональная деятельность эгодеятельностью, служебной деятельностью или игрой?
Ответ на этот вопрос зависит от соотношения точек зрения на нее самого деятеля и общества.
Во-первых, деятель сам способен счесть данную деятельность эгодеятельностью, службой или игрой, определив для себя ее смысл, если ничто ему не мешает. Деятельность такова, каковой ее считает деятель. Том Сойер сумел превратить побелку забора из служебной (по отношению к нему) деятельности в игру для других, а, в конечном счете, в эгодеятельность для себя.
Во-вторых, общество традиционно рассматривает в качестве служебной деятельности такие профессиональные разновидности, как воинская, административная, политическая и др., что подтверждается наличием системы наград и наказаний, торжественной клятвы, инструкций.
Формально точка зрения общества сильнее точки зрения деятеля. В реальности же ситуация может быть обратной. Деятель нередко способен превратить конкретную служебную деятельность в эгодеятельность (коррупция и пр.), избежав контроля и используя служебные полномочия в личных целях. У общества остается механизм санкций для приведения служебной деятельности в «нормальное» состояние, но он срабатывает не всегда.
В-третьих, возможен благоприятный случай, когда точки зрения деятеля и общества на отдельные разновидности совпадают. Так, обе стороны склонны считать эгодеятельностью хозяйственную деятельность или торговлю, которые обеспечивают существование деятеля и общества в целом. В служебной деятельности подобное совпадение возможно в случае «призвания», когда деятель полностью отдается служебному долгу. Нередко совпадают точки зрения общества и деятеля относительно игры.
Особый случай представляет соотношение точек зрения на конкретную деятельность у сравнительно равных по правовой силе участников. Например, работа по найму может рассматриваться нанятым работником как работа на себя (способ обеспечить себя и семью средствами существования), тогда как наниматель склонен считать ее служебной деятельностью. В этом случае, «доли» этих разновидностей в конкретной деятельности определяются договором, а в случае спора между сторонами эти «доли» определяет суд, выясняя взаимные обязательства сторон.
Итак, в дальнейшем основными разновидностями деятельности, пригодными для построения теоретических моделей общественных процессов, будут считаться эгодеятельность, служебная деятельность и игра, поскольку они относительно просты и непосредственно связаны с существованием деятеля, обеспечивая это существование, придавая ему смысл и привнося в него радость. Эгодеятельность и служебная деятельность являются объективно необходимыми разновидностями: на их сочетании существует любое общество, а игра – субъективно необходимой.
Среди других свойств, которыми различаются объективно необходимые разновидности, особенно важна способность к развитию, от которой во многом зависит скорость развития общества.
Конкретную разновидность деятельности можно соотнести с абстрактно выделенной в зависимости от 1)точки зрения общества, 2) точки зрения деятеля, 3) соглашения между участниками взаимодействия.