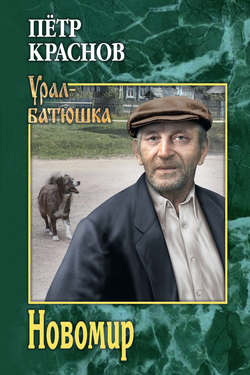Читать книгу Новомир - Пётр Краснов - Страница 12
Звезда моя, вечерница
6
ОглавлениеЕще она думала, представить пыталась, как он поведет себя в первую не минуту даже – миг этот, почему-то очень важным это казалось, и как ей себя с ним держать, слишком уж скорым все между ними было и вместе с тем расплывчатым, неустановившимся – при дневном-то свете… Непозволительно скорым, если с кем другим, она так не хочет и не умеет, хоть как-то привыкнуть должна.
Но для него, на полчаса припоздавшего с лишним, никаким вопросом это, похоже, не было, не выказал того ничем. Сумку, в целлофановом пакете цветы – пионы?! – все в сторону, потом; стояли в прихожке крохотной ее, в проходе, верней, и ей-богу же соскучился он, в чем другом, но в этом-то не могла она ошибиться. Не обманывалась же, волосы гладя мягко-русые, лицо подставляя губам его, бережным, – после того, первого мгновения, продлившегося, когда заглянул в глаза своими, будто от блеска собственного сощуренными, и губ долго не отнимал от ее виска, вдыхая, просто обнял и стоял так. И сказал то, о чем она только что подумала, но чего еще никак не ждала от него – недоуменное чуть, шепотом:
– Ей-богу, заскучал…
От него пахло малость водкой, и он знал о том, помнил; цветы подавая, еще раз в глаза глянул, а усмехнулся не ей, себе:
– За амбре извини, чуть не ночь просидели, считай… ну, повелось у нас так, не часто видимся. Не сказать чтобы часто. Разговору набралось.
– Вы хоть завтракали там, орелики?
– Да покормила… – И засмеялся, вернее, сказал, посмеиваясь: – Да уж, орлы, далеко залетали!.. Ну а ты-то как тут?
И, не дожидаясь ответа, в волосы ее сунулся лицом, отыскивая все, что находил вчера, к шее.
Открыли створку окна, шторы задвинули и обедали в прохладе, в гуляющем по комнате сквозняке. Иван работал, оказывается, в старой областной газете, бывшей партийной, и фамилию его – Базанов – она слышала уже не раз, что-то даже читала. Карьеру некоторым попортил он тут… неужто тот самый? Самый тот. Учились вместе, в общаге четыре года голова к голове спали, на койках соседних. Жалеет уже, что агрономию кинул, – так ему и надо, не лезь в эту грязь… журналистскую, какую еще! О семейных его делах Алексей не стал говорить, не хотел: ну что скажешь… ну, плохо. По-доброму, к ним бы в гости. Но это до лучших, даст бог, времен; а может, на реку – а, Люб? На дальний пляж, там хоть бережки посвежей, не так накопычено…
Предложенье неожиданным было и чем-то ее смутило, заколебалась про себя – вот так, вдвоем? И ответила не сразу, подумала опять: как-то скоро все у них, будто даже поспешно – и не от нее ль это, не она ли торопится? Опасно скоро, да, и она не привыкла так… и что хорошего, если бы и привыкла, как лабораторные девки ее? Но и ничего особенного в том не было тоже, чтобы на пляж, сама сто лет не купалась – целых сто, с весны если считать, да и в городе сейчас некуда податься, не в киношную же духоту; а дома оставаться…
Она с сомнением, с неготовностью пожала плечами… ну, можно. Ей не хотелось отказывать ему сейчас в этом еще и потому, что, может быть, придется отказать позже – если бы он захотел остаться. Вот чего она боялась и боится, с самого утра. Ведь и понимала вроде эту свою опаску, а как-то не то чтоб забыла… Нельзя оставлять, ни за что, иначе что сам-то он о тебе подумает? Нельзя, пожалуйста, попросила она себя. Все будет, если тому быть, но не теперь, не сразу.
Да и что, в самом деле, смутило ее в этом – на реку сходить всего-то, искупаться? Или уж старой девы комплексы проклюнулись уже? Ну, есть в ней, она и сама знает, это не то что старомодное, а… Есть, и кто догадывается из подруг – усмехаются, а то попрекают, и пусть, мало ли дур, всем не угодишь; но ведь не до ханжества, нет же. И ей это его предложенье кажется уже нормальным вполне, хотя, будь вечер, лучше бы в театр сходить или на ту же Баянову – но нет-нет, не надо на вечер…
А на реке она была весною, со Славой, вернее – целой компанией, больше пили, дурачились, чем купались, вода еще обжигала ледяной свежестью своей, будто снеговой еще. Не для нее и тем более не для Славы была вода, так что загорать ей пришлось в родительском огуречнике, за прополкой да поливкой… и ничего, успела, она и всегда-то любила загорелой быть.
Но ощущенье неловкости, да и, может, ненужности всего, что произошло между ними какой-то час-полтора назад, вернулось к ней, заставило потупиться уже перед другим, перед Алексеем, будто он мог что-то об этом знать или догадываться. Что-то не то, не так она сделала… и не от ее ли боязни этой перед выбором, перед жизнью досталось мальчику? Она подумала об этом впрямую – да, вопросом, ответ на который и без того был ясен. Мальчик и виноват-то, может, меньше всех. Он по-своему, но любит. А это другое, она не знает, как это можно выразить, но совсем другое дело, это другие совсем права у человека и на человека, она же ведь помнит себя в первой, горькой от избытка сладости, несмышленой еще влюбленности – он где теперь, юный тогда еще их учитель географии, Андрей Сергеевич? И готова почти признать, что любящий – не виноват, хотя бы уж потому, что как бы не по своей воле любит, а по вышней, и за себя не всегда может отвечать, не в силах той воле перечить – да, именно так, и Славик бедный мог и не на такое пойти, лучше всех зная эту зыбкость отношений меж ними, чтоб удержать…
– Эй, на том берегу… вы где?
Он, оказывается, смотрел на нее – не то что настороженно, но как-то внимательно… неужто почувствовал что? А ты еще не убедилась разве? Какие они… Почти торопливо встала, к нему, коленями в колени, за руку взяла: около тебя. С тобой. Так на реку? Ты так хочешь?
– Спрашиваешь!.. Нажарился я на этих посевных-сенокосных… вяленый уже. Балык.
Даже в низкой зеленой пойме под крутоярами коренного берега не ощущалось почти реки. Зной, пылью висевший над городом, разве что чище здесь был, но плотнее, безветрием отяжеленный, без всякой тени; и лишь на самом подходе сильней потянуло наконец травой с сыроватых ложбин, лозняком, открытой водой. Такая жара, а река в мелких бегучих бликах серая на вид, колючая и неприветливая, это от поблекшего, высоту потерявшего неба. Но вода-то теплая – она, босоножками в руке болтая, забрела в ее отрадную ласкающую плоть, песок отмытый продавливался меж пальцев, игрушечный галечный перекатик шептал рядом, в ступню глубиной, и обморочно кликала над ними чайка.
Подбережье пологое, какое дальним пляжем называли, было пустынным. Вдалеке, на пляже городском, что-то разноцветное лениво роилось, еле пересиливая полуденное оцепененье, а здесь лишь спекшийся иловатый песок, полянки зелени кое-где, пойменный на той стороне реки лес; и за дальним лозняком компания какая-то сидела, отсюда неразличимая, и женщина стояла там, расставив ноги и к солнцу лицо подняв, прикрытое панамой. Им не пришлось долго искать, сразу выбрали место, просто выбрели на него – под тальничком тоже, на травяном его подножье.
Она, может, слишком долго расстилала старенькое тканевое одеяльце, пристраивала сумку в жидкой тени… она, странное дело, раздеваться перед ним стеснялась, хотя в компаниях-то делала это едва ли не с охотой, чувствуя на себе собачьи глаза парней, что-то в них собачье сразу появлялось, и неудовольствие подруг; то же и с Мельниченко когда-то, чуть не додразнилась… Ждала, и оглянулась лишь тогда, когда шлепанье ног услышала по воде: прямой, узкобедрый, в синих то ли плавках, то ли трусах трикотажных, он шел без остановки туда, где угадывалась глубина, и резко выделялся загар шеи и рук его… рабочий загар, на песочке валяться некогда, на людях не растелешишься даже и в поле, хотя спина уж прихвачена тоже солнцем… И тесемка тоненькая на шее – крестик?
И быстренько стянула через голову платье, на тальник накинула и пошла, но не за ним, а вбок куда-то, выше по реке… Господи, да что с нею? Засиделась, старая, думать стала много, вот что. Уже он плыл, от течения косо отмахиваясь, с головою и раз, и другой, с наслажденьем негромко отфыркиваясь; и ее приняла вода, чуть не холодной показалась в первые ознобные мгновенья, – охватила и понесла к нему. Она поплыла, огребаясь лишь и стараясь в лицо не плеснуть себе, и прямо на него вынесло, стоявшего по грудь, ждавшего уже.
Он поймал ее, в воде скользко-холодную, такою ощущала она себя, тяжелую, и теченьем ей ноги на него занесло, так что пришлось обхватить ими его, под напором шатнувшегося; но устоял, прижал к себе крепче, бережней и заглянул в лицо, прямо в глаза своими смеющимися, в дрожи брызг на ресницах, и стесненье, и боязнь эта дурацкая оставили ее. Обняла, всего его, как ни отвлекала вода, чувствуя – он, вот весь он, его напряженное, мышцами в сопротивлении потоку подрагивающее тело, оскальзываются друг по другу они, как большие холодные рыбы, качает их, то прижимая ее к нему, то вздымая плавно и разводя; и еле удержаться могла, дождаться, когда он первым коснется близкими губами, скользящими по мокрой щеке, к губам ее, шее…
Они так и вышли, обнявшись, и легли, лицом друг к другу. Она стирала ладошкой со скул его оставшиеся капли, отводя мокрые потемневшие русые прядки со лба, с висков; и он тоже провел осторожными пальцами в одном уголке ее глаза, в другом, вытирая.
– Что?
– Краска, – сказал он. И усмехнулся, добавил: – Грим ваш…
Она быстро встала, побежала к воде и, зачерпывая полные пригоршни ее, теплой и пресноватой на губах, умылась и крепко вытерла лицо и подглазья ладонями. И, возвращаясь, увидела, как он смотрит на нее… с удивлением ли, мальчишеской растерянностью? Невозможно было понять – как, да она понимать и не хотела, главное – он ждал ее, дернувшись навстречу было, приподнявшись на локте и почти недоверчиво глядя или с жадностью, пойми их… Нет, она-то знала, волей ли, неволей, а отметила, что это ведь в первый раз со стороны ее он увидел без платья, увидел почти всю; и уж не стесненье никакое в ней, нет – радость за него и за себя, девчоночья, за них, и если было б что на ней прозрачное, вроде газа, то прихватила бы пальцами прозрачное это и крутнулась перед ним, язык показала…
И упала рядом с ним, на него почти, и лицо к нему повернула, прикрыв глаза, подставила:
– Вот!..
И только она знает, как легки и неуследимы губы его, прикасающиеся к ее лицу то тут, то там… целуют ли, капельки собирают ли оставшиеся, и усы не жесткие, нет, щекочущие чуть, а руки… Ох, руки, она в них вся, они вездесущи и все в ней знают, почти все, и она вздрагивает от них и прижимается, бежит от них к нему же, бояться опять начинает их. Она зарывается от них в него, прячет даже лицо, губами в ямку его у шеи вжимается вся, – но так беззащитна, оголена спина ее, ноги, и каждое этих рук то касанье, то крепкое, дыханье перехватывающее объятье так пронизывают невыносимо, как дрожью тока, что уж только на спину – перекатиться бы, прикрыть ее, спину, его не отпуская… нельзя, что ты, нельзя! И напряглась, стона не сдержав, оторвалась, руки перехватывая эти, и губы его чуть не вслепую нашла, впилась…
В тот же миг чайка панически закричала над ними. Она вспомнила, что – берег, опомнилась вконец, приподнялась и, глазами блуждая, обернулась туда, к лозняку; но нет, слава богу, женщины той уже не было там, не видно никого. Он лежал навзничь, с закрытыми глазами, синий эмалевый крестик на плече, и что-то вроде улыбки бродило по его лицу. Она взяла в обе ладони его руку, безвольно тяжелую теперь, тряхнула ее сердито, как щенка нашкодившего, – и не удержалась, прижала к своей пылающей щеке.