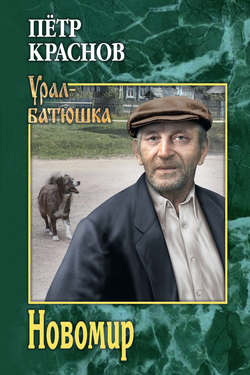Читать книгу Новомир - Пётр Краснов - Страница 6
Новомир
VI
ОглавлениеЗа похоронами дело не стало, за молвой, за сужденьями всякими тоже, и неявный вопрос гущинской – почему Ерёма? – во всех этих тарах-барах даже не ставился, опять же, смысла не имел. Кто-нибудь да нашёлся бы, знали, да хоть тот же парень, Гущину незнакомый; от пожара до пожара живём, не привыкать.
А вот жалеть жалели, хотя и не без прохладцы: ладно, мол, каким там ни стал Николай Лукьяныч, как ни покоробило, а по жизни-то своё сделал – и ради кого вот, спросить, погубимшись? Чего доброго вышло? Феде, существу неисправному, родительский грех покрывающему, отмучиться не дал, в рай помешал отойти, в отворенный? А что уготован ему рай, в том у баб сомнений не было. К жизни этой негодный, он и так долго не протянет, это-то известно; и по сей день не понимает, небось, что с ним и с другими там случилось, а то и забыл уже, милосерден Господь к убогим своим.
И с отморозка этого, с Киряя, – ну что вот с него, опять спрашивали, какой толк? Очухался мигом, и едва спасителя его похоронили, как пойман был вместе с рыскавшим на грузовичке по округе закупщиком скота. За наводчиков и грузчиков, оказалось, работала у него ещё с весны киряевская шарашка: телят в деревне стадом не пасли, не было обычая и на кол привязывать где-нибудь на лужке, бродили себе где придётся по огородам, полям окрестным, по речке – лови с оглядкой да грузи… А то и в лесопосадке где-нибудь свежевали, и лишь по вороньей стае находили хозяева шкуру с требухой да голову от своего тели. Через день отпустили из районной кутузки как малолетка – а не надо бы, в открытую, в глаза незадавшемуся отцу досадовали люди, всю нам ребятню перепортил, дескать; и папаша виновато лез пятернёй к затылку и вздыхал, соглашаясь. А один из местных разумников и вовсе не церемонился: «Раз уж заделал, то доделывать надо, деток-то… Доделывать». Но как раз это-то мало кто из нынешних русских умел, давно уж и вполне был убеждён Гущин, и приятель Максим со свойственным ему азартом новообращенца подхватывал: «У родителей-дураков и дети дураки, всё логично. Систему воспитанья нашего национального точней всего, знаешь, квалифицировать мудреным таким иноземным термином, – и губы вытягивал, произнося, – samotök… мастера, надо сказать, они на термины. И продолженье романа тургеньевского, будь он неладен, на век вперед нам обеспечено… Пролонгация авося нашего с небосем, да, недомыслия позорного, постыдного – кому детей своих отдали?! Нежити останкинской, голубым этим стрекозлам рока, шестиугольным звёздам голливудским, кромешным? Шерамыжникам оккультным?! Кому угодно, только не себе растим… – И грозился: – От детей своих, то ли мамлюков, то ль манкуртов, и примем кару!..» А когда не были они ею, карой? Ох нечасто.
И что он из огня спасать полез, Ерёма, и кого – безумного да дурного? Сам скособоченный – Киряя, которому навряд ли уж теперь Кириллом стать, разве что на судебном каком процессе назовут? Тщетою было, тщетой и кончилось?
Или, как о том бабы толковали на поминах, – какая там ни душа, а живая? Живая, в этом-то не откажешь.
Но больше всего разговору, догадок-гаданий всяких крутилось вокруг того, последнего… «Сомлел! – решительней всех был Гуньков. – З-зенки повылезут, такой жар!..» На это качали головами, говорили: «Не знай, не знай…» – будто даже боялись знать, женщины в особенности, иная суеверно крестилась… что-то неладное чуяли, да, но выговорить вслух не решались, переводили на другое, на то хоть, каким он в последние перед тем дни был, едва ль не у каждой нашлось что сказать – ну, задним умом-то мы все богаты. «Смурной какой-то ходил… а и с чего бы?» – спрашивала одна, сама пенсию получавшая, ждавшая как манны, и всё понимающе кивали и наивность её не оспаривали. «Один вон всю картошку пропахал…» – малость невпопад, на поминальный подавая стол, добавила слёзно бабка Ная, как бы и забывшая уже все горести свои с покойным и свары, более всего другого, кажется, дорожившая теперь последними словами его… Интуитивно верно дорожившая, не сразу оценил Гущин: вот в них-то, последних, и вся правда, вся подневольность жестокосердому ходу времён и вещей, судьбиной у нас именуемая, а всё остальное лишь детская наша тоска по чистому, и куда только ни заводит она, тоска…
«Ну, он всё умел, когда захочет-то, научила жизня. В ремонт станешь – к нему: подмогни. Трактора все как свои знал, на слух угадывал: ага, скажет, никак Григориваныч едет. А это, мол, Николашин завёлся… – отделывались общим мужики, игрушечные в их корявых пальцах стаканчики приподымая невысоко. – Ну, грешным делом, это… помянем». Каким-то огрехом сплошным оборачивалась жизнь сама, всякое дело её, действо, и смутно было у всех на душе, недоговорённое и недодуманное вязало язык, мысли, связывало все потуги человеческие хоть что-то понять в происходящем, найти опорное в зыбящейся вокруг среде, какую и действительностью-то не назовёшь, настолько неверно, обманно в ней всё, посулится одним – а обернётся иным совсем, наизнанку издевательски вывернутым, неким оборотнем, блефом бытия самого… И с человеком, которого только что вот закопали, тоже грех какой-то случился, многих других его потяжелее уже потому хотя бы, что последним был и нераскаянным, об этом бабка Феди преподобного с жалостью обмолвилась потом у калитки и тут же, спохватившись, закрестила испуганно рот, сами эти слова свои… догадлива бабка, да ведь и догадки на грех наводят. К завету «не клянись» нам бы, может, прибавить и другой – не гадай, не пытай судьбы и жалкого разуменья своего…
И что там увидеть, усмотреть мог в лице его, в глазах каждый из тех, кто толпою зачарованно-беспомощной торчали на дворе и задах перед горящей чадно манохинской избою, – когда оступился ли он, отступил ли в нахлынувший, откуда-то снизу, из-под земли будто огнисто-рыжим подсвечённый дым? Разве что сомненья свои на сей счёт узрел каждый – и только, и не иначе, больше-то навряд ли разглядишь в другой душе, во владеньях муки чужой и непониманья рокового, за что же казнят её, душу, и казнится она сама… Да и заподозрив даже неладное и к себе примерив, кто поверит? Ну, повеситься, на худой конец, утопиться ли, но – в огонь?! Нет, страшны где-то в глубине своей и страстны тайны жизни, и душно в мире, совсем уж сперто стало, как перед Божией грозой, и напрасно спрашивать, чем разразится она, разрешится в неразумии извечном людском, самоновейшим безумьем уже ставшим. Только ждать осталось, надеяться – на нечто спасительное, некогда обетованное, но, по грехам нашим, уже и невозможное почти…
Не поняли, не разглядели они, не дастся это и резонёрству твоему пораженческому, сознался наконец он себе. В самом деле, скажут, что толку безумцев спасать, какой резон? Бедствующие страстно, они и беды-то своей не понимают, чаще всего не разумеют, и страсть спасению предпочтут, и за грех мимолётный вечность отдадут, душу, не стать привыкать, не надобно и змия.
Но кого и спасать, если не их? Не нас – от себя самих?
Рыжок совсем растерялся, нервничал, даже и лаял на входящих во двор с подвизгиваньем каким-то, скулежом, так что в сарайчик его пришлось запереть, а накануне похорон повыл маленько. Но не для Юрка, псины трезвой, эти сантименты были; и хотя не мог совсем уж не поддаться общедворовой подавленности и скорбной той суете, но рассудил, по всему судя, что кому-то и поминки должны за праздник сойти, пусть и невеликий. Банки из-под рыбных для поминального супчика консервов, за крыльцо выброшенные, оприходовал, вылизал, всяких остатков со стола хватало, единственному поросёнку собираемых, он и к этому ведру в сенях сумел за толкотнёй и хлопотами людскими пристроиться, – нет, нечасто такие праздники Юрку выпадали. Даже и хозяйка как-то вот заметить его смогла, людей проводив, блинец вынесла, кинула на крыльцо: «На, што ль, и ты помяни…» – и хоть уже не лезло, а съел, не обижать же.
Но и невесело стало теперь – при том, что никакого особого веселья от хозяина и не было никогда, не дождёшься, разве что по пьяни когда понапрасну дразнить попытается, хотя знал вроде, что с Юрком эти штучки не проходят; а чаще доводилось до соседской какой лавочки сопроводить его, на травке обочь посидеть, умный разговор послушать, вот и всё развлеченье. И вот какая-то потерянность в нём обнаружилась: вознамерится куда идти, вроде б и направится уже с решительным и сугубо деловым видом – и вдруг станет, оглядывается, словно припомнить что силясь… и повернёт, к хозяйской пустой лавке подоконной побредёт, волоча по пыльным лопухам сосули свои и лепёхи. Бывает, и на гущинское подворье с тёткой Наей заглянет, и помойку навестит, само собой, но нехотя как-то, больше по обязанности некой, привычке – не то чтобы к шамовке, едалову всякому, но будто к суете выживанья самого изрядно поубавился интерес. Как осиротел, таскается по задворкам бесцельно навроде Феди; иной раз на дорогу безлюдную выбредет и остановится, понурив голову, и стоит так долгое, томительное в совершенном бездействии время – совсем как человек, не знающий, куда ему идти… А если и взбодрит когда себя, остервенится, то лишь накоротке, на какую-нибудь особо докучливую блоху у себя в шкуре. Да и то сказать, успел состареть за эти беспутные, через пень-колоду, и не для него одного прокормом единым озабоченные до самозабвенья, прокормом обкраденные и донельзя испохабленные годы.
А хозяин его… Тишину ли избывает, покой вовек неизбывный, или долгожданной, наконец, истинной жизнью своей живёт, дышит грудью полной – кто скажет здесь? Как и того не скажет, почему промедлил он, если в самом деле промедленьем было это. В том не людям он покается. Ну, оплошал, не поторопился в жизнь опять эту, мало ль оплошек бывает у здешнего человека. Как ни суди, а в этом-то куда легче покаяться…