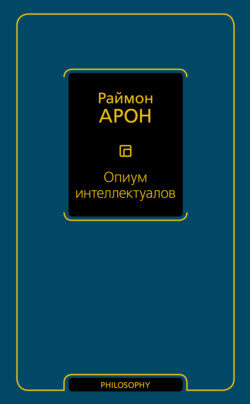Читать книгу Опиум интеллектуалов - Раймон Арон - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I. Политические мифы
Глава 3. Миф о пролетариате
ОглавлениеМарксистская эсхатология, учение о конце света, отводит пролетариату роль всеобщего спасителя. Выражения, используемые молодым Марксом, не оставляют сомнения в иудео-христианском происхождении мифа о классе, избранном за его страдания для искупления грехов человечества. В миссии пролетариата, конце предыстории благодаря революции, царстве свободы без труда, узнается тысячелетняя идея: Мессия, разрыв традиций, Царство Божье.
Марксизм не пострадал от таких сравнений. Возрождение в какой-то научной форме вековых верований, обольстившее умы людей, оторванных от веры. Миф может показаться прообразом истины, а также современной идеей воплощения мечты.
Восхищение пролетариатом в таком качестве не является универсальным явлением. Скорее всего, в этом можно увидеть знак французского провинциализма. Там, где царствует «новая вера», скорее партия, чем пролетариат, создает объект культа. Там, где есть лейборизм, рабочие заводов, ставшие мелкими собственниками, больше не интересуют интеллектуалов, которые больше не интересуются их идеологией. Улучшение положения рабочих разрушает образ их несчастий и избавляет от попытки насилия.
Говорит ли это о том, что умствования по поводу пролетариата и его призвание отныне ограничиваются только странами Запада, которые колеблются в выборе между притягательностью советского режима и приверженностью к демократическим свободам. Хитроумные споры вокруг пролетариата и партии, которым предоставляют колонки изданий Temps modernes и Esprits, напоминают те диспуты, которые вели в начале ХХ века борцы и теоретики в России и Германии. В России они теперь идут по пути, указанному властью, в Германии они обескровлены из-за отсутствия бойцов. Но между странами, обращенными в коммунизм, и западными странами, где развитие производства преобразовало «проклятьем заклейменных» в разумных членов профсоюза, платящих членские взносы, существует еще больше половины человечества, желающих обрести уровень жизни западных стран, но обращающих взор на верящих в коммунизм.
Определение пролетариата
Идут горячие споры по поводу точного определения понятия, может быть, самого распространенного в политическом языке этого класса. Но мы не будем вступать в дискуссию, которая в каком-то смысле не содержит вывода. Ничто не доказывает, что существует заранее очерченная реальность и единственный названный класс. Дискуссия еще менее нужна потому, что все знают, кого в современном обществе называть пролетариями: наемных работников, использующих ручной труд на заводах. Почему часто затруднительно дать определение рабочему классу? Никакое определение четко не очерчивает границы этой категории. С какой ступени рабочей иерархии рабочий начинает считаться относящимся к пролетариату? Является ли работник ручного труда в сфере обслуживания пролетарием, хотя он получает свою зарплату у государства, а не у частного предпринимателя? А наемные работники в торговле, которые работают руками с предметами, изготовленными другими? И нам неважны догматические ответы на такие вопросы: не совпадают различные критерии. В зависимости от того, как рассматривать природу ремесла, способ и результат вознаграждения, образ жизни, можно включать или не включать тех или иных работников в категорию пролетариата. Механик в гараже, наемный работник, работающий руками, находится не в том положении и не имеет тех перспектив в обществе, что занятый на монтажном конвейере заводов «Рено». Не существует сути пролетариата, которой обладали бы некоторые наемные работники, есть категория, центр которой определен, но границы размыты.
Эта трудность разграничения не вызвала бы столько яростных споров. Доктрина марксизма приписывала пролетариату единственную миссию – преобразовать историю, говорили одни, преобразовать человечество, говорили другие. Но как миллионы рабочих заводов, рассеянные на тысячах предприятий, могут стать предметом такого предназначения? И откуда второе исследование, не о разграничении, но о единстве пролетариата?
Не стоит труда утверждать, что между работниками ручного труда в промышленности существуют общие черты, и материальные и психологические: рост доходов, распределение трат, образ жизни, отношение к профессии или к работодателю, ощущение ценностей и т. д. Эта общность, объективно вполне уловимая, является лишь частичной. Французские пролетарии с некоторых сторон отличаются от пролетариев английских и похожи на своих соотечественников. У пролетариев, живущих в деревнях или в маленьких городках, может быть больше общего со своими соседями, чем с рабочими больших городов. Другими словами, однородность пролетарской категории, по всей очевидности, несовершенна, и еще она, вероятно, более ярко выражена, чем однородность у других слоев общества.
Эти простые замечания объясняют, почему между пролетариатом, который изучает социологию, и пролетариатом, имеющим миссию преобразовать историю, неизбежно имеется различие. И чтобы заметить это различие, модный сегодня метод заключается в обращении к марксистской формулировке: «Пролетариат станет или не станет революционным». «Именно отказываясь от своего отчуждения, пролетариат становится пролетариатом» (Фрэнсис Шансон)[27] «Единство пролетариата – это его отношения с другими классами общества, короче, это его борьба» (Ж.-П. Сартр)[28]. Начиная с того момента, когда он определяется своим главным стремлением, пролетариат приобретает субъективное единство. Неважно количество физических пролетариев, участвующих в этом стремлении: борющееся меньшинство легитимно воплощает весь пролетариат в целом.
Значение, которое Тойнби[29] извлекает из слова, вызывает новую двусмысленность. Промышленный рабочий – это только пример, один среди тех людей, многочисленных в эпоху распада, которые чувствуют себя чужими в существующей культуре, бунтуют против установленного порядка и восприимчивы к призывам пророков. В античном мире рабы и изгнанники слушали голоса апостолов. Среди рабочих промышленных предместий марксистская проповедь собрала миллионы приверженцев: безработные тоже пролетарии, такие же как полуварварские народы, живущие на периферии цивилизации.
Мы оставим в стороне последнее определение, согласно которому самое сосредоточенное национальное меньшинство больше заслужило бы звание пролетариата, чем промышленные рабочие. И наоборот, определение Жан-Поля Сартра приводит нас к основной теме. Но почему пролетариат имеет уникальную миссию в истории?
Выбор пролетариата отражен в текстах молодого Маркса знаменитыми формулировками: «Класс, скованный радикальными цепями, класс буржуазного общества, который не является классом буржуазного общества, — это такая сфера, которая имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий…» Дегуманизация пролетариев, выключенных из всех других сообществ, делает из них людей, и только людей, в универсальном смысле этого слова.
Это та самая идея, которую в различных формах используют философы-экзистенциалисты, и особенно Мерло-Понти: «Если марксизм отдает пролетариату привилегию, это происходит потому, что, согласно внутренней логике его положения, вследствие образа его менее решительного существования, помимо всех мессианских иллюзий, пролетарии, которые «совсем не боги», но только они в состоянии изменить человечество… Пролетариат, призванный рассматривать свою роль в существующем историческом созвездии, идет к признанию человека человеком[30]…», «Положение пролетариата таково, что он отстраняется от индивидуальных черт не идеей и отвлеченными понятиями, но в действительности и течением самой своей жизни. Только он есть универсальность, разносторонность идеи, только он реализует свое самосознание, которое философы в своих размышлениях лишь слегка обрисовали»[31].
Презрение, которое с удовольствием испытывают интеллектуалы к профессиям в сфере торговли и промышленности, всегда казалось мне недостойным. А те, кто смотрит с высоты положения инженеров или руководителей производства и может узнать в рабочем у станка или у ленты конвейера универсального человека, покажутся мне симпатичными, но странными. Ни разделение труда, ни повышение уровня жизни ничего не вносят в эту универсализацию.
Понятно, что пролетарии, рассматриваемые Марксом, то есть те, которые работают по двенадцать часов в день, которых не защищают ни профсоюзы, ни социальные законы, которые подчиняются неумолимо твердым зарплатам, не выделяются по отличительным признакам в своем несчастье. Но это не рабочий Детройта, Ковентри, Стокгольма, Биянкура или Рура, который напоминает не универсального человека, а гражданина своей страны, члена партии. Философ имеет право желать, чтобы пролетарий не вписался в существующий порядок, приберегая себя для революционных действий. Но не стоит в середине ХХ века ставить вопрос об универсальности работника промышленности. В каком смысле французский пролетариат, разделенный между соперничающими организациями, может быть назван «единственной подлинной интерсубъективностью»[32]?
Следующий этап рассуждения стремится подтвердить эсхатологию марксизма, но является не более убедительным. Почему пролетариат должен стать революционным? Если ограничиться неопределенным смыслом последнего слова, можно сожалеть, что рабочие Манчестера 1850 года и Калькутты настоящего времени реагируют на ситуацию каким-то подобием бунта. Они осознают, что являются жертвой несправедливой организации. Все пролетарии не ощущают, что являются эксплуатируемыми или подавляемыми. Крайняя нужда или унаследованная от предков покорность судьбе подавляет это ощущение, а повышение уровня жизни и гуманизация отношений его смягчают. Оно, вероятно, никогда полностью не исчезнет даже при навязчивой пропаганде коммунистического государства, пока оно связано с положением наемного рабочего в структуре современных промышленных предприятий. Нельзя делать вывод о том, что пролетариат как таковой является стихийно революционным. Ленин с прозорливостью констатировал безразличие рабочих к своему предназначению, отношению к реформам hic et nunc (здесь и сейчас). Теория партии, авангарда пролетариата, наверняка возникла из осознанной необходимости увлечь массы, которые стремятся к лучшей участи, но не хотят Апокалипсиса.
В марксизме молодого Маркса революционное предназначение пролетариата проистекает из требований диалектики. Пролетариат – это раб, который победит своего хозяина, но не ради себя самого, а ради всех. Он – свидетель жестокости, которую еще совершит человечество. Маркс провел всю оставшуюся жизнь в поисках подтверждения посредством экономического и социального анализа истинности этой диалектики. Ортодоксальный коммунизм тоже, хоть и не без труда, настаивает на революционном предназначении пролетариата. Оно выражается глобальной интерпретацией, которую он считает неоспоримой. Упор на самом деле переносится на ценность партии. Однако ни существование, ни революционная воля партии не подлежат сомнению. Вначале они выражали свою приверженность партии потому, что она воплощала собой класс, продвигаемый на роль коллективного спасителя. В самой партии тем более задаются вопросом о классе, так как товарищи приходят из всех классов.
Кроме того, французские философы, которые желают считать себя революционерами, отказываются вступать в коммунистическую партию и тем не менее утверждают, что нельзя «воевать с рабочим классом и не стать врагом всех людей и самого себя»[33]. Промышленный рабочий середины ХХ века больше не является человеком, доведенным до неприглядного состояния, нет ликвидации всех классов и всех особенностей. Но тогда как эти мыслители оправдывают миссию, которую они ему доверяют?
Людям, хорошо владеющим языком, темы представляются примерно такими. Промышленный рабочий не может осознать своего положения, не бунтуя; бунт – это единственная человеческая реакция на признание нечеловеческих условий. Работник не отделяет свою участь от судьбы других; он видит со всей очевидностью, что его несчастье – коллективное, а не индивидуальное, связанное со структурами всей системы, а не с намерениями капиталистов. Также и пролетарский бунт стремится к организации, к тому, чтобы стать революционным под управлением партии. Пролетариат формируется в класс только по мере того, как он обретает единство, а оно может произойти только в результате его оппозиции по отношению ко всем остальным классам. Пролетариат – это его борьба против общества.
Жан-Поль Сартр в своих последних произведениях исходил из истинно марксистской идеи, что пролетариат объединяется только в противостоянии с другими классами, и делает вывод о необходимости организации, то есть партии. Он неявно, незаметно путает пролетарскую партию с коммунистической партией и, таким образом, поворачивает в пользу последнего аргумента, который доказывает только необходимость партии для того, чтобы защитить интересы рабочих. Впрочем, неизвестно, этот аргумент подходит для французского пролетариата 1955 года, для пролетариата два века назад или для всех пролетариатов всех капиталистических режимов?
Вернемся к обычным рассуждениям. Если мы условились называть пролетариями рабочих промышленных предприятий, то каковы факторы их положения, против которых они восстают? А кто такие те, кого революция собирается низвергать? И в чем конкретно состоит приход «депролетаризированного» рабочего класса? И от чего победившие рабочие были отчуждены вчера и отличаются ли они от сегодняшних рабочих?
Освобождение идеальное и реальное
Пролетарий, говорит Маркс, и ему эхом вторят писатели, «отчужден». Он не имеет ничего, кроме силы своего труда, который он сдает внаем на рынке собственнику средств производства. Он обязан выполнять мелкие задачи и получает за свой труд зарплату, которой едва хватает для того, чтобы содержать себя и свою семью. Согласно этой теории, именно частная собственность на средства производства является высшим началом, подавлением и эксплуатацией. Лишенный прибавочной стоимости, присваиваемой только капиталистами, рабочий, таким образом, не в состоянии заявить о своем человеколюбии.
Эти марксистские темы остаются на заднем плане размышлений. И их трудно воспроизвести такими, какие они есть. Суть доказательства в «Капитале» – это понятие, по которому заработная плата, как любой товар, будет иметь стоимость, определяемую нуждами рабочего и его семьи, а значит, повышение зарплат на Западе опровергает его без возражений. Или же, если оно интерпретировалось в более широком смысле, постоянная нужда рабочих зависит от коллективной психологии, а в этом случае само понятие нас больше ничему не учит. В середине ХХ века на свою зарплату рабочий в Соединенных Штатах мог купить себе стиральную машину или телевизор.
Во Франции почти не изучали «Капитал», и писатели редко цитируют его. Это забвение экономических теорем Маркса, ослабляющее анализ рабочего отчуждения, значит меньше, чем констатация очевидного факта: несколько претензий рабочих не имеют ничего общего с интересом к частной собственности. Они существуют точно такими же, когда средства производства принадлежат государству.
Перечислим основные претензии: 1) недостаточность вознаграждения; 2) чрезмерная длительность работы; 3) полная или частичная угроза безработицы; 4) озабоченность, связанная с техникой труда или заводской административной организацией; 5) опасения навсегда оставаться простыми рабочими и не иметь перспективы профессионального роста; 6) сознание стать жертвой фундаментальной несправедливости либо потому, что режим отказывает работнику в справедливой части национального продукта, либо потому, что он отказывает ему участвовать в управлении экономикой.
Марксистская пропаганда стремится распространить сознание фундаментальной несправедливости и подтвердить это теорией эксплуатации. Эта пропаганда не имеет успеха ни в одной стране. Там, где неотложные требования в большей степени удовлетворяются, привлечение к ответственности режима становится бесплодным радикализмом.
Марксистская интерпретация пролетарских несчастий не может показаться пролетариям правдоподобной. Жестокость наемного труда, бедность, техническая отсталость, жизнь без будущего, угроза безработицы: почему не выставить за все это счет капитализму, потому что это неопределенное слово означает одновременно и производственные отношения, и способ распределения? Даже в тех странах, где реформаторство продвинулось намного дальше, в Соединенных Штатах, например, где в основном распространены частные предприятия, существуют предрассудки, враждебные по отношению к прибыли, подозрения, всегда готовые вылиться в бунт, что капитализм или акционерные общества эксплуатируют своих рабочих. Марксистская интерпретация связывает будущее с обществом, к которому невольно обращаются взоры трудящиеся.
На самом деле, известно, что уровень зарплат на Западе зависит от производительности труда и распределения прибыли между инвестициями, военными затратами и потреблением, распределением прибыли между классами. Распределение прибыли в режимах советского типа является не более уравнительным, чем в капиталистических или смешанных режимах. Наиболее значительной инвестиционная часть является в странах по другую сторону железного занавеса. Там экономическое развитие направлено в основном на рост мощи страны в большей степени, чем на повышение уровня жизни. И нет доказательств того, что коллективная собственность более благоприятна для роста производительности труда, чем частная собственность.
Уменьшение продолжительности рабочего времени оказывается сравнимым с капиталистическим. Угроза безработицы, наоборот, остается одним из зол всякого режима не столько частной собственности, сколько рынка. По крайней мере она не устраняется коренным образом при колебаниях конъюнктуры и не связана с перманентной инфляцией, любая свободная экономика наемного труда несет в себе риск безработицы, по крайней мере временной. И не надо отрицать этой невыгодной стороны, надо, насколько возможно, сокращать ее.
В том, что касается трудностей промышленных работ, психологи технического производства проанализировали его многочисленные причины и особенности. Они разработали методы, способные уменьшить усталость или однообразие труда, сократить жалобы, интегрировать рабочих в подразделения завода или целиком в производство. Любой режим, либо капиталистический, либо социалистический, может применять или не применять эти методы. Слабое развитие частной собственности в этом отношении ставит под вопрос режим и призывает многих рабочих и интеллектуалов требовать применения обучения, связанного с науками о человеке, с целью социальной безопасности.
А зависят ли шансы продвижения по службе от режима? Ответ не слишком приятный: сравнительные исследования мобильности недостаточно совершенны для категорических суждений. В основном подъем по карьерной лестнице тем выше, чем больше процент профессий, не связанных с ручным трудом. Экономический прогресс сам по себе является фактором мобильности. Сглаживание сословных предубеждений в странах буржуазной демократии должно было бы ускорить обновление элит. В Советском Союзе ликвидация бывшей аристократии, скорость строительства промышленных предприятий сильно повышает шансы такого продвижения.
Наконец, протест против режима как такового логически называется революцией. Если капитализм, определяемый по частной собственности на средства производства и рыночным механизмам, есть источник всяческих зол, то реформы становятся предосудительными, достойными осуждения, поскольку они рискуют продлить существование ненавистной системы.
Исходя из этих суммарных и обычных замечаний, различаются две формы освобождения рабочих, или конца отчуждения. Первая, никогда не завершаемая, состоит из многих, в том числе частичных мер: вознаграждение рабочих повышается одновременно с увеличением производительности труда, социальные законы защищают семьи и стариков, профсоюзы свободно спорят с работодателями об условиях труда, расширение системы обучения повышает шансы продвижения по карьерной лестнице. Назовем такое освобождение реальным: оно выражается в конкретных улучшениях положения пролетариата, при нем остаются недостатки (безработица, трудности внутри предприятия) и иногда, при более или менее сильном меньшинстве, бунт против основ режима.
Революция советского типа предоставляет абсолютную власть меньшинству и превращает многих рабочих или сыновей рабочих в инженеров или комиссаров. А сам пролетариат, то есть миллионы людей, занятые ручным трудом, освобожден ли он?
Уровень жизни не вырос внезапно и в странах народной демократии Восточной Европы; скорее, он понизился, новые правящие классы, вероятно, еще не успели направить в свою пользу национальный продукт в такой степени, как старые. Там, где существовали свободные профсоюзы, теперь есть органы, подчиняющиеся государству, функция которых состоит в том, чтобы вдохновлять на трудовые усилия, но не на требования. Риск безработицы исчез так же, как и свободный выбор профессии или места работы, выборы руководителей профсоюзов и управляющих. Пролетариат больше не отчужден потому, что в соответствии с идеологией он обладает средствами производства, в том числе и государственными. Но он не свободен ни от рисков ссылки, ни от трудовых книжек, ни от власти управленцев.
Можно ли сказать, что такое освобождение, которое мы называем идеальным, является иллюзорным? Мы не станем полемизировать на эту тему. Пролетариат, говорим мы, склонен объяснять структуру всего общества в соответствии с марксистской философией: он считает себя жертвой хозяина даже тогда, когда в значительной степени является жертвой несовершенств условий производства. Но такое суждение может быть ошибочным, хотя может быть и справедливым. При свержении капиталистов, замененных государственными управленцами, при внедрении плановой экономики все становится понятным. Несправедливость в вознаграждении объясняется большим неравенством в должностях, снижением потребления при увеличении капиталовложений. Пролетарии, по крайней мере большинство из них, легче принимают управляющего фирмой Zeiss, назначенного государством, чем хозяина Packard’а. Они не протестуют против лишений, потому что видят их необходимость для светлого будущего. Те, кто верит в бесклассовое общество на историческом горизонте, чувствуют себя связанными с великим делом, которое будет создано ценой их жертв.
Мы называем идеальным освобождение, которое марксисты называют реальным, потому что так его определяет идеология: частная собственность будет причиной всякого отчуждения наемного работника вместо того, чтобы стать индивидуализированной с помощью служб работодателя. Она станет всеобщей при советском режиме, при ее коллективном участии, свободной, потому что будет подчиняться необходимости, которую воплощают планы индустриализации, соответствующие требованиям истории, управляемой суровыми законами.
Кто обвиняет капитализм как таковой, предпочитает плановую экономику с политической жестокостью, противопоставляя ее рыночным механизмам с их непредвиденными чередованиями кризисов. Советизация уже вошла в историю. Она хочет, чтобы ее судили меньше за то, что она есть, чем за то, чем она будет. Медлительность подъема уровня жизни во время первых пятилетних планов объясняется не доктриной, но необходимостью увеличения военно-экономической мощи Советского Союза, который все время находится под угрозой. Идеальное освобождение вне фазы социалистического строительства будет все больше напоминать реальное освобождение.
Никакие теоретики большевизма даже представить не могли до взятия власти, что профсоюзы будут повиноваться социалистическому государству. Ленин уловил опасность в том, что государство, называющее себя пролетарским, повторяет ошибки буржуазного государства. И он заранее осудил независимость профсоюзов. Крах экономики после Гражданской войны, военный способ управления, принятый Троцким и большевиками, чтобы противостоять врагам, заставили забыть о либеральных идеях, которые они провозглашали прежде.
Без сомнения, сегодня они заявили, что требования, забастовка, оппозиция к власти больше не имеют смысла, поскольку государство стало пролетарским. Критика бюрократии остается разрешенной, необходимой. В узком кругу, согласно учению об эзотерике, рассматривают расширение права критиковать тогда, когда развитие социалистического строительства позволит ослабить дисциплину. При режиме, не подвергающемся сомнению, такие профсоюзы, как британские или американские, защитят интересы рабочих от требований управленцев. Необходимые требования постепенно будут выдвигаться к руководству профсоюзов всех промышленных объединений и будут обречены на обязательное выполнение.
Признаем на время даже этот оптимизм: должны ли были страны Запада, которые прошли в XIX веке этап развития, соответствующий этапу первых пятилетних планов, принести в жертву реальное освобождение мифу об идеальном освобождении? Там, где капиталистический или смешанный режим скованы в своем развитии, люди обращаются все к тем же аргументам, что и в слаборазвитых странах: безусловная власть одной группы, хозяйки государства, она единственная может сломить сопротивление феодалов или крупных собственников и ввести коллективное накопление. Там, где продолжается экономическое развитие или уровень жизни достаточно высок, зачем пролетариям реальные свободы (если пока есть частичные) приносить в жертву полному освобождению, которое странным образом смешивается со всемогуществом государства? Может быть, оно дает ощущение прогресса тем рабочим, которые не имеют опыта профсоюзов или западного социализма. С точки зрения немецких или чешских тружеников, которые знают реальные свободы, полная свобода всего лишь мистификация.
27
Esprit, juillet-aout 1951, p. 13.
28
Les communists et la paix dans Temps modernes, octobre-novembre 1952, № 84–85, р. 750.
29
Тойнби Арнольд Джозеф (1889–1975) – британский философ, культуролог, автор 12-томного труда по сравнительной истории цивилизаций. – Прим. перев.
30
Humanism et Terreur, Paris, 1947, p. 120.
31
Там же, р. 124.
32
Термин осмысления психологических отношений между людьми, подчеркивающий суть нашего общественного бытия. – Прим. перев.
33
J-P. Sartre, Temps modernes, juillet 1952, № 81, p. 5.