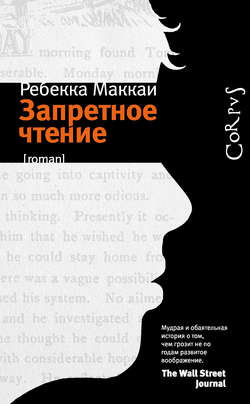Читать книгу Запретное чтение - Ребекка Маккаи - Страница 4
3
Рука Ничто
ОглавлениеВ Хеллоуин я сидела за столом и раздавала конфеты детям в карнавальных костюмах – тем, чьи родители считают, что уж лучше посылать их собирать сладости по приличным организациям, чем по сомнительным частным домам Восточного Ганнибала, где хозяева наверняка набросятся на непрошеных гостей с бритвенным лезвием. В ту неделю я повесила на входной двери плакат с объявлением: тот, кто нарядится персонажем из какой-нибудь книги, получит вдвое больше конфет и закладку в придачу. Но пока к нам заглянуло только два Гарри Поттера, одна Дороти и мальчик, который утверждал, что Майкл Джордан тоже считается, потому что про него написано много книг.
Иэн появился на лестнице вместе с матерью, ее рука с аккуратным маникюром лежала у него на плече. Я быстро схватила со стола табличку со своим именем и затолкала ее в верхний ящик. И подумала: интересно, придет ли Иэн еще когда-нибудь один?
Никакого костюма на нем не было – обычная синяя куртка. Я вспомнила, что Хеллоуин тоже значился в списке его матери. Иэн замешкался на входе, долго рассматривая сквозь очки двоих ребят, выходивших из библиотеки в скафандрах, и лишь потом спохватился и показал матери, где находится полка с К.-С. Льюисом. Через несколько минут миссис Дрейк уже стояла перед полкой-витриной в разделе романов – я выставила там несколько забытых лауреатов премии Ньюбери – и, нахмурившись, листала “Золотой кубок”[20], а Иэн тем временем прошаркал к моему столу. Он высвободил левую руку, которая пряталась в рукаве куртки, и я увидела, что на его указательном пальце красуется остроконечная шапочка из фольги, под которой несколькими линиями черного маркера обозначено лицо.
– Мисс Гулл! – прошептал он. – У меня карнавального костюма нет, зато мой палец – Железный Дровосек!
– Господи, ну надо же! – воскликнула я тоже шепотом и, смеясь, вручила ему две вафли “Кит Кат” и закладку.
Он запихнул сладости в карман и убрал руку обратно в рукав в тот самый момент, когда к столу подошла его мать с целой охапкой книг. Она выбрала несколько детективов про братьев Харди[21] и кое-какие биографии, но ничего такого, что, на мой взгляд, могло бы понравиться Иэну. Я проставила в книгах штампы – возможно, чересчур энергично – и улыбнулась в ответ на слова миссис Дрейк, пожелавшей мне чудесного вечера.
Вот в такие мгновения, когда меня охватывало ощущение окружающей провинциальности; когда я осознавала, что в церемонии вручения конфет на Хеллоуин я теперь всегда буду только в роли дающего; когда я смотрела на свои ноги и обнаруживала, что на мне удобная обувь, – во все эти мгновения мне бы следовало, наверное, крыть себя последними словами за то, что я очутилась в этом злополучном Ганнибале. Ведь я могла жить в просторном лофте где-нибудь в Бруклине, или путешествовать с рюкзаком за плечами по Испании на деньги отца, или защищать кандидатскую диссертацию. Но я была довольна тем, как сложилась моя жизнь, если и не совершенно довольна, то по крайней мере отчасти. Потому что именно в непредсказуемости – анонимной и холодной – и состояла для меня главная прелесть. Отец устроил бы меня на работу в сотню прекрасных мест, во всяком случае “прекрасных” в денежном отношении. Он оплатил бы защиту самой безумной диссертации на звание магистра искусств в области кино в самом дорогом университете страны.
Но четыре года назад, оканчивая филологический факультет, я упрямо отказывалась говорить ему, есть ли у меня на примете какая-нибудь работа. Тогда, в апреле, я отправилась на другой конец кампуса в отдел трудоустройства, расположенный рядом с медицинским центром, и уселась на пластмассовый стул в коридоре, пока какая-то женщина, которую я никогда раньше не видела (у нее были белые волосы, застывшие под слоем лака), не пригласила меня к себе в кабинет. Она стала задавать мне вопросы о том, что я планирую делать со своей жизнью, и на каждый следующий отвечать мне было все труднее и труднее. Женщина никак не могла поверить, что студентка, оканчивающая университет с отличием, так наплевательски относится к тому, что с ней произойдет в будущем. В конце концов она велела секретарше распечатать мне из базы данных 50-страничный список адресов и должностей всех университетских выпускников, чью теперешнюю работу можно охарактеризовать как “что-то, имеющее отношение к английскому языку и литературе”. Все эти люди якобы должны были проявить заботу о “своем” человеке и помочь мне найти работу. Я была немного разочарована: стоило ли намеренно отказываться от помощи отца и его связей, чтобы теперь получить на руки пятьдесят страниц новых связей? Но это, по крайней мере, были мои связи, а не его. Люди в списке работали учителями, техническими авторами, репетиторами, переводчиками и журналистами. Лорейн Бест, выпускница 1965 года, была единственной представительницей библиотечной профессии, но я написала ей не поэтому. Я просто стала отправлять электронные письма каждому адресату из списка по алфавиту, пока у меня не началась промежуточная сессия. Я дошла от Ааронсона до Дербишира, а потом три недели училась, пила пиво, расставалась с бойфрендом и ждала, что мне кто-нибудь ответит. Я писала всем по алфавиту, без разбора, поэтому у меня не было ощущения, что я пытаюсь воспользоваться полезными связями, скорее я просто испытывала удачу. Мы, русские, всегда любили рулетку.
У меня не было ни диплома библиотекаря, ни опыта работы, но Лорейн срочно требовалась сотрудница в детский отдел: у прежней обнаружили рак молочной железы в третьей стадии. Лорейн еще даже не успела опубликовать объявление о новой вакансии, так что, получив мое письмо, сочла его ответом на свои молитвы и наняла меня прямо в процессе телефонного разговора. Я получила предложение о работе, сидя на верхнем ярусе двухэтажной кровати в общежитской комнате – в трусах, футболке Violent Femmes и вязаных носках. Когда в июне того года я приехала в Ганнибал, Кейт Фелбс уже умерла от рака.
И конечно, Лорейн не уставала каждые несколько недель мне об этом напоминать.
– Я наняла тебя не глядя, – говорила она. – Я знала, что получу в сотрудницы выпускницу Маунт-Холиока, и предполагала, что это гарантирует определенный уровень рабочей этики!
Когда я сообщила родителям, что буду работать в детском отделе маленькой библиотеки в небольшом городке в Миссури, отец спросил:
– Это из-за парня? В Чикаго полно отличных парней, и многие из них – русские. Ведь в какой-то момент тебе захочется стать взрослым библиотекарем, правда? Я хочу сказать, что надо ставить перед собой трудные задачи и решать их. У меня есть знакомые в университетских библиотеках, которые наверняка могли бы помочь.
А мать сказала:
– Хорошо, что это не так далеко – сможешь приезжать к нам на машине.
Я ждала, что она что-нибудь добавит, но продолжения так и не последовало, и я поняла: ничего более сердечного в этот момент ей в голову не пришло.
Чуть позже в ту осень Иэн участвовал в конкурсе детской прозы. За пять минут до окончания конкурсного времени он спустился один по лестнице и отдал мне свой рассказ, обернутый в обложку из фиолетового картона и украшенный ярко-желтой рукой, вырезанной из коробки хлопьев “Чириос”. Рассказ назывался “Рука Ничто”. Иэн смахнул со лба взмокшую челку и стоял, нетерпеливо подпрыгивая на месте, как будто ожидал, что я немедленно прочитаю его произведение.
– Выглядит здорово, – сказала я и, чтобы сделать ему приятное, полистала печатные страницы.
Когда я подняла глаза, Иэн стоял, навалившись грудью на мой стол, его мокрая челка стояла дыбом, и я увидела странные отметины у него над левой бровью, которых никогда раньше не замечала. Это был ряд из четырех небольших розовых вмятин, расположенных в нескольких миллиметрах друг от друга. Очень похоже на отпечаток вилки. Я слышала, что учителя обязаны вести учет всем подозрительным ранам и синякам, которые они замечают на теле учеников, и подумала, не завести ли и мне такой дневник. Я тут же вспомнила и про огромный синяк Эмили Олден, который появился у нее на шее прошлой зимой: она утверждала, что это брат швырнул в нее снежком.
– Тут про руку, – не удержался Иэн. – Она, типа, совершенно невидимая и ни к кому не приделана. Это такой, знаете, как бы греческий миф, но в конце там есть умираль, она на отдельной странице. И в общем, когда история заканчивается, каждый должен сам догадаться, какая тут умираль, а потом перевернуть страницу и посмотреть, правильно он угадал или нет.
– А, ты хотел сказать, что там в конце есть мораль!
– Нет, умираль, потому что это такая трагическая история, навеянная греческими мифами. Понимаете? Это шутка! А еще я забыл проставить номера страниц.
– Ради тебя я немного нарушу правила, – успокоила я Иэна.
Я уже знала, что его рассказ займет первое место в конкурсе среди участников из пятого класса, потому что единственный его соперник-пятиклассник написал что-то про битву ниндзя. Как только Иэн ушел, я прочитала начало его истории. Он напечатал ее темно-синими чернилами:
РУКА НИЧТО
Мэн Алистер Дрейк
5 класс
Жила-была рука, она была сделана из ничего. Она была невидима для всех органов чувств, но могла делать все, что заблагорассудится. Вот как протекала ее жизнь:
День 1: украсть пончики и спрятаться.
День 2: съесть украденные пончики через особый рот, который у нее был.
День 3: применив хитрость, отомстить хулиганам.
День 4: спрятаться под камнями в лесу и ждать неприятностей.
Я пролистнула страницы до конца, чтобы прочитать мораль.
Умираль: даже кроликам нельзя говорить, где прячешься, потому что кролики не умеют хранить секреты.
Интересно, зачем невидимой руке вообще понадобилось прятаться? Когда я проводила этот конкурс в первый раз, один очень толстый мальчик написал рассказ о детях, которые могли уменьшаться до двух дюймов и ездить на игрушечных машинках. Теперь я вспомнила, как тогда подумала, что воображаемые миры детей тесно переплетаются с их заветными желаниями, как, например, в случае с тем несчастным толстым мальчиком, отчаянно мечтавшим стать совсем крошечным. Откуда же у Иэна, от которого всегда столько шума, который находится одновременно повсюду и ото всех требует внимания, – откуда у него это стремление к двойной невидимости? Ну и вообще, если вдуматься, ведь не случайно он проводит все свободное время в тихом полуподвальном помещении, зарывшись с головой в биографии Гудини. Для города Ганнибала он и на самом деле уже был наполовину невидим.
Незадолго до этого я подружилась с одной девушкой. Ее звали Софи Беннетт, она была моей ровесницей и работала учительницей в четвертом классе средней школы Ганнибала. Я решила, что в следующий раз, когда она к нам заглянет, расспрошу ее про Иэна. Она приходила в библиотеку почти каждые выходные и не меньше часа копалась в отделе научно-популярной литературы, набирая груды книг о грибах или ацтеках. В то воскресенье Софи пришла и громко опустилась в одно из детских компьютерных кресел недалеко от моего стола.
– Черт, я просто разваливаюсь, – выдохнула она, пристраивая огромную тряпичную сумку на пол рядом с креслом и внимательно оглядываясь по сторонам: она терпеть не могла натыкаться на своих учеников.
Маленькая девочка, которая пришла одна, сидела за столом, раскрашивая картинку. Мальчик постарше играл в компьютерные игры. Двое школьников тихо занимались с репетиторами.
– По-моему, с тех пор как я пошла работать в школу, я была здорова дней двенадцать, не больше! – воскликнула Софи. – А теперь еще у всех моих детей вши. Нет, правда! Ты смотри никого не трогай. Даже их куртки не трогай!
Я рассмеялась, встала из-за стола и подошла к ней поближе, чтобы мы могли поговорить, не повышая голоса.
– Я хотела тебя кое о чем спросить, – сказала я, устраиваясь в соседнем компьютерном кресле.
Софи достала из сумки большую пластмассовую заколку и, зажав ее в зубах, стала собирать волосы в хвост.
– М-м? – с готовностью промычала она.
– Так вот. Иэн Дрейк. Из пятого класса. В прошлом году он не у тебя учился?
– Не-а, – ответила она. – Кажется, он был в классе у Джули Леонард. Но семейка у него легендарная. Сущий ад.
– Да я тут недавно поцапалась с его матерью. Приходит сюда и заявляет: “Мой сын должен читать только благочестивые книги!” Для таких случаев у меня давно была заготовлена целая речь, в которой я без посторонней помощи защищаю первую поправку к конституции. Но вот является миссис Дрейк, и все это кажется мне таким идиотизмом, что я совершенно теряюсь и ничего не могу сказать в ответ.
– Да нет, они просто чокнутые.
Софи снова посмотрела по сторонам – так, на всякий случай. Маленькая девочка подняла карандаш над головой и теперь рисовала уже не на бумаге, а в воздухе.
– И очень религиозные, как ты уже догадалась, – продолжила Софи. – У матери, если я не ошибаюсь, были какие-то проблемы с психикой, и еще она явно анорексичка.
– Этого я не заметила, – сказала я и попыталась вспомнить, как выглядит миссис Дрейк. Мне казалось, что худоба – просто отражение характера.
– Хорошо, что Иэна, по-моему, все это не слишком волнует, – продолжила Софи. – Он, конечно, бывает весь из себя в тоске и страданиях, но я уверена: он просто рисуется. Да это вообще самый безмятежный ребенок на свете! В прошлом году он участвовал в весеннем мюзикле, и у них там был номер с канканом, можешь себе представить! Ну и он, конечно, танцевал хуже всех, чуть ли не посталкивал народ со сцены, пока махал ногами, но сиял во весь рот от начала до конца – ну прямо звезда! Он был так увлечен! С ним все будет хорошо, что бы они ни делали. На него, конечно, выльется куча дерьма, когда он объявит всем о своем гомосексуализме, но он справится.
– Господи! – воскликнула я, смеясь. – Да вы все как сговорились!
Хотя, по правде сказать, моя уверенность в том, что Иэн никакой не гей, была не такой уж и искренней. Мне самой не раз приходила в голову эта мысль, особенно в тот период, когда он с увлечением читал книги об истории мебели, и я частенько представляла себе, как в один прекрасный день он придет ко мне со своим возлюбленным и удочеренной китайской девочкой и я спрошу его, каково это было – родиться и вырасти в Ганнибале, а он ответит, что книги спасли ему жизнь. И даже если он не голубой, он все равно как-нибудь зайдет ко мне со своей симпатичной женой и их мальчиками-близнецами, которые будут выглядеть точь-в-точь как он сам в детстве, и фразу о том, что книги спасли ему жизнь, он почему-то все равно произнесет.
Тут на лестнице появились три девочки с рюкзаками за плечами и, увидев Софи, захихикали и стали махать ей рукой. Она прикусила губу и сделала большие глаза, показывая мне, что надо срочно прекращать разговор.
– Ну что ж, – сказала она, когда девочки остановились у полки с популярными сериями. – Мне нужны книги про ложь. Сказки, легенды, все, что есть. А то у нас прямо какая-то эпидемия в последнее время.
Я нашла ей несколько любимых историй о Линкольне и китайскую народную сказку “Пустой горшок”.
– Нет, правда, – шепнула она мне, пока я проставляла штампы на формулярах, – я думаю, с ним все будет в порядке. Но ты бы видела его папашу! Вот кто уж точно гей. Немудрено, что мать у Иэна такая несчастная. Папаша свой гейский скелет затолкал так глубоко в шкаф, что, наверное, тот добрался уже до чертовой Нарнии! Я что-нибудь должна?
– Ага, – ответила я и протянула ей вместе с книгами чек.
– Спасибо, дорогая.
Она улыбнулась во весь рот, звякнула связкой ключей и побежала вверх по лестнице.
В тот вечер мне позвонил отец, он был на взводе.
– Из Чикаго передают про библиотекарей! – прогремел он в трубку. – Эти ребята орут что-то про антитеррористический закон!
Отец говорит с русским акцентом, которого в личном общении я совсем не замечаю, но слышу, когда мы говорим по телефону или когда он оставляет мне сообщение на автоответчике, а еще когда отец пытается сдобрить свою речь вымученными американскими выражениями вроде “я ел пирог унижения” или еще чем-нибудь таким. Когда мне хочется пропустить мимо ушей то, что он говорит, я от нечего делать прислушиваюсь к его акценту, который, конечно, очень заметен всем остальным.
– Люси, ты мне вот что скажи! – кричала трубка. – Правительство Джорджа Буша задает вам вопросы?
– Вряд ли правительство интересуют книжки с картинками, – успокоила я отца.
– Ну вот если, скажем, к вам заявится загорелый парень с черной бородой и возьмет книгу о том, как изготовить бомбу, твоя начальница позвонит в ФБР? Номер ФБР у вас всегда под рукой?
Я была уверена, что, свяжись правительство с Лорейн, она оказалась бы одним из немногих библиотекарей в этой стране, которые с готовностью пообещали бы правительству всяческое содействие.
– Откуда мне знать? К тому же, если бы они решили выяснить, кто какие книги берет, нам пришлось бы дать пожизненную подписку о неразглашении.
– Люси, послушай, ведь это совершенно советская тактика. Если у тебя есть голова на плечах, беги ты из этой библиотечной клоаки! Именно так и начинаются все беды.
В последнее время я часто слышала, как нашу работу сравнивают с деятельностью КГБ, но обычно на эту тему шутил Рокки, а в исполнении отца с его русским акцентом это было очень похоже на одно из старых выступлений Якова Смирнова[22] (“В Советской России не ты берешь книги в библиотеке, а книги – тебя!”).
– Согласна, – ответила я со вздохом. – Но думаю, их мало волнует, кто берет почитать Доктора Сьюза.
– В новостях показывали, как эти библиотекари уничтожали бумаги и стирали компьютерные файлы, – не унимался отец. – Но это тоже не выход. Уж можешь мне поверить, я – жертва советского режима. Начнешь им помогать – ты в дерьме, начнешь с ними бороться – ты все в том же дерьме. Сейчас не лучшее время работать в библиотеке.
– Самое подходящее время, – не согласилась я. – Здесь платят бешеные деньги. Я просто постараюсь не высовываться.
Хотя, честно говоря, мне было бы куда приятнее, если бы мы до сих пор пользовались картонными формулярами, которые вставлялись в бумажные кармашки на переднем форзаце книг. Их в случае чего можно было бы просто сжечь или вытряхнуть в окно при появлении федералов или поменять местами с формуляром из “Туманного Чинкотига”[23]. Я была всеми руками за поимку террористов, но не считала, что ради этого стоит превращать библиотеки в ловушки. У меня не было диплома библиотекаря, и, возможно, я компенсировала недостаток образования тем, что относилась к первой поправке серьезнее, чем многие мои коллеги. Ну и конечно, за долгие годы я переняла у отца умение видеть в любом правительстве страшного Большого Брата.
В моей тоске по книжным формулярам было и что-то ностальгическое. Во многих старых книгах они до сих пор сохранились – остались там с 1991 года, когда мы полностью перешли на компьютерный учет. В них значились имена всех детей, которые читали книгу за последние месяцы, годы или даже десятилетия до того момента, а потом записи вдруг резко обрывались, как будто цивилизации пришел конец. Расставляя книги по полкам, я всегда читала имена в этих старых формулярах и обнаружила, что некоторые фамилии повторялись на сотнях карточек. Например, Элли Ройстон, которой в 1989-м было, наверное, лет десять, прочитала чуть ли не все книги о лошадях, какие только были написаны. Другой ребенок за два года брал книгу “Эллен Теббитс”[24] шесть раз. В этих списках были собраны лучшие умы поколения – целеустремленные, образованные, любознательные, ненасытные. Если бы мы продолжали пользоваться картонными карточками, имя Иэна наверняка было бы на половине формуляров.
– Люси, послушай моего совета. Перво-наперво брось это библиотечное дело и найди себе нормальную работу. А потом начинай писать статьи во все газеты. Ты умнее любого из этих библиотекарей и сможешь написать толковое открытое письмо, в котором объяснишь, что не так с антитеррористическим законом. Свобода прессы!
– Пап, люди это уже делали. Тысячи и тысячи людей.
– Подумаешь! Зато у тебя есть опыт работы библиотекарем, и ты можешь рассказать, каким образом это отразилось на твоей жизни.
– Но вообще-то это никаким образом на ней не отразилось.
– Люси, тебе двадцать шесть лет, так? И скажи-ка мне, многого ты достигла в свои годы? Когда мне было двадцать шесть, я наперекор советскому режиму открыл подпольный капиталистический бизнес, а потом и вовсе сбежал из проклятого Союза, рискуя жизнью и здоровьем, и начал все заново в доме храбрых, понимаешь?! Так если это – дом храбрых, то где же они, эти самые храбрые?
– Они ложатся спать. Они целый божий день выдавали книжки шестилеткам.
– Слушай, мой украинский друг Шапко ищет ассистента для продажи недвижимости. Ты бы отлично справилась.
– Тот самый Шапко, которого арестовали за почтовое мошенничество?
– Присяжные даже не предъявили ему обвинения! Судебная система в Штатах работает как надо, но лишь до тех пор, пока этот ваш Буш не сунет в нее нос.
– Пап, боюсь, это уже произошло.
– Вот и я про что!
Вскоре мы попрощались, и я повесила трубку. Мне хотелось покачать головой, многозначительно закатить глаза и рассмеяться, но вместе с тем я понимала, что отец, рисковавший жизнью, чтобы уехать из России, должно быть, чувствовал себя ужасно: из всех стран в мире он выбрал Америку, а теперь у него на глазах американское правительство закручивало гайки, урезало обещанные свободы, отправляло молодых ребят в Гуантанамо без предъявления обвинения, без адвокатов, без предупреждения. И совершенно не важно, что все это происходило не с ним лично. Одного того, что у людей прослушивают телефоны, было достаточно, чтобы он нутром почуял, как возвращается куда-то туда, в доельцинскую “госбезопасность”.
В мае 2002-го я гостила у родителей в Чикаго, и как-то за обедом раздался телефонный звонок. Звонила Магда Джонсон, подруга моей матери, выросшая в Польше во время Второй мировой войны и теперь жившая рядом с Линкольн-парком. Я слышала, как из трубки, которую мать отодвигала все дальше и дальше от уха, раздаются крики:
– На улице взрывы! То ли стреляют, то ли бомбы кидают и все страшно орут!
– Это Синко де Майо[25]! – крикнула я матери. – Скажи ей, чтобы включила новости. Это всего-навсего Синко де Майо!
Но Магда продолжала визжать в телефон, ей снова было пять лет, и она сидела в бомбоубежище, переживая очередную бомбежку. И эта бомбежка длилась у нее в голове вот уже восемь месяцев и, возможно, останется с ней до конца жизни.
Поэтому я напомнила себе, что и с моим отцом произошло примерно то же самое. Не на такую страну он рассчитывал. И был уверен, что все это – в прошлом.
Я взглянула на часы, чтобы убедиться, что репетиция в театре подо мной закончилась, и только после этого врубила музыку и пылесос. У меня подскочило давление, и, поскольку ругать русского старика за идеализм было бессмысленно, я решила отыграться на ковре. Он почему-то никогда не становился по-настоящему чистым, как бы я ни старалась. Где-то он был цвета овсянки, где-то – бежевый, а некоторые пятна напоминали детали фотографий с места преступления. Мне приходилось осторожно обводить щеткой пылесоса вокруг книжных стопок, которые служили мне чем-то вроде дополнительной мебели – подставками для кофейных чашек, писем и журналов. Я не хотела заводить себе книжные полки: боялась, что почувствую необходимость расставить книги по какому-нибудь четкому принципу: по десятичной классификации Дьюи, или в алфавитном порядке, или каким-то еще более ужасным способом. Книги обитали в моем жилище стопками, порой с меня ростом, и порядок, в котором они располагались, был настолько субъективным, насколько хватало моей фантазии.
Набоков у меня находился между Гоголем и Хемингуэем, уютно устроившись между Старым и Новым Светом; Уилла Кэтер, Теодор Драйзер и Томас Гарди лежали вместе не из-за хронологической близости, а потому что все они так или иначе ассоциировались у меня с сухостью (хотя в случае с Драйзером с сухостью было связано, пожалуй, только имя[26]); Джордж Элиот и Джейн Остин разместились в одной стопке с Теккереем, потому что из его книг у меня была только “Ярмарка тщеславия”, и мне казалось, что Бекки Шарп будет чувствовать себя лучше в дамском обществе (и в глубине души я тревожилась, что, если поселить ее рядом с Дэвидом Копперфилдом, она может его соблазнить). Дальше шли разные стопки современных авторов, которые, по моему мнению, чувствовали бы себя комфортно в обществе друг друга, окажись они на одной коктейльной вечеринке. Ну и еще у меня было как минимум три стопки книг, которые сама я терпеть не могла, но не избавлялась от них на случай, если кто-нибудь вдруг захочет взять почитать. Например, захватывающий роман о семье цирковых артистов или книга в экспериментальном жанре о путешествующей во времени монахине. Мне было бы ужасно обидно, если бы пришлось кому-то объяснять, что я читала эту книгу, но, к сожалению, недавно ее выбросила. Не то чтобы у меня часто что-нибудь просили. Но время от времени хозяин квартиры Тим или его бойфренд Ленни заходили в гости, чтобы порыться в моих стопках и задать лучший вопрос на свете: “Слушай, не посоветуешь, чего бы такого почитать?” Мне нравилось быть подготовленной.
Стопки с книгами были главным украшением моего дома. Здесь стояло немного красивой мебели, которую мне отдали родители, и кое-какие стандартные прямоугольные вещи из “Икеи”, но за три года, которые я прожила в этой квартире, у меня так и не дошли руки до стен – на них не было ни одной картины. А кроватью мне по-прежнему служил брошенный на пол матрас. Наверное, из-за семейных преданий моего отца мысль, что в один прекрасный день мне, вероятно, придется бежать через границу, никогда не казалась мне слишком дикой. Если не считать книг, я никогда не обзаводилась таким количеством вещей, которое нельзя было бы перевезти с места на место на верхнем багажнике автомобиля. Казачьи набеги могут начаться в самый неожиданный момент.
Неделю спустя я получила от родителей посылку. В свертке обнаружилось два экземпляра брошюры с перечнем выпускниц Маунт-Холиока (я так до сих пор и не попросила поменять в нем мой адрес), коробка конфет “Франго” с мятной начинкой и вырезка из “Чикаго трибьюн” с передовицей об антитеррористическом законе. Если честно, мне было лестно, что отец вдруг начал считать мою работу если и не увлекательной, то по меньшей мере небезопасной. Мне даже почти захотелось, чтобы она и в самом деле была такой. Все свое детство я слушала истории о русских революционерах и эмигрантах и как будто бы готовилась к великой борьбе. И где я теперь? В библиотеке, где и побороться-то не с кем – ну не считая Лорейн Бест. И еще Джанет Дрейк, которая даже имени моего не знает.
Я легла на спину прямо на полу и стала читать брошюру. Моя одногруппница, с которой мы на первом курсе жили в одном общежитском корпусе, славилась тем, что курила благовония и разбавляла вино фруктовым соком. В брошюре было сказано, что она открыла в Мэне приют для женщин, подвергшихся избиению и домашнему насилию, и недавно выступала с речью перед конгрессом. На следующей странице была девушка, которая окончила университет прошлой весной, а теперь измеряла, с какой скоростью тают ледники, в перерывах между всевозможными стипендиями. Выпускница 1984 года боролась за права сексуальных меньшинств в Калифорнии – в брошюре была фотография, на которой они с подругой стояли на фоне деревянного дома девятнадцатого века, который вместе отреставрировали.
Я представила себе, что в этой брошюре могли бы написать обо мне:
Люси Гулл, выпуск 2002, сегодня отважно выдала на руки десятилетнему читателю “Войну тележек”[27], несмотря на засилье в данном произведении игрушечного оружия и тот факт, что книга напрочь лишена так называемого “божественного света”.
“У меня не было другого выбора, – объясняет мисс Гулл, которая к своим 26 годам достигла определенных успехов лишь в проставлении штампов в книжных формулярах, в возвращении книг на полки и в чтении вслух смешными голосами. – Дело в том, что мы не имеем права отказывать в выдаче книг, если у человека есть читательский билет. Я даже не вполне понимаю, зачем вы со мной беседуете”.
Гулл живет одна, в квартире над театром, часто забывает воспользоваться увлажняющим кремом, и недавно у нее на задней поверхности бедер появилась сыпь из-за аллергии на ткань, которой обит ее библиотечный стул.
В ту ночь мне снились книжные формуляры. Лорейн показывала мне книгу в простом красном переплете и спрашивала, кто из читателей брал ее на руки. И я зачитывала ей имена из формуляра: Иэн Дрейк, Джордж Буш и Господь Бог.