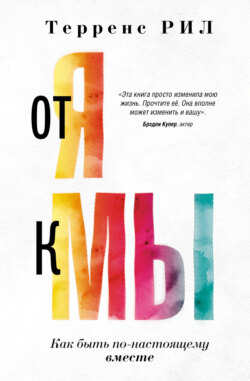Читать книгу От «Я» к «МЫ». Как быть по-настоящему вместе - Рил Терренс - Страница 13
Глава 2
Миф об индивидуальности
Отношенческий мозг
ОглавлениеСуществует особая научная дисциплина, которая изучает, как в детстве наш мозг и центральная нервная система формируются под влиянием отношений с близкими, как отношения влияют на нашу нейробиологию, когда мы становимся взрослыми и вступаем в интимную связь. Это нейробиология13 межличностного взаимодействия. Главное открытие в этой области состоит в том, что сознание существует в контексте отношений. Партнеры по близким отношениям буквально регулируют нервные системы друг друга, уровень кортизола (гормона стресса) и скорость иммуннологических реакций. Прочные отношения повышают иммунитет и снижают заболеваемость, не говоря уже о снижении уровня депрессии и тревожности и улучшении субъективного самочувствия в целом. Ненадежные – изматывают постоянным стрессом14, что может приводить к заболеваниям.
Исследования подтвердили, что большинство родителей интуитивно понимают: неврологическое развитие новорожденных и маленьких детей зависит от стимулирующего любящего15 общения. С первых недель жизни младенцы активно ищут и просят общения с окружающими. Родители обеспечивают ребенку, по словам психоаналитика Дональда Винникотта, «достаточно хорошее поддерживающее окружение»16. Падая с велосипеда, малыш смотрит в лицо взрослого, который его сопровождает, чтобы узнать, сильно ли он разбил коленку. Родители привыкают утешать ребенка, делиться с ним своей точкой зрения (эта боль не будет длиться вечно) и эмоциональной реакцией, служа своеобразным модулятором, настраивающим его эмоциональную жизнь. По словам Эда Троника, первопроходца в области наблюдений за развитием новорожденных, специалисты по психическому развитию детей17 применяют термин «нейроархитекторы» для описания тех, кто заботится о младенцах. Самые первые отношения, в которые вступает маленький ребенок, определяют, как будет настроен его мозг, – то есть буквально выстраивают его.
Каждый день в своем кабинете я вижу, что бывает с людьми, которые в детстве не получали помощи в настройке своих эмоций. В целом они отрезаны от собственной эмоциональной жизни. Не имея возможности опереться на нервную систему взрослого, они не могли справиться ни со своими, ни с чужими эмоциями – и до сих пор не могут.
«Я полагался на себя»
Пол – белый, сорока девяти лет, – сидит, положив одну ногу на колено другой, и рассеянно барабанит пальцами по щиколотке. Его жена Черил, тоже белая, пятидесяти пяти лет, потеряла всякое терпение и теперь в ярости на него. Он слишком замкнутый, слишком отстраненный. А ей нужно больше.
И все же, заверяет меня Пол, детство у него было нормальное, счастливое. Никто не кричал на него, не бил, не мучил, говорит он мне. Я такое уже слышал, и сейчас, в самом начале сессии, трудно определить, в каком доме рос Пол – без любви или просто в тишине и спокойствии.
Я спрашиваю:
– К кому же вы обращались за утешением и подбадриванием, когда вам было страшно или больно?
– Вообще-то, не припомню, чтобы я к кому-то обращался, – задумчиво отвечает он. – Я полагался на себя.
– С какого возраста?
– Что, простите?
– Сколько лет вам было, когда вы научились самостоятельности?
– Не знаю, – отвечает он. – Сколько себя помню.
– Ясно, – говорю я ему. – Вы захлопнули дверь и отгородились от чувств так давно, что и не помните. Но вы не родились таким. Раньше, чем охватывает ваша память, вы наверняка пытались раз или два обратиться к родителям за утешением, а их реакция привела вас к выводу, что искать эмоциональной поддержки у них – плохая идея.
Пол ерзает в кресле и внимательно слушает меня.
– Поскольку рядом не было никого, кто помог бы модулировать ваши чувства, вы повели себя очень умно для маленького мальчика. Вы их отключили. Захлопнули перед ними дверь.
Пол относится к первому типу избегающих любви, а говоря на современном психологическом языке, к представителям избегающе-отвергающего стиля привязанности. Пол живет, отгородившись от всех стеной, поскольку вырос в семье, где все жили, отгородившись от всех стеной. В чем же тогда проблема? Отключить эмоции для Пола нормально. Если бы он жил один, все было бы прекрасно, но он не один. У него есть жена и несколько детей, которые нуждаются в нем. Беда Пола в том, что мы, люди, не можем хирургически отсекать собственные чувства. Стоит открыться одному чувству, и хлынут все. Черил изо всех сил стучится в двери Пола. Но открыть ей свое сердце – значит распахнуть двери, которые Пол накрепко запер еще в детстве. Он испытывает эмоции, но лишен инструментов, которые позволили бы их распознавать.
– Вы оставили свои чувства в прошлом, – сказал я на следующей сессии, – но они вас не оставляли. Они все это время просачивались. Вам просто нужна помощь, чтобы снова наладить с ними связь и научиться называть их.
Мне приходится учить Пола, как переживать эмоции. Они нужны ему, чтобы делиться с женой. В дальнейшем в ходе сессии она признается, что их брак уже давно наскучил ей. Полу нужно научиться делиться с Черил своей эмоциональной жизнью и в ответ интересоваться эмоциональной жизнью Черил. Все это дается ему с трудом, потому что, когда маленький Пол падал с велосипеда, взрослые отводили взгляд или смотрели на него безо всякого выражения.
Я рассказываю Полу, что такое пассивный абьюз, эмоциональная заброшенность. Его беда не в том, что у него есть что-то такое, чего не должно быть (ярость или сексуальная энергия), а в том, что у него нет того, что должно быть, – умения поддержать, утешить, поделиться. Детей гораздо чаще забирают из семей именно из-за заброшенности, а не из-за насилия. Если вы хотите наглядно увидеть, что происходит с младенцами и маленькими детьми, когда их лишают отношений со взрослыми, посмотрите на YouTube эксперименты доктора Эда Троника с «неподвижным лицом»18.
– Вот что вы увидите, – рассказываю я Полу, посоветовав видео Троника. – Начинается ролик просто чудесно. Вы увидите молодую маму с маленьким ребенком на коленях – ему года полтора-два. В руках у мальчика игрушечный динозаврик, и динозаврик кормит маму, а мама ест воображаемую еду, которую дает ей игрушка. Мама с ребенком нежно воркуют. Потом мама вдруг отворачивается и застывает. Никакой враждебности, никаких знаков ребенку, просто совершенно бесстрастное неподвижное лицо. Две минуты. Столько длится весь эксперимент. Но выдержать эти две минуты – настоящая пытка. Сначала маленький мальчик проходит весь репертуар способов добиться внимания, все больше впадая в отчаяние. Он воркует, гулит, подносит динозавра к лицу матери, пытается заставить ее снова есть, участвовать в игре. Ничего не помогает, и тогда ребенок прибегает к «протестному поведению» – вопит, визжит, выгибает спину. И наконец просто декомпенсирует. Раскачивается, рыдает, капает слюной, снова и снова бьется затылком в тело матери.
– Две минуты, – говорю я Полу. – Как вы думаете, сколько таких минут вы выдержали?
* * *
В детстве Полу не хватило опыта сонастройки. Когда взрослый постоянно взаимодействует с ребенком, это вызывает мощный биологический отклик – снимает беспокойство и приносит удовольствие. Отношения заливают организм ребенка окситоцином и вызывают выработку эндогенных опиоидов, которые укрепляют привязанность. Казалось бы, вот и чудесно, но, как не устает предостерегать доктор Троник, в реальной жизни отношения с людьми – сущий хаос. Между ребенком и взрослым налаживается бесконечный цикл: гармония-дисгармония-восстановление отношений.
Более того, связь – это отнюдь не улица с односторонним движением. В одном из видео доктора Троника младенец, не в состоянии успокоиться, визжит и выгибает спину. Измученная мать не может побороть раздражение и сердито смотрит на ребенка, которого держит на руках. Младенец инстинктивно поднимает крошечные ручки над головой, чтобы защититься от сердитого лица матери. Вся последовательность занимает тридцать пять секунд. Нервная система младенца реагирует на реакции родителей, но и сами дети регулируют нервную систему родителей, о чем вам скажет большинство думающих матерей и отцов. Как говорится, ты счастлив настолько, насколько твой самый несчастный ребенок.
Такая сонастроенность нервных систем характерна не только для детей и родителей. Она наблюдается между особями и у разных других биологических видов. Например, если впрыснуть мыши в лапу раздражающее вещество19, она будет зализывать ее, чтобы избавиться от дискомфорта. Чем сильнее вещество, тем энергичнее мышь вылизывается. Простая зависимость, верно? Да, так и есть, пока не покажешь мыши вторую мышь, которая сидит за стеклом и которой в лапу тоже ввели раздражающее вещество. Если вторая мышь вылизывается не так энергично, боль у первой мыши стихает. Если вторая мышь сильно мучается, первая мышь начинает вылизываться интенсивнее. Уровень боли у первой мыши определяется тем, насколько сильную боль она наблюдает у сородича.
Отметим, что эта реакция действует, только если мыши знают друг друга. Если они не сидели в одной клетке, ничего не получится. Более того, синхронное вылизывание с высокой вероятностью предсказывается, если эти мыши – пара. Видимо, «Я чувствую твою боль» как-то связано с «Я настроен на тебя». Чем ближе отношения, тем сильнее мимикрия. Что это – мышиная эмпатия? Мышиная любовь?
* * *
Сейчас все больше и больше пишут о социальной природе нашего мозга и нервной системы20. Так все-таки, обладаем ли мы индивидуальностью? В каком-то смысле да, только одновременно мы полностью взаимозависимы и неврологически переплетены друг с другом. Да, мы отдельные личности, но личности, для которых жизненно необходима связь с другими. Как выражается нейробиолог Дэн Сигел, мозг – социальный орган21, а наши отношения друг с другом – не роскошь, а главнейшее питательное вещество, необходимое для выживания.
Мы индивиды, чье существование зависит от принадлежности к группе.
В начале пятидесятых годов ХХ века психиатра Рене Шпица попросили проконсультировать сиротские приюты, где была необычайно высока младенческая смертность22.
Этих детей регулярно кормили, переодевали, пеленали, следили, чтобы они имели возможность отрыгнуть воздух после кормления. Но Шпиц обнаружил, что с этими детьми не играли, не разговаривали, их не тискали – словом, у них не было никакой эмоциональной синхронизации со взрослым. Произошедшее получило официальное название – синдром остановки развития[4]. Выражаясь простым языком, эти дети умирали от одиночества.
Наша нервная система никогда не была приспособлена к саморегуляции. Мы все фильтруем свое чувство стабильности и благополучия через отношения с другими. И все же наше общество пронизано культурой индивидуализма. Идея сурового индивидуалиста, который держится особняком от остальных, не имеет отношения к действительности.
* * *
Если хотите знать, как выглядит человек, полностью исключенный из социального взаимодействия, изучите мозг человека, который долгое время провел в одиночном тюремном заключении.
Девятнадцатого июня 2012 года Грег Хейни, профессор психологии из Калифорнийского университета в Санта-Крус, сообщил подкомиссии юридического комитета сената конгресса США по конституции, гражданским правам и правам человека: «Условия содержания23 [восьмидесяти тысяч американских заключенных, которые долгое время провели в одиночных камерах] настолько суровы, что не могут служить никаким дисциплинарным целям». У некоторых заключенных это лишь ускоряет низвержение в бездну безумия. Вот что пишет журнал Американской ассоциации психологов APA Monitor.
Точку зрения Хейни подтверждает и бывший заключенный Энтони Грейвз, который провел в тюрьме 18 лет, в том числе 10 лет в одиночной камере, в ожидании казни за убийство, которого не совершал. «Я видел, как люди приходят в тюрьму в совершенно здравом уме, а через три года уже не живут в реальном мире», – говорит он. По словам Грейвза, один заключенный «выходил во двор для прогулок, раздевался догола, ложился и мочился – и весь обливался при этом. Брал свои фекалии и мазал себе лицо».
Вот он, совершенно независимый индивид! Лишенные социальных связей, мы разрушаемся как личности – и даже сходим с ума.
* * *
Многочисленные современные исследования24 изучают границы между нами и способы, которыми эмоциональное состояние одного партнера, зачастую не выраженное в словах и, более того, неосознаваемое, влияет на второго. Мне представляется, что самое простое и элегантное из множества имеющихся описаний социальной природы нашего мозга – это весьма авторитетная Social Baseline Theory[5], которую разработали Лейн Бекс и Джеймс А. Коан, исследователи из Виргинского университета.
Я начал понимать, что такое базовая социальная теория, много лет назад, когда был на сафари в заповеднике Серенгети. Мой друг Рик Томсон, опытный проводник, увел меня на рассвете выслеживать потенциальную добычу. В высокой траве притаилась золотистая львица, едва различимая в кустах. В нескольких шагах дальше стоял ее потенциальный завтрак – ни о чем не подозревающий бородавочник, вынюхивавший в земле личинку. Словно сговорившись, львица и бородавочник разом подняли головы – и бросились бежать как ошпаренные. После потрясающего спринта, продлившегося считаные секунды, оба, снова словно сговорившись, резко остановились. Львица улеглась и принялась небрежно вылизывать лапы. Аппетитный бородавочник покрутил задом, словно в танце: «Ха-ха, львица, сегодня не твое утро».
4
Рене Шпиц ввел также понятие, описывающее данное явление, – «синдром госпитализма». – Прим. научн. ред.
5
«Теория Социальной Базы», авторы Lane Beckes, James A. Coan – Прим. научн. ред.