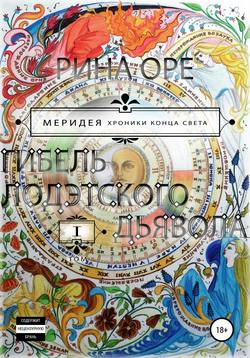Читать книгу Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том - Рина Оре - Страница 5
Глава I
Оглавление6 день Нестяжания, 1 год, 40 цикл лет
«Прескверный день окончается не яблоком, а конфетою», – стараясь себя приободрить, вспомнила юная Маргари́та Ботно́ поговорку дядюшки Жо́ля.
– Да еще этот день! И хорошее лишь одно: теперь я верно знаю, что получу уйму сластей! – с досадой вздохнула девушка, рассматривая в полумраке свои руки и невольно ими любуясь.
Из всех Ботно только ей достались тонкие запястья, узкие кисти рук и длинные пальчики: безымянный был слегка длиннее указательного, а большой палец изящно сужался у основания. Дядя Жоль называл это сужение талией и шутил, что раз есть талия, то нужен пояс с кошельком. Столь утонченные руки украсили бы и без того прелестную внешность своей хозяйки, но кожа покраснела от стирки, и, вместо гордости за свои пальчики, юная красавица чувствовала смущение, когда наблюдала их при свете дня. Лишь в полумраке ее руки снова становились совершенными.
Кто видел Маргариту, сразу понимал, что ее предки – выходцы из кантона Сиренгидия, а она сама – сире́нгка: из-под белого чепчика выбивались светлые с золотистым отливом прядки; когда же девушка снимала свой головной убор и расплетала косу, то волосы струились пышным потоком теплого, желтого золота с ее плеч и до конца спины. Кроме золотистых волос сиренгцев узнавали по глазам – зеленым. У Маргариты были чистые, зеленые глаза, скорее даже глазищи – такие они были большие и проникновенные. Еще их хотелось назвать добрыми и немного проказливыми. Дополняла облик северянки нежная, лилейная кожа, сильно недолюбливающая жаркое солнце Лиисема. Два брата Маргариты, старший и младший, пошли в отца, орензчанина из Бренноданна, уродились русоволосыми шатенами с карими глазами и тоже бледной, но некапризной кожей. Девушка пошла в мать.
Закончив любоваться своими руками, сидевшая в углу чердака Маргарита прислонила голову к стогу соломы, закрыла глаза и постаралась представить матушку. У девушки остались размытые, битые образы ее лица, но она хорошо помнила теплые объятия и ласковый голос, рассказывающий страшную сказку о сбежавшем блинчике, помнила успокаивающее биение ее сердца, свое обещание никогда не убегать из дома, чтобы не быть съеденной дикими зверями, и полученные за это поцелуи. Первой, однако, дом покинула мама – умерла, когда Маргарите было четыре с половиной, а малышу Фили́ппу не исполнилось и года. Анге́лика Ботно слегла перед самым Сатурналием, промучилась в лихорадке всё это веселое празднество и на исходе двадцать четвертого дня Любви испустила дух. С тех пор Маргарита не любила Сатурналий.
«Сгибла с изнуренья – недуга бедняков», – так сказал своим детям Синоли́ Ботно, который последовал за супругой через два с половиной года.
Отца Маргарита помнила веселым и добрым – таким он был во хмелю, хмурым и несчастным он становился, когда трезвел. После смерти жены Синоли Ботно горько запил, потерял место в гильдии плотников Бренноданна, перестал работать и растрачивал средства за проданный дом, полностью справившись с этой задачей к Летним Мистериям и к своей внезапной смерти прямо во время уличного маскарада. Сколько девочка, а потом и девушка, не пыталась изгнать то видение из своей головы, при мысли об отце упорно всплывала неприглядная картина, когда его тело ночью принесли соседи. Они сказали, что бедняга подавился собственной рвотой.
После похорон последнего родителя, одиннадцатилетний Синоли́ Ботно, старший брат Маргариты, заявил, что они пойдут к дяде Жолю, в далекий город на юге, в Элладанн, потому что, когда Маргарите было два года, дядюшка приезжал в Бренноданн и стал их вторым отцом – значит, обязательно возьмет к себе своих дорогих детей сердца.
«Еще он добрый и точно наибогатющий, – добавил тогда Синоли. – Мне задарил нож для еды, а тебе це́почку из речной перлы́. Ну да, дары уже кудатова делися, но я ихние описанья ему скажу. Он и Филиппа заделает своим сердешным дитём. Чего ему, жалкое?»
Подросток, семилетняя отроковица и трехлетний мальчик отправились из Бренноданна в долгий путь, не зная ничего о доме дяди и имея смутное представление о внешности своего второго отца. Необъяснимым чудом все трое остались живы, не потеряли друг друга и с помощью странствующих лицедеев добрались до Элладанна к празднеству Перерождения Земли. На самом большом северо-западном рынке дети едва принялись расспрашивать о Жоле Ботно, когда подобные им малолетние оборванцы прогнали новоприбывших «попрошаек» на другой рынок, к храму Благодарения, а там (вот удача!) все разносчики знали их дядюшку, жившего рядом и торговавшего в съестной лавке. Голодная троица в грязных лохмотьях возникла на пороге перед тощей теткой Клементи́ной и невысоким толстяком с округлой бородкой на добродушном лице – это и был их дядя. Жоль Ботно, правда, сначала нервозно поглядывал на чистоплотную до помешательства жену и едва не закрыл перед незваными гостями дверь, но Синоли был красноречив, Маргарита заревела, а Филипп поддержал сестру зычным воем, – так их не выставили вон. Дядя Жоль завел детей в кухню и заявил супруге, что он не вполне уверен, но двое и впрямь как будто бы его сердешные дети – и из этого следует, что их надо оставить у себя и помочь им вырасти «добродеяльными людями». Тетка тогда кричала, что он, Жоль Ботно, теперь уж точно разорится и пустит их по миру. Синоли, Маргарита и малыш Филипп всё слышали, но не отвлекались от подгоревшей ячменной каши, какую скупая тетка не решилась выбросить. Изголодавшиеся за восьмиду дети гребли ее из горшочка руками и, не пережевывая, глотали. В какой-то момент Маргарита опомнилась, огляделась и увидела модно одетого, опрятного юношу тринадцати-четырнадцати лет, стоявшего в дверях кухни и едва сдерживавшего смех, глядя на то, как они лопают кашу, отпихивая друг друга от горшочка.
«Матушка удумала отнесть помои поросям на рынку, но порося сами подспели», – улыбаясь и глядя Маргарите в глаза, сказал тогда ее сужэн Оливи́, а затем, посмеиваясь, удалился вглубь чистенького, уютного дома.
Маргарита, в свою очередь, подумала, что никогда и ни за что не выйдет за этого грубияна замуж, пусть и слово «сужэ́н» произошло от «суженый». Когда она стала взрослой, то есть достигла семи лет, ей рассказали о духовных законах Меридеи, общих для всех королевств, поскольку их установила Экклесия. Духовный закон позволял венчаться двоюродной родне, и такие супружества считались полезными для сохранения дела внутри семьи; если же невеста и жених происходили из разных семей, то родня объединялась, – так, сестра мужа становилась сестрой по мужу, мать мужа – матерью по мужу, брат жены брата – братом по жене брата или просто братом, а с братом уже венчаться было нельзя. Двоюродные братья звали друг друга «двэнами», сестры – «двэньями», троюродные братья и сестры были «тризами». Четвероюродного родства и более в семье не существовало.
Спустя годы повзрослевшая Маргарита усмехалась, вспоминая, как она боялась, что ее выдадут замуж за Оливи. Но семилетней оборванке было не до смеха: ее опрятный сужэн обзывался и доводил девочку до слез в течение шести дней. Затем ироничная судьба распорядилась так, что Оливи уехал в Бренноданн, – он достиг тринадцати с половиной лет, возраста Послушания, и отправился учиться в Университет на законника. В свои шестнадцать лет Оливи Ботно устроился писарем к нотариусу и стал зарабатывать сотню серебряных регнов в триаду, а к девятнадцати с половиной годам, после окончания Университета, уже имел по тысяче за пятнадцать дней! С тех самых пор, как Оливи уехал в столицу Орензы, он за шесть с половиной лет ни разу не побывал дома. Когда от него приходило письмо, то у Ботно случался торжественный обед, после чего дядя Жоль надевал смешные круглые очочки без дужек и медленно, сбивчиво, пытаясь разобрать слова и понять их смысл, читал домочадцам вести от сына. Оливи писал родителям на меридианском, языке образованных людей. Маргарита и Синоли писали и читали по-орензски, но они считались безграмотными. Тетка Клементина тоже была безграмотна. Пока ее муж читал письмо, она нервничала, теребила салфетку, то и дело уточняя: не перепутал ли он опять чего-нибудь. В какой-то момент добряк Жоль Ботно вспыхивал, кричал супруге, что пусть, наконец, сама выучит меридианский и оставит его в покое, после возмущался, что Оливи снова пренебрег его настойчивой просьбой писать по-орензски и что пора бы их «модностольному сынку» хоть раз навестить родителей в их «дремучем захолустье», вместо того чтобы в каждом письме так обзывать «Богоблагословлённый Элладанн». В окончании своей тирады он выдыхал, выпивал махом целую кружку пива, принесенную испуганной женой, и продолжал читать.
Таким образом, жизнь у Оливи в Бренноданне сложилась удачно, а сиротки нашли новый дом во втором крупном городе Орензы, в столице герцогства Лиисем, в Элладанне.
Шесть с половиной лет назад, ворча и проклиная свою планиду, тетка Клементина согласилась оставить племянников, если те будут помогать ей по хозяйству. Во дворе дома Ботно имелся колодец, и в засушливую пору семья продавала воду (по медяку за ведро). Так что на лето Синоли превращался в водоноса, а в остальное время он помогал дяде в лавке. Везунчик-Филипп оказался слишком мал для труда, да власти до наступления отрочества не требовали за него уплаты податей: он играл до семи лет, как и положено детям, затем дядя Жоль арендовал для своего третьего сердешного ребенка учебник меридианского языка – и нынче этот симпатичный мальчик днем заучивал тексты, чтобы вечером продекламировать их наизусть. За свои старания он получал сласти от дяди и умилительные взгляды от нещедрой на нежности Клементины Ботно. Маргарита выполняла грязную работу по дому, и на это у ее тетки нашлись две причины. Первая: тетка больше не могла «тягать на себе всей этой свет», так как вынужденно воспитывала Филиппа. Вторая: Маргарита родилась в полнолуние, значит, имела целых три Порока, самых ужасных, по мнению тетки, из восьми возможных – Леность, Любодеяние и Уныние, – вот тетка изо всех сил и помогала Маргарите спасти душу, не позволяя ей лениться. Бесполезно девочка твердила, что родилась в лунное затмение, при ярко-красной луне, и что, как сказал священник, ее порочные склонности из-за этого ослабились, а единственная Добродетель, Нестяжание, усилилась солнцем. Тетка, слыша про красную луну, крестилась и требовала, чтобы маленькая грешница перестала ей врать, а ленью к доброму делу не испытывала терпения Бога. Руки девочки, столь совершенные от природы, тогда и покрылись налетом из царапин и красноты.
Гумор Клементине Ботно достался сухой и холодный, в самой высшей точке холода, ведь она родилась в новолуние, – это означало, что ее переполняла черная желчь – гуморальный сок, ввергающий человека в мрачное восприятие мира. Избыток черной желчи причудливо смешался со страстностью теткиного нрава, присущего ее плоти из-за рождения в восьмиде Кротости, – она то супилась, то начинала орать по малейшему поводу, раздавая подзатыльники или шлепки, после чего сама выматывалась от своего крика и любила посидеть с рукоделием в тишине. Нагружая свою племянницу работой, эта невысокая, сухонькая женщина бегала, как муравей, по дому и находила уйму дел для себя: она или выбивала тюфяки, или меняла солому в подушках, или по четыре раза за восьмиду разбирала рухлядь на чердаке в поисках «нерухляде́й». При этом, редко покидая дом, она знала все сплетни в округе. Маргарита старалась угодить тетке и понравиться, однако уж больно разные были эта черствая сердцем женщина и мечтательная девочка, поэтому душевной близости между ними не возникало. Как благочестивой меридианке, Клементине Ботно самой не хотелось бы кричать и давать ей затычек, но Маргарита будто нарочно притягивала к себе беды – как большие, так и малые: редко какой день обходился без происшествий, в которых она была не виновата, вот только почему-то они случались именно с ней. Гневило тетку Клементину и то, что маленькая Маргарита всё воображала игрой, несерьезно относилась к порядку и могла увлечься чем-нибудь другим во время труда, как например: она однажды, позабыв про наполовину отмытый от пригара горшок, убежала с подружкой на улицу, вследствие чего обед перенесся, ведь тетка обнаружила, что ей не в чем готовить. Тогда все Ботно, вынужденные кушать в час Воздержания и приближать Конец Света, укоризненно смотрели на «баловную девчонку», а она хлопала глазами и оправдывалась тем, что не услышала часового колокола из-за шума кузнечного квартала, – вот они и заигрались с Беати. Частенько, выгораживая себя, Маргарита бесхитростно лгала. Не прошла у нее эта пагубная склонность к лукавству, развлечениям и легкомыслию в работе, даже к юности. Любила Маргарита и лениться, и много спать, и очень любила сладости. Довершением ее недостатков стала любознательность, из-за какой девочка брала в руки то, что ей запрещали трогать, лезла туда, куда не стоило, и нечаянно причиняла новый и новый урон семье, рано или поздно ломая всё, с чем играла. Ее горячее желание приносить пользу тоже нередко оборачивалось бедой. Дядюшка Жоль до сих пор не мог забыть, как он весь дом обрыл в поисках своих очков, – и в результате их выудили из кувшина с неожиданно прокисшими сливками: добрая девочка хотела, чтобы они посветлели, ведь тетка мазала с этой же целью сливками лицо. Медная оправа еще сильнее пошла пятнами, семья осталась на полгода без масла, а Маргарита искренне недоумевала: как же так вышло. Словом, «девчонка виляла от лени» и «истёрзывала пакостя́ми» Клементину Ботно. Но тетка Маргариты не сдалась да лет за пять, заставляя свою нерадивую племянницу заново чистить утварь, выметать как следует сор из углов или по третьему разу натирать половицы, наконец «приучила ее к чисто́те». Ровно полгода назад, после того как Маргарита достигла возраста Послушания, Клементина Ботно вменила ей в обязанность «выручку»: выручать семью и вместо нее, тетки, стирать каждый день, в любую погоду, простыни из постоялого двора. А погода как раз тогда испортилась, и началась холодная, дождливая пора.
Из-за этих простыней в шестой день восьмиды Нестяжания и вышел скандал. Хозяйка постоялого двора, найдя дыру в простыне, обвинила в порче прачку, то есть Маргариту. Сварливая Мамаша А́гна появилась после полудня у зеленого дома Ботно, вереща и требуя денег. Как не лебезила перед ней тетка Клементина и как не отпиралась Маргарита, из опасения потерять надежный доход Клементине Ботно пришлось раскошелиться, чего она, рожденная с единственным Пороком, Сребролюбием, ненавидела делать. После ухода неопрятной Мамаши Агны, тетка попыталась настегать племянницу той самой простыней. Это вышло ничуть не больно, но, плача от обиды, Маргарита забралась на чердак, подняла за собой приставную лесенку, спряталась за ящиками у стога соломы и теперь боялась спускаться вниз.
Досаднее всего юной красавице было то, что шестой день восьмиды Нестяжания являлся днем ее рождения. На первом году, сорокового цикла лет, ей исполнялось четырнадцать, и по закону Орензы она становилась невестой. В такой день девушке-невесте дарили дорогие подарки, вечером богато накрывали стол и приглашали гостей, а для аристократок устраивали балы – первые в жизни балы. Маргарита всего этого не ждала: в семье Ботно день рождения не был поводом для застолья, ценные подарки она уже получила к возрасту Послушания, гостей жадная тетка никогда не собрала бы, но из-за того что почти никто не вспомнил о столь важном событии, девушка вконец опечалилась. Филипп после намеков сестры сказал, чтобы она не отвлекала его от грамоты. Старший брат, Синоли, пропал в лавке, куда Маргарите не без причины запрещали заходить в отсутствие дяди. Сам дядя с дедом Гиби́хом спозаранку отправился на телеге к двум другим рынкам города искать что-нибудь интересное для маринования. Вспомнила о дне рождения племянницы только тетка Клементина, и то, когда кричала на нее. Звучало это так:
«Даже не намечтывай себе сегодня про дары! Одни бедствия от тебя!» – вопила тетка и стегала стены собственного дома, пытаясь достать до юркой девушки плетью из злосчастной простыни.
Маргарита вздыхала от огорчения, сидя в полумраке чердака. Ее подарком в этот день были сладости, какие она сама набирала по одной штуке в лавке, – и всегда выходило не менее тридцати шести лакомств. Да и посещать лавку, где всё ей казалось сказочным, непонятным и безумно любопытным, девушка очень любила. Там вдоль стен свисали колбасы, нарядные гирлянды круглых сухарей и аппетитные гроздья вяленых плодов. На темной полке белели сыры, в бочонках мокли три вида яблок. Затаив дыхание Маргарита приоткрывала крышки горшочков на длинном прилавке, обнаруживая то сладкие оливки, то маринованные апельсины, то квашеные сливы. И, конечно, ее всегда пугала большая, стеклянная бутыль – в ней, среди горчичного рассола, плавали страшноватые птичьи яйца, похожие на человечьи глаза.
Дядя Жоль гордо хвастал, что он хоть раз замариновал и засахарил всё, что годилось в пищу. Он засаливал фрукты, а в сладком сиропе томил овощи. Выходило вкусно, но вид чеснока среди персиков или порея в меду ужасал посетителей лавки. Торговал Жоль Ботно и сластями, и аптечным товаром, таким как сахар или приправы – подобные ценности хранились в закрытом на ключ шкафчике у прилавка. На шкафчике же нарядно толпились разноцветные наливки в округлых, длинношеих склянках. Только из-за этой крепкой и сладкой выпивки лавка еще не разорилась: как верное средство против желудочных хворей ее охотно брали в дорогу постояльцы Мамаши Агны да жены ремесленников, жившие по соседству. Недооцененным оставался лишь горьковатый зубной эликсир Жоля Ботно – настоянное на травах куренное вино. Сладкоежки Маргарита и Филипп никогда не имели забот с зубами, используя кисть из свиной щетины, меловой порошок по вечерам, угольный по утрам и, конечно, полоща рот этим эликсиром. Впрочем, бедняки баловали себя сахаром нечасто, крайне редко страдали от зубной боли, и гнилые зубы, означающие достаток, у иных бедолаг даже вызывали зависть.
Парадной стороной дом семьи Ботно и съестная лавка в пристройке выходили на грязный проезд, с двух сторон облепленный двухэтажными каркасными домишками. Проезд брал начало от рыночной площади возле старинного храма Благодарения, после огибал с обратной стороны здание мирского суда и оканчивался напротив постоялого двора Мамаши Агны. Отличалась эта проезжая улочка тем, что не имела названия. Обычно ремесленники предпочитали селиться рядышком, например, на Бондарной улице, где все делали бочки, или в квартале Плотников. Постоялый двор как раз разместился в конце шумного квартала Кузнецов (и оружейников, и чеканщиков, и цепочников, и много кого еще). Кустари объединялись в братства по ремеслу, в гильдии, после чего ревностно следили за тем, чтобы в городе не объявились соперники. Лавку того, кто им мешал и кого они не приняли в свои ряды, «братья» могли попросту сжечь, несмотря на то, что поджог был наитяжким преступлением. Дельцы с годовым доходом от десяти золотых монет платили лишний золотой управе, зато закон относил их к торговому люду и позволял им свободно торговать, но даже они старались не переходить дорогу братствам по ремеслу. Три старейшины сочиняли устав гильдии, собирали мировой (примирительный) суд, определяли размер торгового сбора и взимали все подати, они же избирали главу гильдии из числа наиболее богатых ремесленников – тот входил в патрициат города и писал торговые законы. Деньги из казны братства тратились на содержание святого дома, на проведение ритуалов, на различную помощь. Вступивший в гильдию получал защиту, вольности (льготы), уверенность в будущем. Дядюшка Жоль пытался войти в гильдию аптекарей, но не смог получить разрешения Экклесии на торговлю болеутоляющими опиатами. Важному священнику из храма Возрождения не понравились товары лавки и ее расположение.
«Священный цветок требует почтительности, – заявил тот. – Его нельзя продавать среди сыра, бедности и бранных слов».
Так дядюшка Жоль остался торговцем различным товаром и уплачивал сбор даже меньший, как если бы торговал настойками с соком мака, был вынужден брать снедь у гильдий, видоизменяя ее, но из-за аптечного товара боялся, что его лавку однажды сожгут. Однако аптекари в нем соперника не признали, и лавка потихоньку жила на улочке отверженных гильдиями ремесленников, на улочке, где можно было справить башмаки, а не ходить в квартал Сапожников, здесь же купить горшки и заказать любую нужную вещицу. Горожане, недовольные выбором, редко совали сюда нос, поэтому для лавочников постоялый двор Мамаши Агны стал местом поклонения не меньшим, чем храм Благодарения на другой стороне Безымянного проезда: Агна направляла к ним покупателей – незадачливые кустари пропивали заработанное в ее трактире.
________________
Невеселые мысли Маргариты прервал шум – чердачную дверцу в полу приподняла русоволосая голова Филиппа.
– Так и знал, что ты тута, – сказал десятилетний подросток, подтягиваясь на руках, карабкаясь и забираясь на чердак без лестницы. – Ну чё ты? – спросил он, проходя к сестре за ящики и присаживаясь на корточки напротив нее. – Тетка уж не бушует. Эт она послала меня сыскать тебя. Сказала, что ты можешь ходить в лавку, токо ни с чем там не игрывать, чтоб не вышлось как в тот раз.
«Тот раз» – это когда восьмилетняя Маргарита рассыпала мешочек с дорогущим черным перцем и, чихая, разбила большую и тоже дорогую бутыль, полную замаринованных яиц. К пущему несчастью, именно в тот момент в лавку зашли два услужника, распрекрасный щеголь и супруга канцлера Лиисема – четырнадцатилетняя графиня Она́ра Помо́нонт, самая обворожительная из всех именитых дам Элладанна. Один Бог знает, как синеглазую изнеженную красавицу занесло в тот день в грязный квартал и зачем она заглянула в съестную лавку. Аристократка увидела на полу хаос из стекла, маринада и яиц, непрестанно чихавшую девчонку и по-бабьи причитавшего толстяка, от горя стискивавшего свой жесткий, синий, округлый колпак. Дядюшка Жоль низко поклонился знатной даме, нахлобучил колпак, желая скрыть лоснящуюся розовую лысину с нелепым клоком волос на лбу, и растекся в улыбке. Вот только он не успел толком расправить свой головной убор и в скособоченной шляпе стал выглядеть настолько комично, что графиня звонко рассмеялась. За ней захохотали и услужники, и красавец-барон А́рлот Ибернна́к, сопровождавший графиню. Внезапно знатная девушка тоже чихнула – да так громко, что посрамила бы портового возчика. Она принялась доставать платок из кошелька, когда снова чихнула, слабее, чем ранее, но смущающий слух звук донесся будто бы из-под ее юбки – Онара Помононт устремилась прочь, ее свита последовала за ней, переглядываясь и поднимая брови.
На следующее утро дядюшке Жолю принесли взыскание за грязь в лавке в десять золотых монет! Обучение Оливи стоило золотой в год, а на оставшийся альдриан вся семья Ботно год питалась, одевалась и посещала храм по благодарениям. Из той же одной золотой монеты, равной тысяче серебряных регнов, платились подати и сборы. Ботно пришлось заложить дом, выгрести все сбережения, продать украшения, специи из лавки, ценную утварь и любимую стеклянную вазу для пирожных тетки Клементины, доставшуюся ей от покойной бабки. И даже тогда они не набирали необходимой суммы. Гордость дома – угловой буфет, находился под угрозой сбыта за бесценок. Тетка Клементина орала, что если бы была возможность продать Маргариту, то она загнала бы ее за самую мелкую орензскую монету – за медный регн, да никто и столько не предлагал за «трехло́котную разбойницу». Она требовала от мужа избавиться от девчонки, отдать ее в приют или просто выгнать на улицу – сделать бродяжкой без рода и прав. Тогда девочка впервые услышала от тетки, что она, Маргарита, преступнорожденная, что она, вообще, никто для своего дяди и что он заботится о ней потому, что много лет назад, похоже, положил глаз на ее мать, а тетка Клементина не удивится, если однажды найдет «пу́таницу» на дядином ложе. Восьмилетняя Маргарита, уже год как взрослая, ничего не поняла ни про глаз, ни про ложе, ни про похлебку-путаницу. К большей злости Клементины Ботно, напуганная девочка с тех пор ревела и отказывалась убирать хозяйскую спальню – боялась даже заходить туда из опасения, что тетка прогонит ее, заявив, что нашла похлебку на тюфяке. Недавние воспоминания, как на пути в Элладанн она с братьями ночевала на улице, питалась травой и боялась всех вокруг (особенно тех странствующих актеров, которые помогли им попасть в город), мучили Маргариту по ночам, не давая заснуть, ведь бродяг, не платящих податей, закон не защищал – их мог калечить или убить любой. Из-за этого, подражая ремесленникам, бродяги объединялись в банды и редко когда ходили поодиночке. Городские стражники то не замечали нищих, позволяя им просить милостыню в дневной час Нестяжания, то хватали их просто так, чтобы повесить на Главной площади.
Недостающую золотую монету одолжил кузнец Ни́нно Градда́к, чья сестра Беа́ти, несмотря на разницу с Маргаритой в год, стала ее лучшей и единственной подругой. Нинно отдал наследство отца, тоже кузнеца, и не торопил с возвратом долга. Дядя Жоль успокоил Маргариту – сказал, что не сдаст свою сердешную дочку в приют и не прогонит ее в бродяжки, вот только ей придется сильнее стараться, чтобы умилостивить рассерженную Клементину Ботно. Но как бы ни усердствовала в дальнейшем Маргарита, натирая кухонную утварь, и сколько бы ни трудилась по дому, из-за утраты зеленой вазы тетка больше не дарила ей ни улыбки, ни доброго взгляда.
Вот потому, услышав то, что ей можно пойти в лавку, Маргарита удивилась и недоверчиво посмотрела на брата.
– Клянуууся, – сказал он и улыбнулся, скорчив «очаровательное личико», за какое Филиппу всегда прощались шалости. – Да, тута еще… С нарожденьем, сестричка! – выпалил подросток и быстро чмокнул Маргариту в щеку.
– Ты забыл… – обиженно пробурчала Маргарита, но немного улыбнулась. – Кабы бы не вопли тетки Клементины, ты бы и не вспомнился.
– Спомнился! – уверенно заявил Филипп, прищуривая карие глаза. – К вечеру точна бы. Я ведь дар тебе сготовил. Триаааду старался!
– Ну же, задаривай же! – сразу повеселела девушка.
Филипп встал как поэт: вытянул голову, выставил еще выше пустую ладонь и, таинственно глядя в нее, с выражением стал читать длинный стих. К сожалению, он говорил по-меридиански, и Маргарита ничего не поняла, но ей понравилось, как тонко сочетались звуки, как они мелодично перекатывались леденцом у брата во рту.
– Красиво, – вздохнула она. – И про чего там?
– Что принц с высокой и чистой душою, знатнее и крашее какового свет не свидывал и кто мог бы быться примерум для всякого из мужчин, свезет тебя женою в свою страну, даль-далёко от тетки Клементины.
– Вновь врешь, – рассмеялась Маргарита, а Филипп опять сузил глаза. – Ты вечно щуришься, когда лукавишь… Вот сама как возьму и поучу меридианский – и тогда ты не отделаешься от меня детячей басней про свадьбы лисицы.
– Ничё не вру, – обиделся ее брат. – Я склал эту гимну тебе, старааался… И ах! – твой жених прикатится на белом коню, каковских можно лишь королям и коронапринцам, затем что после он сам будется королем!
– Ну раз так, то я всё же везучая, – улыбалась Маргарита. – Спасибо, братик. Вот бы твоя гимна хоть чуточку сбылась…
Она поднялась, обняла Филиппа, который еще не перерос ее плеч и поэтому казался ей малышом.
– Не обижайся, – поцеловала его в щеку девушка и направилась к квадратному лазу в полу. Ты меня небось, Филли, больше́е и не увидишь, – плаксиво говорила она, опуская вниз лесенку, – тетка или удавится из-за этих десяти регнов, или меня придушит, покудова дяди нету.
________________
Тетка Клементина выпрыгнула из-за угла и схватила племянницу за руку повыше локтя, когда та еще спускалась с чердака. Эта маленькая, тощая женщина стискивала ладонь хваткой палача, и Маргарита попробовала вырваться просто так, прекрасно понимая тщетность своего сопротивления.
– Да стойся же ты! – прикрикнула на нее тетка Клементина. – Там к тебе подружка пришла. Ждет в лавке. Поди тудова и ничто там не тронь, покудова дядя не воротился. Да, еще возьми ведро с тряпкою: натри там полов, а то Беати небось нанесла золы. Скупит на медяк, а ты чисти́ за ею… – ворчала она, грубо отталкивая от себя племянницу.
Красивая, смуглая Беати действительно находилась в сказочном и запретном для Маргариты месте. Равнодушная к диковинам съестной лавки, она весело болтала о чем-то с Синоли, трогая его за рукав. Маргарита не видела их лиц, но спина брата казалась и смущенной, и воодушевленной одновременно.
«Не знаю, что значит братово имя, но Беати – это "счастливая". Беати сама веселая и всех вокруг делает радостными… Синоли и Беати… А они вместе еще крашее: загорелая, яркая южанка и светлокожий, русоволосый Синоли. Хоть бы они сженились – тогда Беати былась бы мне сестрою…» – подумала Маргарита и, обращая на себя внимание, громко опустила деревянное ведро на пол.
– Гри́ти! – воскликнула Беати и подпорхнула к подруге.
Сестра Нинно отличалась очень высоким ростом для женщины: она оказывалась на голову выше почти всех местных лавочников. Маргарита так вообще рядом с ней выглядела девчонкой. Женственную фигуру Беати, ее дерзко приподнятую грудь и тонюсенькую талию, подчеркивал узкий пояс платья, а юбка смуглянки всегда была чуть короче, чем у остальных дам.
«Это всё зола от кузни брата, – объясняла она тем, кто видел ее впервые. – Так и липнет, проклятая, к подола́м».
Недостающая длина в два пальца выше щиколотки дурманила мужские рассудки. Если бы не Нинно, которого все в округе побаивались, Беати не знала бы покоя из-за «докучных докучал». К красавице заранее сватались, едва ей исполнилось двенадцать, но она от всех ухажеров воротила нос. Когда в прошлом году Беати стала невестой, то в дом кузнеца повалили женихи, да вот пускали их не дальше порога. Поэтому Синоли, подмечая несомненное расположение чаровницы, терял голову, не верил своему счастью и благодарил Бога за то, что уродился на полпальца выше этой горячей южанки и тем самым привлек ее. Еще Синоли был уверен, что красота его собственных ног сыграла не последнюю роль. Пока женщины Меридеи, как и циклы лет до этого, носили целомудренные длинные юбки, мужчины еще с тридцать шестого цикла лет гордо выставляли напоказ ноги в узких штанах из раскроенного по косой сукна. Даже землеробы носили предтечи штанов – подвязываемые к поясу чулки. Поэты воспевали красоту мужских, особенно рыцарских, ног; художники с удовольствием их изображали. Дабы ноги казались длиннее, модники выбирали обувь с острыми носами-иглами. Гульфик еще прятали под камзолами, но всё чаще щеголи подчеркивали свое детородное достоинство. Так как нынешняя мода восхваляла плодородие, а наряды аристократов уподоблялись образам зверей и птиц, то с началом сорокового цикла лет идеалом мужской красоты перестал быть «чистый юноша», и вчерашние красавцы увеличивали выпуклость в промежности подкладками, выделяли гульфик ярким цветом или украшали его броской вышивкой.
Среди лавочников, далеких от щегольства, эта новая мода на выпячивание гульфика, «срамного лоскута», тоже считалась срамной. Маргарита, имея некое понимание о различии полов и повинуясь неосознанным чувствам, разделяла это мнение. Синоли тоже его придерживался и всегда носил длинную рубаху, но свои стройные, ровные ноги в узких зеленых штанах нарочно старался выставить в выгодном положении. Еще старший брат Маргариты утверждал, что, хотя он не рыцарь, из-за работы водоносом заполучил эти самые «рыцарские ноги». На безымянную улочку рыцари не заглядывали, поэтому соседи, да и Маргарита, верили Синоли, искренне восторгаясь красотой его ног.
Вот и сейчас, пока Беати приветствовала подругу, Синоли облокотился на прилавок и изящно вывернул свои ступни в грубых башмаках, подкованных деревянными плашками, чтобы смуглая красавица, обернувшись, восхитилась его неотразимостью.
– Гри́ти, – повторила Беати, называя подругу уменьшительным именем. – Да как можно работать в этот день?! Не благо!
– «Не благое – замуж не выйти», как тетка сказала, – вздохнула Маргарита, обнимая Беати. – И еще: «Лентяйка – хуже́е бесприданной невесты»…
– Ой, тогда нажелаю-ка я тебе наискорейшего замужничества… – улыбнулась Беати.
Она подтянула вверх шнурок поясного ремня, на каком болтался кошелек, достала платочек и развернула его – на ее ладони заблестело колечко. Синоли, вспомнив о дне рождения сестры, звонко шлепнул себя по лбу.
– Вот, это дар от меня и братца, – сказала Беати, передавая кольцо и снова обнимая подругу. – Нинно сам его смастерил. Это жуть чистое серебро! Глянь, как оно ярчает!
Кольцо подошло к безымянному пальцу правой руки. Маргарита залюбовалась его изящными линиями, тем, как оно смотрится, как блестит и украшает ее пальчики. В своей страшноватой кузне, избе из почерневших, сложенных с зазором бревен, Нинно ковал грубые, прочные вещи: подковы, детали для телег и топоры. И вдруг такое утонченное творение с рисунком из ирисов – цветов красоты, чистоты и силы. Ирисы еще называли «лилия-меч», поскольку, прежде чем раскрыться, они напоминали клинок этого благородного оружия. Хотел ли вложить кузнец некий смысл в свой подарок или нет, Маргарита даже не подумала гадать: она лишь разглядывала колечко и едва верила, что ручищи Нинно могли создать это чудо.
– Жалко, но я не могусь его взять, – печально проговорила Маргарита. – Тетка воспрещает брать ценные дары от чужих, тем более от мужчин, а серебряники выставили бы это колечко не меньше́е чем за двадцать регнов.
– Бери много выше́е, – засмеялась Беати. – Брат брал у одного из ихних инструменты́, и когда тот колечко увидал, сулил сотню! А продал бы его и того дороже́е: за сто пятьсят регнов!
– Тогда точно не возьму, – принялась снимать кольцо с пальца Маргарита, но Беати ее остановила и замотала головой.
– Ты чё! Нинно разобидится: он с триаду корпел! Вот сама ему и вороти, а мне уж пора. Еще раз здравляю! Крепко целую! – чмокнула она подругу в обе щеки. – Не забудь ночью нагадать желанье!
– Беати, я провожу тебя, – подал голос Синоли. – Погоди с мушку на улице.
– Тебе же нельзя бросать лавку, – строго сказала Маргарита, когда высокая, но легкая Беати упорхнула за дверь.
– Да ну… – отмахнулся Синоли и плотно закрыл нижние ставни у прилавка, погрузив комнатку в полумрак. – Ничто за три минуты не будется – я мухой. Ну как Беати одной гуливать в ее наикоротющей юбке?! Слухай, сестренка, – вздохнул он, – прости… я вроде забыл и не наготовил тебе дар. Но он у меня будет – наибольшущее торжество в честь нарожденья у нашего герцога дочери! В благодаренье пойдем на Главную площадь, поглазеем на казни под музыку. Герцог наверняка тоже слово скажет. Я слыхал, там уже ложат помост с навесом. Просто так таковские помосты не ложат… Хочешь глянуть вблизи на герцога Альдриана Красивого?
– Очень хочу! Но… вряд ли меня выпустят. Тетка думает, что я простынью Агне спортила, и будет восьмиду злобствовать, что поистратилась.
– Ну ты – эт ты! – обнял ее Синоли. – Ни дня с тобою без беды! Ну, я побёг… Скор буду! Ничё не трогай и не облизывай сласти, а то мне влетит, – добавил он, выходя за дверь. – И не побей ничё! – донеслось уже с улицы.
Синоли помогал дяде тем, что зазывал из широкого окна в лавку прохожих, и, благодаря привлекательной внешности, словоохотливости да умению шутить, он хорошо с этим справлялся. Закрытые ставни говорили горожанам, что лавка не работает, поэтому Маргарита не опасалась, что кто-нибудь зайдет. Она посмотрела в тот угол, что манил ее сильнее всего, – там, на полках, ласкали взор сладости в коробочках, похожие на самоцветы в шкатулках: орешки в карамели, сушеная вишня, цукаты, миндальная халва, всевозможные конфеты, пастилки из кореньев, анисовые леденцы, разноцветное драже, – чего там только не было! Виднелись и какие-то новые придумки ее затейливого дядюшки. В день рождения Маргарита, уединившись в своей спаленке, за раз уминала дарованное «сокровище», а потом засыпала с тошнотой от сахара и меда, но с блаженной улыбкой. И затем ждала еще год этого радостного дня.
Девушка отщипнула маленький кусочек халвы, далее еще один, но после заставила себя остановиться. Она глянула на ведро, протяжно вздохнула и перевела свой взгляд в угол напротив прилавка – на напольные часы, к каким ей тоже запрещали приближаться. Подумав, Маргарита несмело подкралась к этому громоздкому устройству, на колонне-ноге и с солидной подставкой. Часы изображали здоровый, как ящик, грубо выточенный из дерева и аляповато раскрашенный рыцарский замок с четырьмя башенками, балкончиком в вышине и единственными дверцами за ним. Под за́мком висели две гири, сверху росла шатром пирамида из четырех металлических скоб с колоколом внутри и молоточком сбоку, а под балкончиком разместился двойной круглый циферблат – и солнечный календарь, и часы в его центре. Маргарита приложила глаз к оконцу замка и убедилась, что внутри по-прежнему вертятся непонятные ей зубчатые круги. Она перевела взгляд на маленький циферблат часов, огорчаясь, что он двигается влево очень медленно. Вот в храме Благодарения красочный сатурномер (солнечно-лунный календарь) располагал и часовым, и минутным диском, и еще шестью другими. Слушая песнопения в храме, ей нравилось смотреть, как два диска, часовой и минутный, одновременно перемещались влево, отмеряя время службы в семьдесят две минуты или три триады часа.
А здесь, в лавке, механизм внутри рыцарского замка крутил единственный часовой диск – дневные деления на календаре приходилось подвигать к северной стреле меридианского креста вручную, тем не менее столь важная для верующего вещь являлась чрезвычайной ценностью. Поначалу «замок» даже установили в гостиной, где он пробыл до первой полуночи, до того как все в зеленом доме подпрыгнули на своих постелях из-за непонятного звона. Когда Маргарита, одевшись, вышла из спальни, ее дядя под ворчание супруги уже выволакивал часы из гостиной.
– Год делится на восемь частей – восьмид, по числу Добродетелей и Пороков, – сказала вслух Маргарита. – И день поделен на восемь часов от полуночи и на восемь часов от полудня. Восьмида года и час дня еще делятся на три части – на триады. Есть триада часу и триада восьмиды, но триаду восьмиды всегда зовут просто «триада» без уточнениёв. Всякая восьмида года начинается с календы, первого дня первой триады. Вторая и третья триады начинаются с дня, каковой звать «нова». Все триады окончает благодаренье, а ихняя середина – это медиана. Прочие дни в триадах именуют в честь планет. Сегодня день сатурна… – улыбнулась Маргарита. – Мой день нарождения – это первый день сатурна первой триады Нестяжания, завтра же ступит день солнца, день перед медианой. В медианы тоже надо бы бывать в храме, как и в благодаренья, но мы по медианам остаемся в дому, ведь и за службу надо упло́чивать, и после жертвувовать, а тетка Клементина жадная…
Она замолчала и прикинула, сколько же тетка будет вспоминать порванную простыню. В прошлый раз Маргариту в наказание не взяли в храм, оставив ее молиться дома, поскольку службы по благодареньям с песнопениями хористов под чудесную музыку были главным развлечением для небогатых жителей континента Меридея.
– Вокруг нашей планеты Гео сперва крутится Солнце, затем второй идет Луна, – продолжила разговаривать сама с собой перед часами Маргарита. – Неправедной жизнью мы близим Солнце и Луну, а праведной – нет. Светила, хоть и ходят цельный год по-разному, в конце всякого года едва расходятся, а мы все едва не гибнем. Если мы, верующие меридианцы, все вместе будем стараться не грешить Пороками по календарю и часам, то навлияем на ходы светил: они разойдутся, ступит новый год и мир спасется от гибели, – это и есть наша меридианская вера. И, конечно, со своими Пороками, данными нашей плоти при нарождении, нам тоже нужно бороться, иначе наши души падут с Небес в адовы ровы наказаний! Итак, сперва солнечный календарь. Год зачинается с восьмиды Веры – это первая людская Добродетель, а ее противположность – это последний человечий Порок – Уныние. Всю восьмиду Веры надо столь велико веровать в Бога, что при молитве плакать от счастия блаженным плачем. Уж что-что, а плакать я могу… Лучше́е меня после началу года никто не плачет! В Великое Возрождение я на всякий случай еще день старалася – всё плакала и плакала… И благодарила за это Бога, конечно… Восьмида Веры окончается празднеством Перерождения Воздуха, после чего – весна и восьмида Смирения. В эту восьмиду надо бороться с Тщеславием. В конце восьмиды Смирения празднуют Весенние Мистерии. Сейчас уже шесть дней, как пошла вторая весенняя восьмида – восьмида Нестяжания, а ее Порок – это Сребролюбие. После нынешней восьмиды нас ждет празднество Перерождения Воды, и ступит лето. Первая летняя восьмида – восьмида Кротости, ее Порок – это Гнев. После празднества Летних Мистерий, пойдет вторая летняя восьмида – Трезвение, и надобно бороться с Леностью. Следом, после празднества Перерождения Земли, – осень и восьмида Воздержания с Пороком Чревообъядения. В эту восьмиду блюдят пост: не пьют вин и молока, не кушают мяса, сыра и яиц. После Осенних Мистерий – вторая осенняя восьмида – Целомудрие с Пороком Любодеяния… В эту восьмиду тоже пост… но никак не повязанный с кушаньями… Дядя мне лет пять назад обещался сказать, как раз когда мне сбудется четырнадцать, чего же это за пост. Надо бы не забыть и спросить его сегодня… Осень окончает празднество Перерождения Огня – и начинается восьмида Любви, а с ней зима. В эту восьмиду надо сильно-сильно бороться с Гордыней, затем что это последняя восьмида года и нас всех ждет Судный День и его страшенная Темная Ночь – это сорок шестой день Любви, последний день в годе. В полночь Темной Ночи луна и солнце наближаются и еле-еле расходятся. Если ночь не превратилася в день, то минувший год мы вели себя скорее праведно, чем нет, – и заслужили проживать еще год. Дьявол и демоны изводят огроменные силища в Темную Ночь, чтобы светила всё же столкнулися, конти́ненты сдвинулися, на Гео пролилися кипящие дожди с лавою и в итогах ступил вечный мрак, – чтобы все люди сгибли из-за грохоту, потопу и землетрясенья, а после с голоду и холоду в вечном мраке, затем-то даже короли стоят в храмах на коленях и молят, чтобы у Дьявола ничто не вышло. Мы, Ботно, тоже всей семьей молимся на площади перед храмом Благодарения, пусть и стоять два часа зимой на коленях, даже в лиисемскую зиму, жуть холодно и мёрзло, но никто не жалувается. Ровно в полночь Темной Ночи ступает самое великое торжество – миг Возрождения: Солнце и Луна расходятся, демоны и Дьявол исстрачивают все свои силы – и нечисть до конца первой триады слабая да ничуть не страшная. Так люди побеждают молитвою самого Дьявола! Но в конце всякого цикла из тридцати шести годов небесные светила уже не близятся, а летят друг к другу. Из-за этого Божий Сын умирает в мучениях, чтобы развести светила и всех нас спасти. Если бы не громадная сила от его досмертных страданий, то давно ступил бы Конец Света, ведь человек слаб, грешен и ему не всегда удается вести себя так, как велят календарь и часы. Мы все стараемся, конечно, но одних людских усилиев уже не хватает, да еще и Дьявол козни строит. В Великое Возрождение Божий Сын сперва гибнет – и тут же возрождается душою в своем годовалом сыне, – так начинается новый цикл лет из тридцати шести годов до новой гибели нового Божьего Сына. Меридианцы за свое спасенье так чтят его подвиг, что нет святыни больше́е, чем златое распятие. После Возрождения все радуются и обнимаются. Даже в обычное Возрождение плачут от счастью в первый час после полуночи и возносят хвалы Богу, – вот так совстречают новый год, вторую зимнюю восьмиду Веры и ее Порок Уныния… И как можно унынивать, когда едва переживал Темную Ночь и близкую гибель? – поджимая губы, с недоумением покачала головой девушка. – Верно, что унынников ждет в Аде Пекло, а гордецов и богохульников – нечистоты. Так вам и надо! Вот праведные люди радуются всю первую триаду Веры, не работают и ходят по ярмаркам. Даже войны перерываются на всю зиму, на все восьмиды Любви и Веры… А окончается зима празднеством Перерождения Воздуха. В Лиисеме пробуют молодое вино, в городе распускаются миндальные деревья, в лесе – нарциссы, и случается «Бал Цветов». Хоть бы одним глазком поглазеть на бал в замке герцога Альдриа́на… – прикрывая веки, мечтательно вздохнула Маргарита. – А на Весенние, Летние и Осенние Мистерии жгут ведьму. В эти празднества стаётся встреча стихий. Знание, каковое дал нам вместе с верой первый Божий Сын, оно учит, что всё на свете – это стихии и их смеси, но Вода никогда не мешается с Огнем. Только в человеке намешиваются все четыре стихии, как и в Боге. Священники говорят, что нам свезло и что не ценить страдания – гневить Бога, тяжко грешить неблагодарностью, а то и Унынием. Вообще, я многого не понимаю в знании, но это неудивительно – смеси стихий так сложно познать, что священники учат Богознание годов пятнадцать, я же лишь четыре урока Боговедения имела… Так, а что там мне дядюшка про часы сказывал? – стала вспоминать девушка, напрочь позабыв об уборке и разговаривая сама с собой. – С полуночи или полудня берётся первый час. С полудня идет служба в храмах, значит: первый час – это время Веры, и надо молиться. После службы идет час жертвуваний в храмах – прихожане должны бороться со своим тщеславием: больше́е жертвувовать на Священную войну, заботиться о распространенье веры и спасении мира, отказывая себе в новом наряде или в прочих вещицах, за́видных, конечно, но губящих душу, – это время Смирения. Третий час – время Нестяжания. После храму нам надо бы подмочь милостынью убогим, а в будни не явить корысти. С трех до четырех, как говорит дядя, люди окончают работу, получают плату или сосчитывают выручку, – мы не должны гневаться, а кротко принять то, что заслужили: четвертый час – время Кротости. С четырех до пяти… Нууу, – протянула девушка, трогая циферблат, – об этом часе тетка позабыть не даст – в это время ступает рассвет, и одни лентяйки почивают после пятого часу. Пятый час – это час Трезвения. Утром и вечером до конца пятого часу надо поспеть позавтракать и пообедовать, ведь затем ступит шестой час Воздержания. Кушать с пяти до шести – снова близить светила, и Экклесия воспрещает в этот час трапезы. А после часу Воздержания – седьмой час Целомудрия… Чего же воспрещают в час Целомудрия? Мне вечером в этот час, с шести до семи, надо започиваться. Последний восьмой час – время Любви. Днем надобно с любовью пойти на службу в храм, а ночью в это время уже спать. Когда человек спит – он всех любит: вот это и время Любви. А гордецы и бездельники еще не спят, не боятся лунного свету и мыслят о ересях всяковых… и за это будутся плавать в нечистотах после смерти!
Довольная собой и тем, как она хорошо всё помнит, Маргарита заговорщически улыбнулась часам. Мыть пол девушке не хотелось, поэтому она провела пальцем по циферблату, нарисовав крест и соединив четыре Добродетели.
– Все мы, люди, нарождаемся только с Добродетелями, но несем крест из дурных и добрых склонённостей, – пояснила она свои действия. – Этот крест у всех разный: может бывать как у меня – три Порока и лишь одна Добродетель, а может бывать как у тетки Клементины – три Добродетели и всего один Порок. Но у уймищи людей, как у Синоли, Беати, Филиппа или дядюшки Жоля, – по две Добродетели и по два Порока. Дьявол норовит сменить наши Добродетели в Пороки, чтобы мы спускались к Унынию, а он смог сжечь наши души, иначе адово Пекло затухнет без неверующих в Бога душ, как без дров. Покудова, конечно, таковых душ у него хоть отбавляй – все безбожники из Сольтеля туда отправятся, но он всё равно от мериде́йцев не отстает. А если будешь веровать и сбережешь свои Добродетели, то душа после смерти вновь попадет в Рай: станет облаком или прибудется в вечной радости в Элизии, или даже станется Божьим светом. Знать бы, чего я такового наделала в прошлой жизни, что заслужила три Порока, – грустно проговорила Маргарита. – Нужно бы почащее бываться в храмах, чтобы не взращивать свое Уныние… Но как там бываться, когда тетка жадится даже на четвертак?! – горячо возмутилась девушка. – У нее-то, как и у Нинно, всего один Порок в кресте! Устала она, виделишь ли, радоваться на розовых островах небесного Элизия и возрождиться во плоти удумала. И теперь заявляет, что ее душу опять тудова возьмут, затем что она верует в Бога, верная мужу да неленивая, – все ее Добродетели при ней, и она может жадничаться, сколько хочет! Только о себе и думает! Сейчас восьмида Нестяжания! – обиженно выговаривала часам Маргарита. – Всю нынешнюю восьмиду надо удовлетво́ривать себя малым, питать ненависть к роскошам всяковым, подавать обездолённым и точно не бить простынью свою племянницу из-за десяти регнов в ее день нарожденья! Могла бы и простить мне эту простынью да не губить весь род людской! Но нееет! Из-за этаких вот жадин, как моя тетка, и тянет наша планета к себе луну, а я вот, когда выйду замуж, буду бываться в храмах и в благодаренья, и в медианы, – спасу мир, а после смерти тоже пойду в Элизий! Так и вижу, как тетка вытаращится, когда меня тама узрит!
Топнув ногой, девушка гневно выдохнула, посмотрела, куда указывала тонкая северная стрелка меридианского креста, и прочитала текущее время:
– Три часа и середина первой триады часу – время Кротости и борьбы с Гневом. Ну вот… – расстроено произнесла она и похлопала глазами – Из-за тетки я тоже нагневалась, нагрешила и наблизила Конец Свету…
Маргарита печально вздохнула, задумалась о том, вела ли она себя праведно в течение дня, и, решив, что за исключением несвоевременного гнева вполне справилась с трудной задачей быть меридианкой, опять повернулась к часам, поскольку в них имелась одна очень любопытная забава: вверху замка, за дверцами, жила принцесса, и она носила розовое платьице. Синоли рассказывал, что в полдень куколка, выезжая на балкончик замка, под звон колокола раздает воздушные поцелуи, а Маргарита еще ни разу не видела куколку, так как часы появились недавно. Добрый дядюшка почему-то тоже не пускал именно в полдень свою шаловливую племянницу в лавку.
– Свезло тебе, – сказала девушка часам. – Я б тоже хотела живать себе в замке. И к полудню пробуждаться тоже… Пусть даже это и порочно…
Маргарита еще с минуту постояла у часов, по очереди приложила один глаз ко всем нижним бойницам замка, попрыгала в попытке найти розовую затворницу, но затем сдалась. Она полюбовалась чудесным подарком на безымянном пальчике, а после решила, что не стоит мыть пол в такой красоте. Тогда, недолго думая, девушка сняла колечко и схоронила его на высоком балкончике принцессы.
Нехотя Маргарита подбрела к ведру, хорошо отжала тряпку и принялась за половицы. Задача ей выпала не из легких – тряпка должна была быть почти сухой, а пятен и грязи на полу хватало с избытком. «Может, если я всё отчищу, то тетка не нажалувается дяде Жолю про простынью, и я испробую все-все вкусные вкусности», – мечтала Маргарита. Но вскоре она заскучала.
– Монеты Орензы – это регны и рексы, – натирая тряпкой засохшее пятно, продолжила разговаривать Маргарита в пустой лавке. – Регны бывают маленькими – в один регн, медные или в серебру, а бываются большие монеты в десять регнов из одного серебра. Рексы же из золота, на них оттиск короля в короне. В нашем Лиисеме еще есть золотые альбальды и альдрианы – монеты с ликом наших герцогов. Все меры веса и деньги сродни мерам времени. Один регн весит восемнадцать ячменных зернышек; восемнадцать годов – это половина цикла лет и четверть века человека. Восьмида цикла лет – четыре с половиной года. Дядя сказывал, что раньше́е еще чеканили такие серебряные деньги: тоненькие и малюсенькие, с мой ноготок мизинца, – они весили ровно четыре ячменных зерна и половину, но уж жуть хлопотно былось ими торговать – и их сменяли на медную монету такового же весу, как и регн из серебру. Итак, самая мелкая монета – медный регн, каковой еще зовут «медяк» или «четвертак», ведь это четверть серебряного регна, хотя он весит столько же, а золотой весит четыре с половиной регна. Но тысяча серебряных регнов равна всего одной золотой монете, ведь золота в мире мало, а серебра мнооого больше́е… Самая великая мера весу, что я видала, – это талант, и он есть на рынке. Этот валун весит столько же, как и тридцать шесть тысяч регнов. Еще на рынке есть камень в половину таланту, есть камень в четвертину таланту, есть в осьмину таланту, есть в унцию таланту и есть гиря равная весу тысячи регнов. Такая и у дядюшки где-то есть… А еще у него есть гири весом в пятьсот регнов и в сотню регнов, а для аптечного товара дядя ложит на весы монеты. Белой солью тоже можно упло́тить – обычно ее продают по весу медяка, но бывает и дороже́е. Дядюшка говорит, что скупать соль по медяку выгодно, но тетка ругается, когда он так делает: говорит, что для хозяйства нам и грязная соль сгодится, а ждать, покудова опять подымется цена на белую соль, долго… Чего еще я знаю? – развлекала себя девушка, лениво протирая пол. – В кружке, в какой пиво продают за медный четвертак, в ней вод на десять чарок, в чаше воды на полкружки, а в чашке – половина чаши или четверть кружки. В винной амфоре – тридцать шесть бутылей, в бутыли же – три чашки, в бокале – две чарки, в кубку – восемь чарок, а в кратере, что тот же кубок, только большой, тридцать шесть чарок. На службах в храмах на алтарь ложат не чаши, скорее три кратера: с вином, с пилулами и для пожертвуваний… Дядя говорит, что знать пьет из кратера, передавая его по кругу, затем что аристократы боятся отравлений. Еще он говорит, что кроме кубкового кратера есть и иные – огроменные, в каковых богачи разводят вино с водою, бросают фиалковые, лавандовые или розовые лепестки, приправляют туда сахеру, а порой и перцу, и анису, и шафрану, и мускату, и кардамону, и можжевелых ягодов. У аристократов во всякой пище и напитке не меньше́е двенадцати пряностей – вот как они богатые. Но мне бы и ихнее вино не понравилося, – уверенно заявила девушка, переползая к очередному пятну. – Жалко, дядя не знает, сколько в том огроменном кратере вместится вод. Раз он не знает, то и я… Зато я еще знаю, что в ведре – двенадцать кружек, в ушате – два ведра, в бочонке – три ведра, а в бочке – тридцать шесть ведер. В самой большой из бочек, в тунне, – тысяча кружек воды. А еще тунной зовут вес на тысячу тысяч регнов…
На улице вовсю разгоралось весеннее, жаркое солнце Лиисема, и вскоре девушка упарилась от духоты: не развязывая тесемок под подбородком, она скинула чепец на плечи, выправила косу и утерла рукавом лоб. Выжимая тряпку, она слышала, как открылась дверь и кто-то уверенно вошел в лавку, но не обернулась. Думая, что это Синоли, Маргарита сердито сказала:
– Воротился! Я уж назаждалася тута тебя…
– Не ожидал, что ты по мне скучала, блохоловка… – услышала она отдаленно знакомый, с ноткой ехидцы голос.
Посреди лавки стоял ее повзрослевший сужэн Оливи. Он по-прежнему одевался модно, в безупречно чистую одежду. Длинные рукава его верхнего камзола и конец капюшона висели сосульками с узлами на концах, голову покрывала маленькая шляпка с остроконечной тульей, ноги обтягивали двухцветные штаны, а поверх тонких сапог с длиннющими носами-иглами он еще носил сандалии на деревянной платформе, чей стук девушка приняла за топот грубых башмаков Синоли. Русые волосы Оливи, чуть более темные, чем у братьев Маргариты, плавно удлинялись ото лба к плечам; справа их кончики лихо завивались наружу, слева – внутрь. Гладкие щеки молодого щеголя сообщали, что по дороге к родному дому он не преминул зайти к цирюльнику.
За шесть с половиной лет, что Маргарита не видела своего сужэна, сын невысокого Жоля Ботно и его маленькой супруги, так вымахал, что опередил даже Синоли. Правда, Оливи сильно поправился, хотя до отца ему было еще очень далеко. В свои двадцать лет он стал холеным молодым мужчиной, несколько изнеженным и рыхловатым, радовал глаз здоровым цветом лица, и в то же время казалось, что он выпил излишне много воды. Небольшой животик выдавался над его дорогим поясом из кожи, латунных блях и изысканного проволочного плетения. В ушах столичного модника, в центре его мягких мочек, приютились маленькие сапфиры.
Оливи Ботно быстро огляделся, равнодушно скользнув взором по замку-часам, после чего его карие глаза остановились на юной красавице и помутнели, будто заплыли маслом. Ей же не понравился этот взгляд. Сужэн сразу показался Маргарите противным, несмотря на добрые черты его лица: Оливи унаследовал от матери широкий рот и нос с мясистой «луковицей» на кончике, во всем остальном он поразительно напоминал Жоля Ботно.
– Тоскаааа… – протянул Оливи, опуская с плеча большую дорожную сумку. – Ничего здесь не изменилось… А вот ты, Грити, сильно переменилась, – подошел он к Маргарите, застывшей на коленях с тряпкой в руках. – Ну-ка, встань-ка, дай тебя рассмотреть.
Маргарита похлопала глазами, отползла назад, вскочила на ноги и, ничего не отвечая, бросилась через боковую дверь в кухню, оттуда – в обеденную, из нее – в гостиную. Тетка Клементина, щурясь в мужнины круглые очочки, водруженные на ее носу у «луковицы», старалась починить простыню. То, что хитрый процесс полностью ее поглотил, говорил кончик языка, торчавший в уголке приоткрытого рта.
– Тетя Клемтина, теть Клемтин! – выпалила Маргарита, нечаянно взмахнув мокрой тряпкой. – Оливи тута!
Крупная капля щелкнула тетку по носу, и та захлопнула рот, прикусив язык, но лишь слегка скривилась. Она не стала кричать на Маргариту – небрежно отшвырнула рукоделие и, подбирая ноги, резво побежала навстречу любимому сыну, который уже шел к ней, раскрывая объятия.
Маргариту немедленно отправили купить курочку – и теперь уже она бежала к храму Благодарения, на рынок, пока тот не закрылся, после чего она одна в кухне ощипывала тушку, радуясь, что птичник хоть голову курице свернул. В это самое время Клементина Ботно, Синоли и Филипп, расположившись в обеденной, «разминали желудки» цветочным заваром с медом и слушали рассказы Оливи о чудесном Бренноданне. Маргарита, когда уставала вращать вертел с курицей, подходила к приоткрытой двери между кухней и обеденной – тоже слушала через щелку занятные истории сужэна. По словам этого помощника нотариуса, он с избытком познал блистательную столичную жизнь, среди знати, рыцарей и неописуемой красоты содержанок, влиятельных как советники короля и столь же уважаемых в свете, как и замужние дамы.
«Странно, – думала Маргарита о рассказах Оливи, пока поворачивала вертел перед огнем очага и вдыхала одуряющий аромат жарившейся птицы, – мне Бренноданн помнится иным: темным и мрачным. Наверное, это затем что я хорошо помню Портовый город и Хлебный. Оливи же наверняка живал себе в Белом городе или даже в Золотом, вместе с аристократами. Батюшка говорил, что столица Орензы, как продувной трактирщик, поит медами лишь тех, у кого водятся деньжата, а бедноту потчует дрянью и жиреет с нашенского обману».
Тетка, в свою очередь, рассказала сыну, что к их соседу, косторезу, пока тот пил у Мамаши Агны, в дом залез «проходимец» из того же постоялого двора, надругался над его дочкой и после исчез из города. Кто он и откуда был, никто не знал. Так что тетка Клементина радовалась, что в доме появился еще один мужчина, а то ей было страшно. Еще тетка добавила, что «эта Гелни», дочка костореза, сама была виновата в своем позоре, поскольку по благодареньям не носила чепчика, и что ныне ее никто не возьмет замуж. Подслушивавшая у двери Маргарита не поняла, какой позор имела в виду тетка, но решила, что теперь уж точно никогда не выйдет на улицу без чепчика, раз даже забравшийся в дом проходимец ругается и негодует так сильно, что и замуж потом можно не выйти.
«Хорошо, что у меня есть мой добрый дядюшка, – вернулась к очагу Маргарита и начала крутить вертел за ручку. – На радостях, что Конец Света нас миновал, он купил мне после Великого Возрождения на ярмарке красного отрезу, какового как раз хватило на чепчик. Я этот чепчик берегу. Я еще ни разу его не надевала, ведь красный – это жуть дорогой цвет, но для герцога Альдриана Красивого я его надену. Конечно, если меня пустят на казни. А потом и по благодареньям его носить будуся…»
________________
Клементина Ботно считала, что ее супруг избаловал Маргариту, быстро прощая ее – свою любимую дочку (оттудова все пакостя́ и бедствия!), поэтому тетка воспитывала племянницу в двойной строгости, ничего не спуская ей с рук. Так что наказание Маргариты к обеду не закончилось – за прятки на чердаке ей пришлось одной кушать в кухне, зато от запеченного яства она получила крылышко: тетка великодушно обделила себя угощением, а Оливи съел курицу за себя, за мать и за отца, вероятно, позабыв о том, что хорошим мясом его семья питалась по благодареньям и празднествам, довольствуясь в будни колбасами, говяжьими хвостами или даже козлятиной.
«Дядюшку – вот кого надобно сожалеть, – утешала себя девушка. – Ему мяса вовсе не осталось. Тетка ему заявит: "Кто ходит обедовать последним – тому кости". И он кричать, наверное, будет… Лишь бы не плакал!»
Жоль Ботно получил сухой и горячий гумор, но на стыке с влажностью и не в высшей точке горячести, то есть у него имелось два гуморальных сока – желчь и кровь. Желчи всё же было больше, да и Луна наградила Жоля Ботно не только порочной склонностью к Чревообъядению, но и к Гневу. Беззлобный и веселый нрав подарило ему рождение в седьмом месяце Вакха, по той же причине он имел тягу к выпивке и загулам. Таким образом, добряк дядюшка Жоль мог то ярко краснеть от возмущения, то взрываться от гнева, то спьяну ронять слезы, – вот Маргарита и переживала, как он воспримет то, что ему на обед достались кости. Она была бы рада до его возвращения отмыть поддон, куда капал ценный куриный жир, но тетка отправила ее убрать спальню Оливи, да «всё тама наблестеть, а не вилять от лени, как завсегда».
Дядя Жоль и дед Гибих, пьяные, развеселые и шумные, явились аж после начала первого часа, нарушая закон Элладанна «О запрете блужданий в будни с полуночи и до утреннего колокола». Заехав на задний дворик, разгружать тележку-двуколку они не стали – лишь распрягли старую кобылу пегой масти, и дед Гибих, налив кляче воды да накидав ей свежего сена, полез спать на сеновал.
Этот дед не имел никакого родства с семьей Ботно. Никто не знал, сколько ему было лет и чем он занимался до того, как необъяснимым образом поселился во дворе их дома. Маргарита помнила, что лет пять назад дядя привел его из трактира Мамаши Агны и уложил ночевать на сеновале. Больше дед Гибих не уходил. Он стал выполнять нехитрую работу: колол дрова и ухаживал за пегой лошадью Звездочкой, а также заменял собой сторожевых собак, которых тетка Клементина не терпела, считая, что от них только блохи, грязь, излишние траты да бесстыдство. Деда Гибиха она, правда, тоже терпеть не могла, но боялась с ним ругаться.
И зимой и летом дед появлялся в одной и той же одежде: в безрукавке из грязной овечьей шкуры поверх засаленной деревенской рубахи и в вонючих кожаных чулках с грубыми швами по центру ног. Один из швов разошелся на коленке, а дед Гибих так и ходил. За его поясом всегда торчал топор. Зато волосы старик держал в опрятности и заплетал их в тонкую косичку; свою гордость – белоснежную бороду, доходившую ему до внушительного плотного живота, дед расчесывал каждый час. Высокий и по ширине равный дяде Жолю, но сильный как бык, дед Гибих вызывал у Маргариты смесь страха и симпатии. Он мог наговорить грубых и обидных шуток, а мог прийти на выручку, например: отжать досуха «проклятые простыньи». Единственный, кто души не чаял в деде Гибихе, – это был, конечно, дядя Жоль. Дед Гибих никогда не отказывался от выпивки, и под мухой они становились отличной компанией. Дядя Жоль, пьянея, еще сильнее добрел, но его тянуло буянить: петь песни, заигрывать с красивыми и некрасивыми торговками или задирать молодых парней. Вот тут и пригождался дед Гибих. С крепким стариком, таскавшим за поясом топор, мало кто желал лезть в драку.
Пока его добрый друг кряхтел на сеновале, дядя Жоль выпил колодезной воды прямо из деревянного ведра и, напевая под нос, направился к пристройке, прозванной в семье беседкой, хотя она больше походила на широкое и длинное крыльцо под навесом, огороженное сетчатой шпалерой для виноградной лозы. Едва Жоль Ботно открыл дверь в дом, как сразу натолкнулся на жену, уткнувшую кулаки в бока, поджавшую губы и гневно уставившуюся на мужа.
– Чего так раное?! Чего ж не поутру явился?! – закричала она, когда тот полез целоваться: Жоль Ботно всегда так делал, и шумное неистовство его супруги обычно сменялось тихим ворчанием.
– Клементиночка, душа моя, уймись, – ласково сказал дядя Жоль. – Цельный день на жарище… Ну выпили там… кхм… спустеееньку. А слухи экие в городу, ох! Не знаешь, во что вериться… Вот, выя́снивали… Да всё пустое – и слава Богу! Ну чего ты? Полно срамиться… Иди ко мне…
Он попытался ее обнять, но тетка Клементина вырвалась и снова закричала:
– Скока щас временей, знаешь?! Полуночь уж твои часы нагремели, чтоб им треснуть! Трезвону по цельного дому! В узилище он еще не годил? Под суд захотел?! Я тута истёрзалася вся, а он слухи по пивнушкам выя́снивает! Небось не без девок яснял! Всё своё житьё я верною женою ему тружуся! Как в четырнадцать у того храму совстречала, – ткнула она пальцем в стену, – так всё для него: стирываю, стряпаю, дом в порядку держу! А он мне: то дурацкую лавку, то племянников, то старого пьяницу приволок. Оливи когда в Универсет отбылся, ты мне чего обещивал? «Вот примет сынок науки, и в Бренноданн тож поезжаем! И в Реонданн, и в Ориф, и в Идэ́рданн с Марти́нданном! Напоживаем для себя». Напоживали! Давай, Клементина, корми и разодевай тута всех, не пойми на что…
Дядя Жоль, не дослушав жену, завалился в дом и сразу отправился в кухню, где обнаружил Маргариту, оттиравшую золой поддон от куриного жира.
– Дочка! – растекся он в улыбке и обнял племянницу так крепко, что она чуть не задохнулась. – Невестушкой моя дочка, моя красавица, сталась! – расцеловал толстяк Маргариту в обе щеки, обдав ее перегаром, отчего она снова потеряла дыхание. – А чего эт ты тута начищашь? Никак курочка или даж кролик сегодню к обеду поспелися?! Тащи сюдова мясцо немедля, а то я щас тебя как заглочу!
– Прости, дядюшка, но мясу нету. Только вчерашняя чепуха, – извиняясь, словно это она сама все съела, тихо ответила Маргарита.
– Так! – гневно изрек дядя Жоль, отпуская племянницу. – Чего поделовать-то? Тащи то, чего есть… В лавке хоть душу отвела?
Маргарита снова виновато улыбнулась и помотала головой, а дядя Жоль сорвал с головы синий колпак, смял его и загремел на весь дом:
– Клементина!!!
– Чего тебе? – показалась его жена, уже спокойная и не расположенная к ругани. – Не буянь, Жоль, соседей побудишь. Чего опять стряслося?
– Я ж сказал тебе: пущи племяшу в лавку! У девчонки празднество, а она сызнова твои горшки всё тирает!
– Да не ори ты. Я токо хотелась так сделать, как явилась Агна. Грити ей простынью спортила, и пришлось упло́тить десять регнов! Затем я ей сказала, чтоб полов там натерла. Ну вот, думаю, что после и дозволю ей сластёв набрать. Да тут событьё, дорогой, – расчувствовалась Клементина Ботно, и ее темные глаза увлажнились. – Событьё таковое, дорогой мой!
– О, авось твое событьё и впрямь стоит того, что для меня в моем же дому нету мясу! – грохотал дядя Жоль. – Для меня! Мужа!! Мужчины!!!
– Дорогой мой, ну тихо ты. Наш сыночек, наш малютка Оливи! Он воротился! Может статься, даже насовсем. Уж верно надолгое!
– Приветствую, папа! – послышался за спиной дяди Жоля голос.
Готовый к объятиям Оливи раздвинул руки и шагнул к отцу, но осекся под его тяжелым взглядом, остановился и нервно дернул губами.
– Присадись! – строго приказал дядя Жоль, оглядывая броскую одежду сына. – Присадись и сказывай: чего стряслося. Проигрался в карты? Кости? Обворовал хозяина и побёг? Иль чё хуже́е? Выкладывай!
Чтобы не испачкать тунику, дядя Жоль, принимаясь за еду, низко наклонил голову над миской с чепухой – густой похлебкой, а Оливи сел напротив него за кухонный стол. Тетка Клементина устроилась рядом – от переполнявшей ее любви, она порой поглаживала сыну плечо. Маргарита притихла в углу кухни, позади своего сужэна, стараясь бесшумно отчищать поддон.
– Да ничего со мною не «стряслося», пап, – мягким голосом язвил Оливи. – Это нотариус, у которого я работал, «побёг» из города, едва услышав, что Лодэтский Дьявол захватил Реонданн и пойдет вверх по реке. Другие тоже разбегаются из Бренноданна кто куда. Даже пешком уходят, бросают в городе всё добро, лишь бы оказаться подальше от Лани. Вот я и здесь…
– Значит, всё ж таки правда… – задумался дядя Жоль и тут же изрек: – Чепуха! Не взять им нашу столицу! Ладикэйцы уж разок поскололи зубы о стены́ Бренноданна. Я мальчонкой шести годов былся, а помню это: и как осадили Бренноданн, и как пущали камней в стены́ Хлебного и Портового городов, – да всё зря! И как поспело войско с югов, и как тогда подня́ли пехотинцы Альбальда Бесстрашного ладикэйских рыцарёв на копья. Вот и щас у них ничто не выйдет, каковых бы дьявулов они не наня́ли. Складет Ивар Шепелявый остаток зубов у стена́х нашей столицы. Даст Бог, и голову свою там рядом с Лодэтским Дьявулом складет. А что экие храбрецы, как ты, сынок, разбёглись, – эт ничё. Горожане Бренноданна и без вас выставят против ихних сотню тысячей мужчин! Иль даже больше́е… Нет! – убежденно тряхнул он ложкой. – Не взять! Чепуха!
– Пааап… – раздраженно поморщился Оливи. – Ты будто в позапрошлом цикле лет застрял – всё теперь в Меридее поменялось. Больше не воюют копьями и стрелами, как тридцать шесть лет назад. Войско Лодэтского Дьявола имеет много ружей, разные пушки и другие пороховые орудия, но главное: они прямо с кораблей, от самого горизонта, пускают какие-то громовые бочонки и рушат ими стены городов. И для этих бочонков не нужны пушки, только катапульты с тетивой, поэтому они не ждут часа, пока остынет ствол, чтобы вновь выстрелить. Бочонок этот, как говорили, весь объят огнем, летит с ужасным свистом, а спереди имеет стрелу – когда она вкалывается куда-то, то случается взрыв, равный в своей силе удару ядра из стенобитной пушки, а то и мощнее! Из бочонка же разлетаются камни и железный сор – так лодэтчане уничтожают сразу множество людей, другие испуганно бегут… В Реонданне тоже не верили, что город будет взят. Лодэтский Дьявол дал им время в три дня, чтобы сдаться, после начался настоящий Ад – так рассказывали все, кто уцелел и бежал. Эти варвары, лодэтчане, сначала уничтожили корабли нашего короля Эллы в морском сражении, затем пустили огонь на крепостные стены – и уже к закату смогли обрушить их. В дыму, словно черти, они появились в Реонданне и шли по еще живым, истекающим кровью защитникам города. Если Бренноданн не сдастся, то и с ним будет то же самое: его разграбят, убьют всех мужчин и даже мальчиков, надругаются над женщинами и пойдут дальше – вверх по Лани! Наверно, и досюда доберутся!
По спине Маргариты от этих слов пробежали мурашки. Она перестала тереть поддон и испуганно посмотрела на дядю. Тот теребил свою округлую бородку и, казалось, тоже был напуган рассказом сына. Все молчали – тогда девушка решилась спросить:
– А кто это? Лодэтский Дьявол… Человек ведь, да? Иль демон?
Оливи развернулся к ней и посмотрел как на полную дуру.
– Это герцог из Лодэнии. Слышала о такой стране?
Маргарита отрицательно мотнула головой. Оливи усмехнулся и стал терпеливо ей объяснять:
– Лодэния – это королевство на самом севере, даже севернее Аттардии, состоит из полуострова Тидия, больших островов Мора́мны и Орзе́нии, и еще из множества островов поменьше. Морамна и Орзения – огромные. Оба острова по отдельности такие же, как наша Оренза, но только на четверти Орзении можно жить, остальная часть этого острова лежит за Линией Льда. Самый восточный остров Лодэнии – это Дёфёрс, – там тоже никто не живет, но не из-за холода – этот остров отделяет Лодэнию и весь наш меридианский мир от земель северных варваров. Нигде мы так близко не граничим с Варва́рией, как в этом месте Лодэнии. Сами лодэтчане тоже еще наполовину варвары, дикари и язычники, так как приняли веру всего три цикла лет назад. Говорят, что они даже тела усопших не всегда предают огню, а просто зарывают их в землю, и всё! С Меридеей соединен лишь один полуостров, и то узеньким перешейком, – это полуостров Тидия, где вотчина Лодэтского Дьявола, поэтому лодэтчане, хоть и зовут себя меридейцами, на самом деле живут на островах, а не в Меридее. Соседствует Лодэния только с королевствами Ладикэ́ и Бронта́ей, – как раз у того скалистого перешейка. Других соседей у Лодэнии нет. Сирмо́зское море разделяет Лодэнию и Бронтаю, Банэ́йское море разделяет Тидию и остров в форме кита-убийцы, Аттардию. На северо-востоке Лодэнии – великое море, заключенное как в чашу островами Лодэнии и берегом Северной Варварии. Это море, вернее, океан так и называют – Малая Чаша. Несмотря на то, что большая часть этого океана за Линией Льда, Малая Чаша, вопреки законам природы, не замерзает. По Малой Чаше не плавают и айсберги, как по Банэйскому морю. Долго мог бы говорить… Про Водоворот Трех Ветров у пролива Пера́, например… Если кратко, я хотел сказать, что Лодэния это одно из самых защищенных природой королевств: этот край оберегают горы, водовороты и даже Линия Льда, – поэтому Священная война там никогда не велась и к ним так поздно пришла вера, а сами лодэтчане отстали и в культуре, и в искусствах, и в науках от других королевств Меридеи. Только воевать они и умеют.
Маргарита, восхищенная глубиной познаний Оливи, приоткрыла рот, а тот, глядя на красавицу, продолжил говорить с усмешкой и гордостью в голосе:
– А теперь ближе к тому, о ком ты спрашивала. В двадцать шестом году Бронтая начала войну с Лодэнией, дабы отхватить юг Тидии, графство Ормдц – тот самый узкий перешеек, потому что у Бронтаи нет прямого выхода к Фойискому и Банэйскому морям. Их корабли идут к нам через воды Лодэнии, порой очень опасные, особенно из-за Водоворота Трех Ветров, полного бурь, а его никак не миновать. Получив узкий перешеек, они бы прорыли там канал, отделили бы полуостров Тидия от Меридеи, и их торговые суда коротким да безопасным путем ходили бы круглый год прямо к острову У́тта, что меж Ладикэ и Аттардией. Бронтая стала бы еще могущественнее и оспорила бы первенство самой сверхдержавы Санделии. Годом ранее Рагнер Раннор отправился воевать как наемник на остров Бальтин и даже не подумал защищать земли своего рода. Война Лодэнии и Бронтаи с зимними перемириями, победами и отступлениями затянулась на шесть лет, вот только война пила соки из Лодэнии, а Бронтая развивалась: оружейники Бронтаи сделали лучшие бронзовые пушки в Меридее и даже придумали ружья без фитиля. Я тогда в Университете учился, и там никто из магистров не сомневался в победе Бронтаи, но Лодэтскому Дьяволу стало некого убивать на Бальтине, и он вернулся домой. И двигало им не благородное желание защитить земли своего рода – иначе он вступил бы в войну раньше, а не спустя шесть лет, – он хотел крови, и всё. Поэтому, наплевав на зимнее перемирие, преступно воевал в восьмиды Любви и Веры. Магистры знаний нам говорили, что отсталый Бальтин это не Бронтая и что варвар будет посрамлен, однако бронтаянцы сдались уже через год – когда Лодэтский Дьявол вышел к Ли́мму и намеревался палить его… Лимм – это такой же город, как наш Реонданн, на реке Фло, а та река ведет через канал к столице Бронтаи, к Номму. Победил же Лодэтский Дьявол, так как всё сжигал на своем пути: сколько бы войск или кораблей против него не бросали, он их уничтожал издалека, откуда до лодэтчан не доставали даже пушечные ядра. В бронтаянцев летели и огненные шары, и огненные стрелы, и эти громовые бочонки, а падая, взрывались даже в воде, и никто не знает, как такое возможно.
– Боже, Оливи, откудова ты всё это знаешь? – изумленно прошептала Маргарита.
Чрезвычайно довольный собой, ее сужэн, закинув нога на ногу и опираясь одним локтем о стол, вальяжно развалился на табурете.
– Есть такие науки, как География и История, Грити, – снисходительно ответил он.
– Какие же занятные науки… – вздохнула девушка и добавила: – Так чего там про Лодэтского Дьявола? Демон он иль человек?
– Ну… я точно не знаю, но вот в Бренноданне говорили, что он человек, однако в юности отправился на Священную войну в Сольтель – и там этот лодэтчанин угодил в плен к безбожникам. Всех остальных пленных умертвили изуверским способом – посажением на кол, а его спас Дьявол, которому нравятся горячие и безбожные земли Сольтеля. Вот так этот лодэтчанин сохранил жизнь, но потерял душу: стал таким же жестоким, как кровожадные безбожники, перестал молиться и веровать в Бога. Спустя год он вышел из песков к нашей крепости у края пустыни, появился со стороны Линии Огня, вернулся из ниоткуда, поскольку, кроме песка, в той стороне ничего и нет. Говорили, – зловеще произнес Оливи, – когда он подходил к крепости, над ним летал стервятник – так он его поймал, прокусил живой птице шею и выпил всю ее кровь, чтобы утолить свою неимоверную жажду… жажду крови!
Маргарита побледнела и нарисовала большим пальцем крестик на груди.
– Еще в Бренноданне говорили, что тайну, как воспламенить порох в воде, он тогда же и узнал от Дьявола за Линией Огня, – продолжал Оливи. – Но священник мне сказал, что хоть тайна огня в воде, бесспорно, добыта из самого Ада путем колдовства, за Линией Огня никто не может побывать: плоть человека спечется и снаружи, и изнутри, едва тот приблизится к ней, да и нет ничего за Линией Огня, как гласит вера, кроме выжженной шапки земли. Скорее всего, безбожники сохранили этому лодэтчанину жизнь, затем он сбежал или его отпустили. Он заблудился – вот и зашел в пустыню, где едва не помер. В стервятника я тоже не верю, но что именно в плену он узнал хитрость, позволившую создать громовые бочонки, – в этом сомнений нет. После возвращения из плена этот лодэтчанин больше не пожелал распространять веру и спасать мир, сразу же покинул Сольтель, не отомстив за братьев по оружию. Набрав голытьбу и висельников себе в так называемое войско, он стал наемником у аттардиев и отправился на остров Бальтин, где убил всех мужчин и мальчиков, оставив жизнь лишь тем, у кого еще не прорезались до конца все молочные зубы и кто еще не получил души. А ведь бальтинцы были не безбожниками, а язычниками. Кто-то уже даже принял меридианскую веру, но он всё равно всех уничтожал без разбора – так алкал убивать и истязать. Аттардии, что шли следом и обустраивали новые поселения, боялись не нападения уцелевших бальтинцев, а того, как бы лодэтское чудовище их самих не казнило. Вот такой человек – хуже Дьявола. И теперь это жестокое чудовище напало на Орензу… А начал он с такого… В эту дерзость просто немыслимо поверить! Прямо в Главный Судный День перед Великим Возрождением он подвел корабли к Орифу, к столице Сиренгидии, и сказал, что с закатом начнет штурм, что прямо с кораблей взорвет город да устроит там Ад! И приказал метнуть к берегу бочонок – и поднялась волна в три роста человека! Легаты городов решили, что лучше сдаться, чем в Темнейшую Ночь гневить Бога, помогать Дьяволу и вызвать Конец Света для всех людей. И пока сиренгцы стояли на коленях, в том числе и воины, помогая Божьему Сыну молитвой, Рагнер Раннор со своими висельниками захватывал крепости. Проходя мимо молящихся, он смеялся, богохульничал и благодарил Бога за то, что тот создал людей дураками. Так все и было: во всей Меридее только он и его головорезы не стояли на коленях, не молились, но занимались разбоем в миг Великого Возрождения! Чудо, что светила разошлись, а его не испепелил Божий Огонь, впрочем, кары от Экклесии он всё равно дождется… Как после такого святотатства сомневаться в том, что этот лодэтчанин продал душу Дьяволу? Священники первыми покинули Бренноданн и вывезли все ценности из храмов, даже сатурномеры. Когда я спросил, почему они-то бегут, мне ответили: «Что стоит такому человеку разграбить святой дом, переплавить святыни или же их осквернить? Он не имеет ни почтения к Богу, ни страха перед ним, ведь его господином стал Дьявол!» Если священники боятся, представьте ужас мирян Бренноданна! С теми городами, что не сдадутся, Лодэтский Дьявол поступит как с Бронтаей или даже как с Бальтином: всё взорвет и убьет всех мужчин, кроме младенцев, а может быть, и их тоже. А всё потому… так в Бренноданне говорили… Это про то, что с ним случилось в плену у безбожников, – понизил голос Оливи, и его глаза, устремленные на Маргариту, слегка загорелись. – Говорят, что он ненавидит всех мужчин, потому что безбожники сохранили ему жизнь, но лишили мужского достоинства – его оскопили, – улыбнулся своей красивой сужэнне Оливи.
Тетка Клементина охнула и перекрестилась (точно так же нарисовала на груди крестик, как ранее делала ее племянница), дядя Жоль, наоборот, довольно хмыкнул, а Маргарита ничего не поняла.
– Чего с ним делывали? – спросила она.
Оливи расхохотался.
– Думал, ты сегодня совсем взрослой стала. Невеста! Пап, мам, что же вы ее не просветили?
– Не лезь к ней! – резко ответил дядя Жоль. – Эка́я еще невеста? Поглянь на нею! Девочка еще вовсе, не то что Беати…
– Нууу… Я бы так не сказааал, – протянул Оливи, и его карие глаза снова стали маслеными и противными.
– Не лезь к ней, говорю! – повысил голос дядя Жоль. – Вот когда будется замуж пойти, Клементина ей всё скажет. А покудова раное… Кх, как бы это натолковать-то… – закряхтел дядюшка Жоль, подбирая слова. – Доченька, – смущенно наклонил он голову и потер клок волос на лбу. – Ты же знаешь… кх… хм-да… что охолащивают петухов, чтобы и мясу сталось больше́е, и жиру… Так вот суть та же, что и Оливи сказал.
– А зачем так делают с людьми? – изумилась Маргарита. – Безбожники кушают людей, как великаны из Варварий?
– Нет, ну же! Сам тебе всё расскажу, а то от батюшки и матушки, похоже, толка не будет, – веселился Оливи.
Тут вскипела тетка Клементина и набросилась на племянницу.
– А ну давай поди отсюдова, да поживее, вертигузка! Ночь уж, започёвывать поди! Подыматься тебе на рассвете надобно, не забыла? Назавтру доскоблишь.
Видя нежелание Маргариты уходить, она схватила ее за плечо и потянула к коридору – ко второму выходу из кухни.
– Ну пожааайлста, – чуть не плача, упираясь и пытаясь освободиться, запричитала девушка. – Ну, тетушка Клементинушка, ну пожайлста, ну не гоните! Я лишь знать хочу: Лодэтский Дьявол нападет на Элладанн или нет? И стал ли он демоном, раз упло́тил Дьяволу душу и этакое ныне вытво́ривает?
– Да экой он демон… – раздраженно проворчал дядя Жоль. – Еще чего не хватало… Демон, дочка, тварь непростая и тихая, да и до золоту демону интересу нету… Сказал же Оливи: безбожники этогова лодэтчанину в Сольтелю сцапали. Предатель веры – вот кто он, – и всё тута! Так жизню себе позорно и сберег: отрекся он от Бога и от меридианского кресту. Наверное, и на распятие плюнул, скотина, если чего не хуже́е, – я слыхивал, что лишь так можно́ уцелеть в Сольтелю, у безбожников-то. А то, что его тама… охолостили, – понизил он голос на щекотливом слове. – Так эт точно, поди, истинна правда! Говорют, он на войну поспел опосля венчанию. Кто б так сделал, как не скопец? Хоть немного-то надо побыться с женою, хм-да… законным дитём понаживаться… И не нападет он на нас, не боись, дочка. Коли возьмет Бренноданн, а я всё ж таки не верю в это, то богатств ему из стольного граду кораблёв вывозить не хватит. Ну а если нападет, то мы ответим! Чего нам до огню в воде? Лани от Элладанна далече! Да у нас всё ж таки тоже пороху есть!.. Всё, тетка твоя правая – почивать уж поди!
– Но дядюшка, а твоя лавка? – умоляюще посмотрела на него девушка, и добродушный толстяк сразу размяк под взором прекрасных сиренгских глаз.
– Ах, чтоб… ничто не поделывать… Пойдем, – отодрал он руку жены от плеча племянницы. – Возьми всё, что хотишь, а скушать и завтра могёшь, а чего и на послезавтру оставь. Зачем всё сразу-то снедать, как ты любвишь?
Они еще не вышли из кухни, когда тетка Клементина присела к сыну и зашептала ему так громко, что дядя с племянницей ее отлично слышали:
– Не глазей ты на эту вертигузку. Добру от нее не будется с ее-то Пороком, с Любодеянием… Я тебе отменную невесту сыскала. Из порядочной и почтимой семьи.
– Красивая? – тоскливо спросил Оливи.
– Богатая! – радостно ответила ему мать.
– Значит, некрасивая…
Это было последнее, что донеслось до Маргариты из кухни, кроме обреченного вздоха ее сужэна.
________________
Дядя отворил дверь в темную лавку – и Маргарита позабыла всё, что случилось с ней за этот щедрый на дурные события день, даже о Лодэтском Дьяволе и о том, что он может напасть на их город. Вот оно – чудесное окончание прескверного дня! Она получит самый лучший на свете подарок!
Но едва дядя Жоль переступил порог, свет от глиняной лампы в его руке вырвал из тьмы картину, от которой громкий, полный боли вопль разнесся по дому. Шедшая следом Маргарита замерла от ужаса: любимые часы дядюшки были сломаны! На полу валялись железные зубчатые кольца, а маленькая принцесса в розовом нарядном платьице и с белокурыми волосами ангела, с каких отклеилась и унизительно обвисла тиара, скособочилась вверху своего замка. Малютку толкало вперед и назад за балкончиком, и она билась головой об дверную створку. При этом принцесса не забывала подносить сразу две алебастровые ручки к лицу и раздавать воздушные поцелуи.
Оцепенев, Маргарита обхватила ладонями щеки и широко распахнула глаза, а дядя Жоль заскулил, как щенок, и, засовывая руки за слишком высокий для него балкончик, запрыгал мячиком у часов, из-за чего под весом толстяка грозили обвалиться половицы. Но, то ли его пальцы были слишком большими, то ли малый рост дядюшки не позволял разглядеть поломку, у него ничего не выходило: он прыгал и жалобно подвывал, принцесса продолжала биться головой о раскрытую дверцу своего замка.
– Чего еще стряслося? – возникло в полумраке настороженное лицо Клементины Ботно.
Дядя Жоль снова заскулил, выше и протяжнее. Оливи раскатисто захохотал.
Тетка Клементина не знала, что ей делать. Ей очень хотелось накричать на супруга из-за этой игрушки, и, наблюдая, с каким трепетом он пытается спасти куколку, она чувствовала смесь из ревности к этой вертушке и из удовольствия оттого, что ту заслуженно колошматило. Но Жоль Ботно выглядел так, словно находился в шаге от сердечного удара или помешательства. Оливи смеялся уже беззвучно, однако смех его распирал и душил. Обхватив рукой живот и согнувшись пополам, он другой рукой иногда бил по стене и говорил:
– Хватит… пожалуйста, прекратите… остановитесь… Я больше не могу… Я сейчас помру со смеху!
Его тетка Клементина тоже не стала трогать, хотя отметила, что сын жесток и что смеется не над часами, а над нелепым поведением своего бедного отца. И тут она увидела Маргариту, замершую с вдавленными в щеки руками и пучившую глаза.
– Сызнову твоя пакостя́?! – стала кричать тетка. – Я знаю, что это ты наделала! От кого еще стоко урону могёт бывать? Лишь от тебя одни бедствия!
Маргарита вместо ответа горестно простонала, словно у нее болели зубы.
Оливи, нахохотавшись, вытер слезы и, еще посмеиваясь, подошел к часам.
– Будет тебе, матушка. И ты, па, отойди. Дай лучше я гляну.
Высокий Оливи доставал глазами до балкона принцессы. Он взял лампу, всмотрелся внутрь и ловко просунул пальцы под крепление принцессы.
– Вот что здесь у нас, – достал он колечко Маргариты. – Милое… И, кажется, серебряное.
– Боже мой, откудова оно тама взялося? – выхватила тетка Клементина колечко из рук сына.
Принцесса, хлопнув дверьми, уехала назад в свой замок – там внутри что-то звякнуло и лопнуло; с дребезжащими звуками на дощатый пол посыпались новые круги и винтики. В довершение всего вниз шмякнулся шнур с гирями, и одна из них стукнула напольную подставку так, будто трость судьи подытожила приговор. Дядя Жоль грузно сполз по стене и сел на пол. Он уныло смотрел на дверцы вверху аляповатого замка, понимая, что они закрылись для него на веки вечные. Тетка в это время увлеченно ковыряла ногтем находку, нюхала металл и в наступившей тишине трижды подкинула кольцо на прилавке.
– И правда вроде бы серебро! – заключила она. – Такового кольцу в нашем дому никто не носит…
– Может, кольцо давно там лежало, – рассуждал Оливи. – Часы ведь наверняка подержанные. Может, прежний владелец прятал в них ценности, да не все выгреб… Иначе кто будет такими колечками разбрасываться?
– И то верное, – согласилась тетка Клементина. – Хоть что-то, наконец, полезное от всех этих твоих затей, Жоль. Завтра снесу его скупщику. Авось выручу хоть с десятку регнов, а то эта простынья…
– Не надо, пожайлста, это мое кольцо. Его для меня Нинно лил, а Беати сегодня задарила, – сгорая от стыда и опуская руки от лица, тихо сказала Маргарита: говоря это, она представила Нинно, сгорбленного в темной кузне, и поняла, что не может не признаться. – Я просто не хотела тереть полов с ним, чтоб оно не счернело. Решила покласть его где-то. И вот… зачем-то тудова. А Оливи пришел, и меня за курицей послали… и я про него забыла. Я вовсе не надумывала дурного: принцесса ведь в полдень кажется, разве нет?
– Вон!!! – не своим голосом заорал сидевший на полу дядя Жоль. Его рука указывала на дверь из лавки на улицу. – Вон! – твердо повторил он.
Маргарита, оглядываясь, несмело пошла к выходу. Из распахнутых от страха зеленых глазищ покатились слезы: девушка представила, как городские стражники ее схватят и повесят в благодаренье на Главной площади за бродяжничество. Она уже взялась за засов, как снова обернулась.
– Спа… сибо, – немного театрально всхлипнула Маргарита. – За всё… За всё, что вы для меня делывали… – вытерла она щеку. – И, тетя… – запнулась она, хлопая глазами и роняя с ресниц очередную каплю. – Беати сказала, кольцо стоит не меньше́е сотни. Вдруг этогова хватит на починку часов… И за простыньююю… – горько заревела девушка.
Шмыгая носом, она было открыла дверь, когда ее остановила тетка Клементина.
– Да стойся же ты, дуреха, – грубовато сказала она. – Дядя твой пьян. Поди, наконец, почёвывай! Вставать уж через три часу – Агна сызнову простыньи натащит!
Тетка Клементина сцапала Маргариту за плечо и вытолкала ее в кухню.