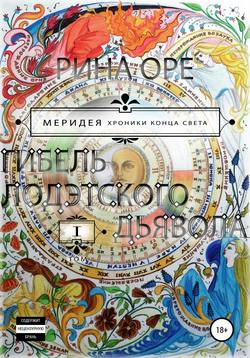Читать книгу Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том - Рина Оре - Страница 6
Глава II
ОглавлениеТоржества в честь герцогини Юноны
Бог создал всех живых тварей неравными – значит, неравенство являлось богоугодным порядком, а духовный закон разделял людей на три общности с правами и на бесправных бродяг. Женщины равных прав с мужчинами не имели; все, кроме вдов, нуждались в покровительстве отца, супруга или опекуна, на худой конец, работодателя, зато, благодаря замужеству, могли улучшить свой статус. Мужчине возвыситься было куда как сложнее, и лишь аристократ свободно выбирал, кем ему быть: воином, мирянином или священником. Воинский путь обещал почет, благосклонность красавиц и расширение земельных угодий. Титул же подразумевал владение не только землей, но и закрепленными за ней землеробами – хватало захудалой деревушки с десятью дворами, чтобы стать бароном (благородным человеком). Выше барона стоял граф – глава округа, еще выше маркграф – глава приграничных земель и вождь своего войска, далее герцог – вождь над графами и баронами своих земель, потом принц – прямой наследник монарха, и венчал всё король, точнее: он стоял первым перед Богом и держал ответ за всех своих подданных. Старший сын герцога получал титул графа и округ, маркграфа и графа – титул барона и надел земли, барона – «титул учтивости» без владения землей. Все младшие сыновья сами завоевывали или заслуживали вотчины, дочерям аристократов доставался титул учтивости, причем, старшей дочери – самый высокий. К примеру, дочь Альдриана Лиисемского родилась первой его наследницей и получила титул герцогини. Чтобы не путать жену и дочь, двух герцогинь, в этом случае дочь называли по титулу и по первому имени, то есть – «герцогиня Юнона», а женам властителей зачастую давали прозвища, как и их мужьям.
Кроме кантона Сиренгидия, земли Орензы состояли из пятнадцати графств, десять из которых соседствовали с рекой Лани, и еще из трех герцогств: из южного Лиисема, из болотистого Еле́ста на северо-западе со столицей в Иде́рданне и из холмистой Марти́нзы в центральной части страны, ограждавшей Лиисем с севера ожерельем из коварных оврагов и топей Гиблого леса. Единственная дорога от Лани на Элладанн шла по ущелью через городок Калли́, через крепость Тронт в предгорной долине и, далее, через Но́нанданн – крупный город с населением в сорок тысяч человек. Городом же считалось поселение с управой, мирским судом и храмом, обнесенное стенами и требующее плату за вход. В основном города Меридеи были небольшими, в них насчитывалось от тысячи до пяти тысяч обитателей, а всего в городах проживало не более одной сотой части от населения страны. Многолюдные города возникали на торговых путях – трактах. Нонанданн, принадлежавший королю Орензы, как раз вырос на перекрестке двух дорог: Западный тракт вел к Луве́анским горам, Южный тракт шел к южному побережью через Элладанн, Ми́ттеданн и городок у серебряных рудников, Фо́льданн.
Прямо за Нонанданном начиналось богатейшее южное герцогство – Лиисем. Меридейцы говорили так: «Если Бренноданн это Белый Король, то Лиисем – самый яркий рубин в короне Орензы». Лиисемцы же верили, что этот край благословил сам Бог: здесь были лучшие пашни и соляные прииски королевства, фруктовые сады и пастбища. Лувеанские горы давали песчаник, известняк и мрамор, Ве́ммельские горы – железную руду, медь и золото. Леве́рнский лес славился ценной древесиной, южное Хине́йское море – крупной рыбой, перламутром и красным кораллом.
Лиисемцы напрочь позабыли о голодных временах, однако в летописи можно было прочесть, что до двадцать седьмого цикла лет эти земли раздирали междоусобные войны, тогда как южное побережье страдало от набегов безбожников из Сольтеля. Всё изменил Олфо́бор Железный. Он изгнал сольтельцев и объединил враждовавшие кланы; и пришел этот рыцарь из Южной Леони́и, из некогда могущественного, полуварварского королевства Антола́. (Здесь же стоит пояснить, что «варвар» – это не дикарь, а чужеземец; варвары жили в двух Варвариях, но также меридейцы могли назвать варваром любого иноземца из Меридеи со странными, пугающими обычаями).
Олфобор Железный не был меридианцем, но принял веру, женился на дочери короля Орензы и присягнул тому в верности. Он же основал новую столицу Лиисема – Элладанн. Древний летописец так написал об этом прославленном воителе: «С незлобивым нравом и чуждый стяжательства, зная, как ратовать, а как мир беречь, явил он и воинский гений, и державный». За то, что безбожники перестали угрожать Святой Земле Мери́диан, Олфобор Железный получил в награду право дополнить меридианским крестом свой герб, Оренза стала единственным королевством в Меридее, поделенным на две епископии, в Элладанне разместилась резиденция епископа.
Конечно, многие местные кланы были недовольны правлением антола́нца, но Олфобор Железный смог сохранить власть и передать ее потомкам: на одних аристократов щедро пролились милости, другие были казнены. Именно с той поры права владения землей еще усложнились, и у нее стало сразу множество хозяев. Над всеми по-прежнему стоял король и от всех своих аристократов-слуг он получал дань, но другой воин первого ранга (принц, герцог или маркграф) мог жаловать титул и земли из своего домена в лен или в феод новоявленному аристократу, а тот мог продавать кому-то еще участки, при этом не теряя главенства во владении землей, как не терял ее и герцог, и король. Титул, как правило, получали или наследовали вместе с воинской повинностью, и тогда имя у аристократа в Орензе заканчивалось на «ннак», что означало «на наказе». Отобрать титул можно было лишь за вероломство, за нарушение клятвы подданного, оттого с детских лет аристократов учили держать слово и не разбрасываться обещаниями. Рыцари, в свою очередь, имели право не присягать на верность даже своему королю, следовательно: воздерживаться от участия в его войнах, несмотря на воинскую повинность.
И у незнатного орензчанина окончание родового имени часто указывало на то, что его предки были славными воинами (окончание «ак» говорило о хороших заслугах, «нак» – о высоких, «ннак» – о героических). Но у большинства незнатных мирян имена в Орензе заканчивались на «о», как «Ботно». Если имя аристократа заканчивалось на «онт» – это переводилось как «он от тех-то земель»: такое окончание имели придворные, получившие титул без воинской повинности. В иных королевствах Меридеи родовые имена также рассказывали историю и статус семей, а могли не говорить ни о чем, например: все санделианцы, знатные или нет, имели окончание имен на «ро». Альдриан Красивый унаследовал имя древнейшего антоланского рода, дававшее ему право на королевскую власть, но лиисемцы предпочли забыть о чужестранном происхождении своих герцогов: вместо Альдриан Валаа́дж, говорили просто – Альдриан Лиисемский. Его жену прозвали Терезой Лодварской, так как она была дочерью короля Лодвара, соседнего с Лиисемом королевства.
________________
Маргарите оставалось надеяться, что и поломку часов дядюшка Жоль когда-нибудь забудет, правда, ей хотелось, чтобы это случилось не через дюжину циклов лет, а намного раньше. Пока же она старалась не попадаться ему на глаза. Убираясь в доме, девушка прокрадывалась из комнаты в комнату с метлой и тряпкой, словно воровала у Ботно их пыль. Быстро и с чувством вины Маргарита одна кушала в кухне, тогда как все остальные домочадцы веселились в обеденной. После вечерней трапезы они собирались в гостиной, а она уходила в свою спаленку под лестницей. Там ее развлечением стали мечты о том, что всё наладится. В ночь своего дня рождения она пожелала, чтобы часы с принцессой починились, чтобы ее саму забрал отсюда тот прекрасный человек из стихов Филиппа, чтобы она перестала наносить урон семье Ботно и чтобы любимый дядюшка ее простил, ведь сердце Маргариты болело из-за того, что ее второй отец с ней не разговаривал. Если они случайно встречались, дядя Жоль словно не замечал свою единственную дочку по сердцу.
Маргарита не ожидала, что ее отпустят в город, на торжества в честь рождения герцогини Юноны. В благодаренье, пятнадцатого дня Нестяжания, ее оставили молиться дома, но по возвращении из храма Жоль Ботно, его супруга и Оливи куда-то засобирались, Филиппа они взяли с собой. После их ухода Синоли гордо зашел в полутемную комнатушку сестры.
– Ну, чего я обещивал! – радостно изрек он. – Мой тебе дар! Я смог их уболтать, и тебе дозволили пойти со мной на площадь.
Маргарита мгновенно подскочила, взяла маленькое зеркальце на ножке и, приставив его на умывальный столик к стене, начала прихорашиваться: расчесывать длинные, непослушные волосы, заново плести косу и примерять красный «выходной» чепец, какой она берегла уже две восьмиды ради особенного случая. Синоли сидел на ее кровати, нетерпеливо вздыхал и раздраженно охал.
– Давай мухой шустри, – торопил он ее. – Беати уж назаждалася. Зачем чесалась, если чепчик напялила?! – искренне изумился Синоли, наблюдая, как сестра прячет под чепец косу. – Ни волоска всё равно не видное!
– Неправда, я выпустила пару прядей у лица, – пританцовывая от счастья, ответила Маргарита и, поочередно прикладывая косынки к шее, стала глядеться в ручное зеркальце.
Выбор косынок был скудным: бледно-голубая или болотно-зеленая, – и ни одна из них не подходила к красному чепцу, похожему на шаперон-капюшон, без пелерины, зато с большим отворотом у лица.
Синоли зарычал:
– Ну чё ты всё вертишься?! Почто тебе платок? Там жара наинесусветнейшая!
– Но, Синолиии, у меня всего одно платье, и я в нем всюдова хожу, – жалобно ответила его сестра. – Я хочу быться красиве́е…
– Зачем?! Герцог Лиисемский как усмотрит тебя на жарище в зимнем платке, так влюбится? Немедля разведется с Терезой Лодва́рской, как с прежней супругою, и женится на тебе, дурочка? – издевался Синоли: из всех мужчин, кто знал Маргариту, он один не замечал ее расцветающую красоту. – С нами будет только Нинно, так что хорошиться тебе не перед кем.
– Нинно! Ты чё мне сразу не сказал?!
– Я его не звал, но он завсегда является с сестрой! Встает меж нами: вот так мы и гуливаем! Слухай, – понизил голос Синоли, – ты это… поулыбайся ему, что ли… Авось он хоть с мушку на тебя отвлечется.
– Так вот зачем ты меня берешь! – гневно воткнула руки в бока Маргарита.
– Да! – с сарказмом подтвердил Синоли, сорвал с ее шеи косынку и потащил за руку из дома.
________________
Горожанки Элладанна сменили будничные коричневые одеяния на убранства всевозможных цветов: от весенне-нежных до по-летнему ярких. Стараясь усложнить свои платья, они заворачивали спереди подол за пояс, приоткрывая контрастную нижнюю юбку и висящий на длинном шнурке вышитый кошелечек. Из головных уборов у замужних женщин пользовались почетом пышные сооружения из колпаков-кубышек и платков, а также чепцы с домотканым кружевом; юные девушки-невесты, хвастаясь длинными волосами, носили венки или обручи поперек лба. Дородные торговки из ремесленных кварталов так сильно стягивали и поднимали грудь, что она плыла впереди них, как нос корабля. Дамы из центра города одевались скромнее, но выглядели даже привлекательнее, – их благопристойные платья будто говорили: «Я скромна, оттого что крайне красива, – вот и прячу себя от недостойных глаз». Маргарита, разглядывая модниц Элладанна, с досадой думала о том, что всё же надо было взять косынку и не слушать брата: пусть ее мучила бы жара, зато она стала бы выглядеть праздничнее. Девушка стыдилась своего заношенного платья из грубого льна, висевшего на ней мешком; ей казалось, что все вокруг замечают штопки на ее одежде. Но, конечно, проходившие мимо мужчины замечали только Беати: в простоватом зеленом платье с укороченной юбкой она, яркая и улыбчивая, оказалась краше всех встреченных дам. Ладную фигуру южанки не испортил бы даже светло-коричневый мешок, какой носила Маргарита. Беати не боялась солнца и не прятала лица, – в это благодаренье она распустила волосы, и они, сияя роскошным отливом, каштановой лавиной текли по ее спине. Тонкая косичка поперек лба, сплетенная из ее собственных волос, украшала голову небогатой красавицы. А рядом с сестрой, впереди Маргариты и Синоли, широкими шагами мускулистых ног ступал Нинно.
Беати и Нинно достались от родителей одинаковые карие глаза, полные губы, смуглая кожа и темные волосы. Эти брат и сестра имели красивые, открытые лица, и если бы Нинно родился девушкой, то выглядел бы в точности как его сестра, – настолько они были похожи. И всё же получились разными: Беати, рожденная летом, всегда улыбалась, лучилась любовью и радостью, ее «зимний» старший брат мало разговаривал и вечно хмурился, из-за чего его недолюбливали в квартале, но и боялись.
«Надо же так человеку не свезти: народиться в Юпитералий, – думала Маргарита, глядя на могучую спину кузнеца. – Правда, Нинно народился в мой самый любимый день в годе, но ему-то от этого не легче́е! Мои три Порока в кресте – это ерунда в сравненье с невезением того, кто не может праздновать свое нарожденье. Никогда! Жуть… Вот отчего он угрюмый – ему никогда даров не задаривали. В Юпитералий Дьявол на два дня выпускает из Ада грешные души, и те понуро сидят у своих останков, ожидая подношений, – это празднество мертвых и живых не чествуют. Народиться в Юпитералий так же худо, как и в Судный День – в последний день года тоже нельзя пиршествовать и веселиться, лучше́е всего сутки ничего не кушать. А народиться прям ночью, в Темную Ночь, даже жутко… Еще плохо народиться в Великие Мистерии – раз в четыре года тебе принимать дары… Но Нинно еще таковой смурый, затем что его гуморальные соки – это черная желчь и слизь. Он имеет высшую точку холода, как тетка Клементина, – вот он и спокойный, и мрачный… Мой же гумор – влажный и горячий, кровяной. Из-за этого я часто лью слезы и краснею, а Нинно, наверное, никогда не плакал и не краснел… Зато Нинно народился в новолуние, и у него лишь один Порок в кресте – Чревообъядение. Кушает он, конечно, мнооого… А еще он народился в месяц Феба, значит, имеет склонённость к искусствам и тонкостя́м всяковым, и если бы народился в семье богачей, то кто знает – колечко-то эким красивым вышло! Да и на подмостках он вроде недурен… Интересно, в этот Меркуриалий он вновь будется Дьяволом в мистерии или ему хоть раз дадут иную маску? Кроме того, он еще народился в восьмиде Веры, и это даровало его плоти склонённость к высоким чуйствам – если он полюбит, то вознесет свою любимую до Небес. А еще Филипп таковым же будется… И герцог Альдриан Лиисемский тоже народился в восьмиде Веры».
Маргарита всё свое отрочество боялась Нинно – раньше он казался ей великаном, даже людоедом из Варварий. Навещая Беати, она часто встречала Нинно, выходившим из кузни: черного от копоти, как демон Ада. В передней своего дома, у сундука, кузнец снимал кожаный передник и рабочую рубаху. Раз десятилетняя Маргарита натолкнулась там на него, когда он умывался, и увидела его мускулистый, словно отлитый из матовой бронзы торс. Никогда и ничуть Маргарита не желала проказничать в его доме, но когда она играла с Беати, то девочки увлекались и обязательно что-нибудь случайно портили. Маргарита лет до тринадцати ужасалась, что Нинно в этот раз уж точно разорвет ее своими ручищами, однако он, уставший и не говоривший ни слова, молча обедал, слушая оправдания девчонок, потом принимался чинить то, что они сломали. Беати твердила подруге, что ее брат очень добрый, вот только Маргарита сомневалась в ее словах. С одной стороны, Нинно беспокоился, кушала ли Беати вовремя, покупал ей всё необходимое и защищал ее. Он имел доходное ремесло кузнеца и унаследованное место в гильдии ковалей, но так как был холост и содержал всего одну сестру в возрасте невесты, которую мог выдать замуж, то получал от гильдии самые недоходные заказы, к тому же в год выплачивал податей и сборов почти на две золотые монеты. На оставшиеся скромные средства Нинно ухитрялся баловать сестру – маленькой Беати он дарил гравированные листы со сказками, а повзрослевшей давал деньги на полотна для нарядов и на мелочную лавку. С другой стороны, из-за холодного гумора Нинно скупился на чувства и никогда их открыто не проявлял. Ни разу Маргарита не видела, чтобы этот «великан» обнял Беати или сказал ей что-то нежное. Синоли и Филипп, хоть занимались в первую очередь собой, могли подойти, поцеловать сестру, обнять или сказать пару добрых слов, отчего у нее теплело на сердце.
В целом, Маргарита нечасто покидала дом, еще реже свой квартал; без сопровождения тетки, Синоли или дяди ей не дозволялось выходить в город, тем более появляться на улице после заката, ведь ответственность за незамужнюю девушку лежала на ее семье. Поэтому сейчас она с жадностью смотрела по сторонам, восторгаясь всем подряд: каменными домами на богатой Северной дороге, черепичными крышами, шпилями с флюгерами, расписными окнами-эркерами и резными ставнями, но прежде всего нарядами горожан. Тогда как все женщины носили длинные платья и удивляли лишь головными уборами, мужчины одевались куда вычурнее, ярче и смелее: несуразные шляпы, пестрые узкие штаны, нарочно неправильно надетые шапероны или камзолы… Молодые холостяки наряжались особенно броско. Нинно в свои двадцать четыре года еще не женился, но не имел склонности к щегольству и носил одну и ту же невзрачную одежду. Тем удивительней он выглядел в это благодаренье: Нинно предстал непривычно чистым, выбритым и коротко подстриженным. На нем краснел новый камзол длиной до колен, сильные ноги обтягивали синие и тоже новые штаны, голову покрывала маленькая шляпа с отогнутыми полями и перышком сзади. От него даже пахло какими-то цветами.
«Все в новье! – грустно думала Маргарита по пути к Главной площади. – Даже у Синоли, похоже, новая рубаха. И этих бурых холщевых сапогов, длинных как чулки, я не припомню. Ну хоть чепец-то у меня новый, и сразу видно, что он-то еще ненадёванный».
________________
В будни, то есть кроме календ, благодарений и торжеств, Главную площадь занимал рынок. С севера площадь замыкал второй главный храм города – храм Возрождения, вмещавший (вместе с Главной площадью) до сорока тысяч прихожан, – исполин, овитый каменным кружевом, вздыбивший спину багряными шатрами-пирамидами, протыкавший небо тремястами шестьюдесятью пятью шпилями и строго поглядывавший витражными окнами в стреловидных арках. Перед храмом находилась огороженная колоннами устрина (место для прощания с усопшими), но именно ею пользовались, когда предавали огню тела аристократов, богачей или наместников герцога Лиисемского, – в такие дни рынок опять закрывали. Внутри храма один сатурномер показывал времяисчисление Элладанна, другой – Святой Земли Мери́диан. В последнем, отмеченным меридиа́нской звездой, а не крестом, нуждались раз в тридцать шесть лет. Когда в полночь Великого Возрождения северная стрела меридианской звезды указывала на первую минуту, первый час, первый день Веры и первый год, по Элладанну разносился звон колоколов. Коленопреклоненные, молившие о чуде горожане начинали рыдать от счастья, зная, что раз они еще живы, то Божьему Сыну опять удалось развести Солнце и Луну. Люди возносили хвалы и радовались, что их спаситель возродился.
С запада и востока Главную площадь ограждали нарядным забором несоразмерно вытянутые по высоте и сжатые по ширине, теснившиеся друг к другу дома зажиточных торговцев; на первых этажах размещались их лавки, на вторых-третьих этажах проживали семьи дельцов. Здесь любил селиться и патрициат – властная верхушка Элладанна из сотни наиболее богатых горожан незнатного происхождения. Патриции возглавляли сразу несколько родственных гильдий и должны были работать ради их блага, но на деле они так писали законы, что обогащались сами. Маргарита с завистью поглядела на дом владельца скотобойни, точнее, на балкон и двух принцесс, своих ровесниц, устроившихся там. Длинные рукава сочно-зеленого наряда шатенки переходили в полубант за спиной, игриво завязанный у самого выпуклого, пикантного места; брюнетка, набросив шлейф розового одеяния на руку, гладила крохотную, беленькую собачку, пушистую, словно комочек снега. Долгие вуали, прикрывая изнеженные лица девушек-невест, ниспадали из их сложных причесок, перевешивались через перила балкона и будто дразнили простых смертных – тех, кому не так повезло, как им. Двух «принцесс» развлекал безусый юноша в столь узких штанах и камзоле, что щеголь выглядел так же неприлично, как если бы вовсе разделся; на голове у этого богатенького счастливчика непонятным образом держалась шляпа с высоченной тульей, прозванная «сахарной головой».
С юга размашистая площадь упиралась в Дом Совета, в ратушу – простоватое и тяжеловесное как крепость, тоже впечатляющее своими размерами здание из грязно-желтого песчаника. Звон с колокольни ратуши оповещал город о времени: тяжелый гулкий бой Толстой Тори́, самого большого колокола в Орензе, отбивал часы, мелодичный перелив колокольчиков поменьше добавлял еще треть часа. С семи часов ночи и до четырех утра колокола спали вместе с Элладанном. Если все колокола били одновременно, то они призывали горожан собраться перед ратушей.
Кроме подсказок колоколов и храмовых сатурномеров, время в жарком Лиисеме можно было определить по разнообразным солнечным часам. Тень на них утверждала, что до начала торжеств – речи Альдриана Красивого и казней под музыку, оставалось две триады часа или сорок восемь минут. Горожане еще собирались на зрелище; их дети резвились у квадратного фонтана в центре площади, где любой желающий мог утолить жажду. Неподалеку от ратуши, с высоких постаментов, взирали на своих подданных два черных памятника. Левый изображал Олфобора Железного – рыцарь, правивший в двадцать седьмом цикле лет, носил кольчугу и длинное, как у женщин, платье; двумя руками суровый воин опирался на меч. На постаменте справа покойный отец нынешнего герцога, Альбальд Бесстрашный, облаченный в доспехи, что уже казались старомодными, возложил ногу на покоренного льва. Еще один лев, из мрамора, сидел над дверью голубого дома златокузнеца Леуно, в полукруглой нише между первым и вторым этажами. Оба зверя имели гриву, но мордой почему-то сильно различались. Живого льва Маргарита видела еще в Бренноданне на ярмарке – он был добрым, напоминал собаку и не скалился, как его неподвижные собратья на Главной площади.
Между двумя памятниками протянулся эшафот с каменной аркадой о восьми столбах – виселица для шестерых смертников. От этих кровавых подмостков и в знойный летний полдень будто веяло холодом, а горожане переставали улыбаться, когда бросали туда взгляд. Эшафота боялись со священным трепетом, ведь там прочно обосновалась Смерть, – никак не меньше цикла лет ни одно благодаренье в Элладанне не обходилось без смертной казни. В пятнадцатый день Нестяжания слева от места казней вознеслась помпезная трибуна с ложей, роскошно убранная желто-красными полотнами с соколами Лиисема и восьмиконечными звездами Орензы; с правой стороны от эшафота сколотили временные подмостки для музыкантов. Барабанщики и трубачи разминались, наигрывая бодрые, незатейливые мелодии. Кто-то в толпе отплясывал, другие распивали вино из фляг, третьи слонялись без дела и знакомились с такими же одиночками. В воздухе витала благополучная, сытая безмятежность.
Когда объявлялось торжество, то по закону Элладанна трактиры отпускали пиво и вина за полцены. Синоли предложил не ждать понапрасну, «наперед одолеть жажды там, где ему завсегда радые-наирадющие» и повел своих спутников в злачную подворотню у Западной дороги. Внутри трактира места уже не нашлось, зато Синоли там, действительно, все были очень рады. Бойкий прислужник лет тринадцати, примечательный разве что лопоухими ушами, их не отпустил: выкатив бочку и четыре бочонка, он устроил своих гостей под палящим солнцем у оживленного проезда, по какому то и дело проносились всадники или громыхали телеги. Договорившись, что задержатся не более чем на триаду часа, Синоли и Нинно сели спиной к дороге, чтобы хоть как-то защитить своих сестер от пыли, летевшей из-под копыт лошадей. Вскоре, исполняя заказ Синоли, прислужник принес четыре кружки пива. Все улыбнулись, радуясь тому, что оно прохладное, и лишь Маргарита скривилась.
– Ты же знаешь, что я не пью ничто хмельное, – с укором сказала девушка брату: каждый раз, когда ей пытались предложить выпивку, она вспоминала отца и его измазанное вонючей грязью лицо – и ее передергивало.
– Не нуди, – раздраженно ответил Синоли. – В Лиисеме с трех годов уж пьют с муху вина, а эт пиво!
Маргарита еле сдержалась, чтобы не зареветь, промолчала и отвернулась от брата. Вдруг Нинно свистнул, подзывая уходившего внутрь трактира прислужника.
– Чего ты хочешь? – спросил Нинно.
– Воды… сладкой… – робко ответила Маргарита.
– Нету, – посмеиваясь, ответил не по годам деловитый юнец. – Да, Боже мужику сотво́рил две беды: бабу и её «вместу пиво́в воды́».
Тут же он стер улыбку под взглядом Нинно.
– Лады, красава, ща для тя чё-ньбудь справим, – сказал прислужник, почесывая себя за оттопыренным ухом. – Но два медяка упло́тите: сахер-то недёшово́й! И за эт пиво, – показал он на большую деревянную кружку, – деньжат не ворочу. Хотишь – хлябай, хотишь – ставляй.
Нинно отдал столько же денег за сладкую воду, как Синоли за четыре порции «веселого хлеба», и минут через девять на бочке оказалась пятая пивная кружка с медовой, а вовсе не сахарной, водой. Маргарита была счастлива. Она послала кузнецу благодарный взгляд, мгновенно застеснялась, встретившись с ним глазами, и молча принялась пить свой напиток. К ее удовольствию, Беати и Синоли болтали без умолку о каких-то глупостях. Слушать их беззаботные беседы Маргарите очень нравилось, но Нинно быстро заскучал.
– Кольцо дрянь вышло? – спросил он Маргариту, разглядывая ее красноватые, в царапинках руки.
– Чего вы, господин Граддак, – смутилась девушка, убирая руки с бочки и пряча их. – Кольцо замечтательное. Просто его тетка покудова прибрала.
Из-за разницы в десять лет Нинно всегда говорил с Маргаритой, будто с восьмилетней девчонкой, на «ты». Она же в начале беседы звала его на «вы», где-то в середине разговора забывалась и общалась с братом подруги как с другом, но только произносила его имя, пугалась чего-то и возвращалась к вежливому обращению.
– Я вам всё щас скажу! – обрадованным голосом воскликнул Синоли. – Твое колечко, Нинно, уж жуть наисильнюще приглянулось еще и дядиной прынцессе.
– Ну не надо, пожааайлста, – взмолилась его сестра. – Ну не говори, прошу… Тебя там даже не былось, и ты ничто не видывал!
Но Синоли всё рассказал, красочно описав прыжки дяди, дурость сестры и гнев принцессы. Впервые на памяти Маргариты Нинно хохотал, откинув голову вверх, она же покраснела, почти как свой чепец. Беати и посмеивалась, и сочувственно глядела на подругу.
– И чего, еще не починили часов? – отсмеялся Нинно, но продолжал широко улыбаться.
– Дядя исползал всей пол, собрал всё до крохи, – ответил Синоли, – но часовых дел мастер сказал, что часы-то авось-либо починяет, но уж без принцессы. И наицелущую сотню регнов за это просил. Впереди Меркуриалий – лишней сотни нету… Да и без принцессы часы дяде ненужные – он как дитё завсегда полудню ждал, когда куколка на балкончик выкатится. За восьмиду, что у него эти часы, он еще не устал хлопать ей за поцелуи… Часы на чердак подняли, но дядя, как глянет в тот угол, так глаз оботрет.
Маргарита закрыла руками лицо под аккомпанемент траурного гласа Толстой Тори и последующего двойного перезвона меньших колоколов.
– Пора, – позвал всех Нинно. – На площади уж не растолкнуться – уж последняя триада часу ступила.
– Ээ, годите, – запротестовал Синоли. – Я ж за пиво Грити упло́тил. Я не уйду, покудова и его не окончаю. Я мухой!
– Быстрее тока… – махнул ручищей Нинно.
– Ты будешься «наикраснющий»! – зло проговорила Маргарита брату, убирая ладони от лица. – И так под «наилучищами» час былся.
– На себя поглянь!
– У меня лицо горит, затем что мне стыдно! Я не хотела так с дядей делать. И кабы могла исправить… Но не могусь… И мне от этого еще хуже́е.
Негодуя, Маргарита больно ущипнула брата за плечо, а Нинно пристально посмотрел на нее и ничего не сказал. Пока Синоли осушал кружку, люди стремительно покидали трактир. Когда шумная компания с хохотом вывалилась на улицу, Нинно решительно встал с бочонка.
– Пора и нам. Пьяницы да мы остались.
– С мушку еще, – ответил Синоли и принялся торопливо глотать пиво, из-за чего в конце концов подавился и зашелся в кашле.
________________
На площадь за последнюю триаду часа набилась уйма народа. Балконы, карнизы, окна, все уступочки, везде, куда только можно было влезть, – всё оказалось обсажено зеваками. Даже крыши облепили оборванцы – эти отбросы общества заняли лучшие места, согнав других горожан. Нинно злился, но молчал. Синоли после лишнего пива было и так «наихорошуще».
– Нет, не хорошуще! И даже не хорошо, – возразила Беати, поднимаясь на цыпочки. – Мне эшафота невидная, не то что Грити. Нинно, пошли до того дому, – указала она на голубой дом. – Та ниша со львом еще пустая. Вон тудова.
– Высота немалая, – нахмурившись, ответил ей брат.
– Я-то заберусь, а после Грити подтяну. Ну а пьяницам – в затылки глазеть – потеха! – гневно, но с любовью посмотрела Беати на Синоли.
Они еле-еле протиснулись к нужному месту – даже Нинно едва раздвигал плотную толпу; Маргарита пряталась за его спиной, потом шла высокая Беати, Синоли замыкал цепочку. Вслед наглецам летели недовольные возгласы о том, что надо было приходить раньше, оскорбления и пожелания скорых бед: добродушные горожане Элладанна разозлились от жары, духоты и ожидания, устали слушать однообразную музыку. Все мечтали, чтобы герцог сказал речь и начались казни.
Не уступая в ловкости театральным акробатам, Беати быстро взобралась на плечи брата, вскарабкалась на портал двери, затем на постамент статуи сидящего льва и втиснулась в нишу. Настала очередь Маргариты.
– Я так не смогу, – запротестовала она. – Я внизу побуду. Всё равно я не люблю глазеть казни. Тетка меня нарочно сегодня выпустила, чтобы укрепить мою веру страхами, а я и без этого верую и боюся. Не полезу!
– Давай! Ты маленькая и худая – тебе тута придется лучше́е, чем мне, – настаивала Беати.
– Тебя задавят, – подтвердил Нинно. – Народу набавится. Я подыму тебя, а ты давай мне на плечия.
Он без усилий поднял ее, держа за талию. Находясь на его плечах и опираясь одной рукой о стену, девушка старалась не думать про то, что ее юбка случайно покрыла голову Нинно, когда она залезала на него. С помощью Беати Маргарите удалось поставить ногу у лап льва. Внутри низкой, тесной ниши девушки присели на спину мраморного животного с разных сторон, обняли его за шею и довольно улыбнулись друг другу: открывшийся вид превзошел их ожидания, а ложа герцога и эшафот оказались так близко!
Место казни, трибуну и подмостки музыкантов ограждали от взволнованного моря из людских голов городские стражники, яркие из-за полосатых по диагонали, желто-красных нарамников – накидок длиной до середины бедра в виде куска ткани, сложенного пополам, с прорезью для головы и без боковых швов. Под нарамниками стражники носили кольчуги, на лицах – железные маски. Еще всадников пятьдесят, преторианских гвардейцев, оцепили свободное пространство площади между эшафотом и ратушей. Эти охранители герцога Лиисемского, обитатели Южной крепости, щеголяли в желтой форме, броских красных плащах, горящих золотом кирасах из стали с латунным покрытием и в таких же «золотых» открытых шлемах, увенчанных алым, будто петушиный гребень, плюмажем. Преторианцам полагалось благородное оружие – меч, сильно укороченный в сравнении с рыцарским; городским стражникам – копье в пять локтей с наконечником, объединившим игольчатое острие и клинок топора. И те, и другие воины пускали свое оружие в ход, не раздумывая, так что горожане не подумали бы их задирать.
Некогда за порядком в Элладанне следили только преторианцы, но после знаменитого в истории города бунта и возникновения патрициата, хранители закона разделились на городских стражников и на преторианцев – привилегированную гвардию герцогов Лиисемских. Стражники стояли на городских воротах, прочесывали в ночное время улицы, тушили пожары и доставляли преступников в тюрьмы. Набирали их из числа горожан, по мужчине от гильдии. Так как в городе насчитывалось триста четыре гильдии, то столько же было стражников, – и этого невеликого количества хватало для поддержания порядка в стотысячном Элладанне, ведь стражники были своими для горожан. Их чтили, так как больше ни к кому, кроме как к стражнику из своего квартала, обратиться за защитой горожане не могли. Тот искал воров, поджигателей, убийц или насильников, поручался за знакомых в Суде и разрешал споры соседей.
Преторианские гвардейцы происходили не из Элладанна – направлялись они на службу рыцарями из числа лучших воинов; они не подчинялись городским властям, и покарать их мог только герцог или его мечник, из-за чего гвардейцы зачастую являлись зачинщиками кровавых расправ да насилия. Отличались они и спесью. Не так давно, прямо на торговой улице, днем, преторианец зарезал за недовольное замечание состоятельного горожанина и не понес за убийство наказания, – вот горожане и ненавидели гвардейцев герцога, и до ужаса их боялись. Эти чувства не переносились на правителя Лиисема: жители Элладанна во всем винили глав преторианцев, прикрывавших перед герцогом своих подчиненных и оправдывавших их злодеяния, тем более что время от времени гвардейцев всё же казнили или ссылали на каторгу. Так, с одной стороны, в Элладанне царил жесткий закон, особенно строгий и несправедливый к беднякам; с другой стороны, тем, кто знал, с кем и как себя вести да смиренно подчинялся властям, тем удавалось избегать неприятностей. В городах даже бедному люду жилось неплохо; одних привлекала безопасность городских стен, вторых – заработок, третьих – возможность подать за что угодно в суд и получить возмещение ущерба, четвертых – развлечения. По празднествам в Элладанне устраивали яркие зрелища, раздавали хлеба или иные угощения, – за эти подарки и обожали своего правителя горожане, поскольку милости куда как более ценимы теми, кто их редко получает.
Появление Альдриана Лиисемского перед своими подданными и его речи сами по себе были значимыми событиями, обсуждаемыми пару триад спустя. Толстая Тори уже издала тройной бой, но роскошная трибуна оставалась пустой. Маргарита никогда до этого не видела своего герцога вблизи и маялась от нетерпения: она боялась, что несчастливая доля ей не изменит и именно в этот день он не приедет. Духота усиливалась, а с ней рос недовольный ропот в толпе, – тем сильнее все обрадовались торжественным звукам труб, под какие появился их долгожданный любимчик – Альдриан Красивый, «блистательный и неотразимый».
Герцог Лиисемский очень понравился и Маргарите: статный, немного загорелый из-за пристрастия к соколиной охоте, с изящными чертами лица, густыми черными локонами и смоляными глазами, унаследованными им от матери из рода Баро, но с раскосым разрезом этих выразительных глаз – таким же, какой был у его отца, Альбальда Бесстрашного. Тонкие губы нисколько не портили герцога Альдриана, ведь когда он улыбался, то становился обаятельным, когда гневался, его рот превращался в тонкую линию, похожую на порез, что через миг наполнится кровью. Герцог Лиисемский всегда пышно и красочно наряжался – вот и в ложе трибуны он предстал перед подданными в переливающемся камзоле, чрезмерно раздутым в плечах и на груди, из-за чего мужчина казался атлетом. На голове правителя Лиисема устроилась невероятная шляпа: ее широкие поля отгибались вверх, а вместо тульи рос высокий, толстый, как сноп, хвост из белых перьев. Золотые перстни, кинжал, пояс и нагрудную цепь раскрашивали драгие камни. Крупный бледный изумруд, Слеза Виверна, блистал искрами света, и они будто исходили из сердца вождя Лиисема.
«Герцог Альдриан походит на сказочную птицу, – подумала Маргарита. – На ту, с обложки бестиария, что делал из цветной проволоки плетельщик с квартала Нинно… Тогда все детишки сбежались глянуть на ту невидаль: на птицу, каковой крашее нету и у каковой сто очей на хвосту, на Павлина…»
Толпа рукоплескала, неслись крики прославления и любви. Отца Альдриана Красивого, Альбальда Бесстрашного, почитали за военные подвиги, за победу над ладикэйцами и за то, что после нее он получил множество привилегий, сделавших Лиисем весьма независимым герцогством. Король Орензы более не мог лишить герцога Лиисемского титула, королевские указы не действовали в Лиисеме без доброй воли его вождя, новый монетный двор начал чеканить собственные золотые деньги с профилем правителей: альбальды при герцоге Альбальде и альдрианы при нынешнем герцоге, – тогда и наступило процветание этих земель. Но люди еще хорошо помнили, какие строгие нравы царили в Элладанне при герцоге-отце. Тогда на эшафот можно было угодить за мелкое распутство, за игры на деньги, за чрезмерную роскошь или даже за чересчур шумную свадьбу. Герцог Альбальд хотел видеть свой народ скромным и благочестивым.
С правлением герцога Альдриана суровые законы стали отменяться один за другим. Альдриан Красивый сам подал пример новой жизни – и будто случилось то, что алхимики Меридеи называли Перерождением Материи: костюмы аристократов из черных, что «чернее черной черни», преобразились в радужные и вычурные. Подражая своему герцогу и его двору, горожане тоже начали носить феерическую смесь красок и полюбили затейливые шляпы. В моду вошли тканые шпалеры с фривольными изображениями, изящная расписная мебель, статуэтки с полуобнаженными красавицами, которым с годами всё меньше и меньше прикрывали волосами груди. Для ткачей, красильщиков и особенно для суконщиков – продавцов тканей, наступили благие времена. А те дельцы, что ухитрились пережить аскезу минувшей эпохи и первыми предложили на продажу роскошь, те сказочно и быстро разбогатели.
Как и его отец, Альдриан Красивый увлекался соколиной охотой, пятым рыцарским мастерством и излюбленной забавой знати Лиисема с незапамятных времен. Столь высоким уважением пользовались эти благородные птицы, что все незамужние девушки мечтали увидеть сокола во сне – получить пророчество о женихе знатного происхождения и воистину рыцарских Добродетелей. Но иное отношение было к диким хищникам, воровавшим мясо на рынках или похищавшим цыплят. Сокол, падающий камнем вниз, являлся символом еретика-богоборца, вероотступника, тогда как воспаривший к солнцу олицетворял язычника, ставшего меридианцем, – именно такого сокола, красного и белобрюхого, обнявшего крыльями солнце, избрал знаком своего рода Олфобор Железный. При его потомке, Альдриане Красивом, случилось непостижимое ранее новшество: на охоту стали выезжать женщины. Пока ловчие пугали уток и цапель, одни красавицы резвились на берегу озера, играя, невинно шаля и услаждая взоры мужчин, другие аристократки пускали с рук пернатых любимцев. В небе разворачивался зрелищный воздушный бой, внизу играли музыканты, плавали за добычей собаки, прислужники устанавливали шатры для уединения и убирали яствами столы. В свободное от охоты время двор герцога «скучал» в замке, на вершине холма в южной части Элладанна, – в белокаменном дворце с голубыми черепичными крышами. На празднества там устраивались грандиозные маскарады и танцевальные балы, какие сочли бы верхом неприличия во времена Альбальда Бесстрашного и неминуемо казнили бы всех «распутников».
Альдриан Красивый стал герцогом в двадцать один год, во второй день празднества любви и счастья, во второй день Венераалия, на двадцать третьем году предыдущего цикла лет. В первом году, сорокового цикла лет, он справил свой тридцать пятый год жизни. Родился же Альдриан Лиисемский во втором году, тридцать девятого цикла лет, в день луны второй триады Веры или двадцать пятого дня Веры, на следующий после Юпитералия день. Он получил от ночного светила в крест склонностей Веру и Трезвение, Любодеяние и Сребролюбие. Двенадцатый месяц Юпитер наделил его властностью и мудростью правления. Его гумор вышел сухим, посреди холода и горячести, а гуморальными соками были желчь и черная желчь, сулящие неожиданные вспышки то гнева, то меланхолии.
Все тринадцать с половиной лет, что Альдриан Лиисемский правил, он получал от звезд щедроты. До весны первого года, сорокового цикла лет, его огорчало только одно. Первая супруга, герцогиня из Санделии, за двенадцать лет не смогла подарить ему наследников, и он с ней развелся, после чего она стала его сестрой, покинула Элладанн и ныне жила где-то на юге. Вторая жена, принцесса из Лодвара, с которой Альдриан Красивый обвенчался три года назад, родила ему вторую девочку подряд.
________________
Герцог Альдриан, появившись на трибуне в желто-красной ложе, приветственно поднял правую руку и обвел толпу глазами. Пребывая в хорошем настроении, он улыбался, показывая ровные, белые зубы. Обратив внимание на красоту Беати, герцог помахал ей и отправил в сторону южанки воздушный поцелуй.
– Нас с Грити нацеловал герцог Альдриан! – радостно закричала вниз брату и жениху Беати.
– Лезла б ты оттудова, – недовольно проворчал Синоли. – А то скупердяй Леуно, хозяин льву, наибольшушущее взысканьё всем нам вдарит. Так и будет: ты же с Грити, а с ней без бед не бывается.
– Синоли! – возмутилась Маргарита. – А чё ты молкнул, когда я сюдова лезть не хотела? Молчи теперь дальшее́!
Из толпы зашикали, требуя молчания от Маргариты тоже: герцог начинал речь.
– Излюбленный мой народ, – начал Альдриан, и его приветствие потонуло в овациях. – Вы, дети Богоблагославлённого Лиисема, его сыны и дочери, – прервал он себя, дожидаясь, пока стихнут оглушительные звуки хлопавших ладоней. – Отрадно мне, что вы собрались праздновать появление у всех у нас наследницы. Да пошлет Всемогущий долгих лет жизни моей второй дочери, да не заберет Смерть герцогиню Юнону до ее венчания, как первую мою дочь, покойною герцогиню Фиэдру, – сделал Альдриан паузу для поздравлений и пожеланий здоровья его потомству. – Отрадно, что мой народ разделяет радость мою и надежду. С той же охотой разделит он и мысли мои, и принятые мною решения. Желал бы я сказать одни добрые, славные слова, но я обращаюсь к своему народу с призывом: мы все должны сплотиться перед грозой, надвигающейся на нас севера!
Альдриан Лиисемский сделал длинную паузу. Толпа молчала, догадываясь, о чем их властитель будет говорить. У Маргариты от тревоги будто свился колючий клубок в животе, а Беати перестала улыбаться.
– Герцог Рагнер Раннор, известный в Меридее как Лодэтский Дьявол, захватил Бренноданн и вскоре вместе с ладикэйцами направится к нам по Лани!
Волна возгласов ужаса и страха прокатилась по толпе; многие перекрестились. Маргарита тоже нарисовала на груди крестик, и Беати последовала ее примеру.
– Не поддавайся страху, мой народ, – продолжал Альдриан. – Я не страшусь – и вам не стоит! Враг не завоевал столицу Орензы: горожане сами трусливо открыли ему ворота всех четырех крепостных стен Бренноданна, напуганные мрачной славой этого лодэтчанина и ужаснувшись небылицами о нечистых силах, что ему помогают. Мой храбрый народ, неустрашимые люди мои, я знаю, что вы на колени не встанете даже перед настоящим Дьяволом, не то что позорники из Бренноданна! Я знаю, что вы не поверите в суеверные слухи, как не верю в них я, ваш смелый вождь и добрый господин! Я, Альдриан Лиисемский, донесу истину истин до тех, кто имеет сомнения! Герцог Рагнер Раннор – он лишь человек из обычной людской плоти! И к тому же один из самых презренных рыцарей Меридеи! Его войско недурно снабжено оружием – это так, но оно состоит не из рыцарей, не из оруженосцев. Его войско – это сброд вольниц, мнящих, что порох им поможет превзойти военную науку! Войско Лодэтского Разбойника ничтожно – всего пара тысяч, а ладикэйцы да их шепелявый король, едва узрят голову Лодэтского Разбойника на острие копья, разбегутся, как трусливые зайцы, каковыми они и являются!
Из толпы раздались хлопки и крики одобрения.
– Страх захватил Бренноданн и подчинил разбойникам! – горячо говорил герцог Альдриан. – Страх – и наш главный враг! А любого другого врага мы одолеем! У нас есть всё для победы: достаточно и воинов, и орудий, мы знаем, как обороняться, как напасть и как погнать варваров прочь! Наша земля тоже за нас: лодэтчане и ладикэйцы – мореплаватели, и не умеют воевать на суше, а вот лиисемцы – напротив! Враг пойдет на нас по Лани, и ему не раз предстоит сразиться по пути до Нонанданна. А там мы его добьем! Остановим разбойников еще в Орензе, до границ Лиисема. Я набираю войско в сотню тысяч копейщиков, не считая рыцарей, стрелков и конников, – войско в сотню тысяч пехотинцев!
Толпа загудела, обсуждая новости со смесью удивления и беспокойства.
– Все пехотинцы будут снабжены оружием, форменными и защитными одеждами, – говорил Альдриан. – Получат мясное довольствие, хлебное и денежное. Они и их семьи освобождаются от уплаты податей. Жалование пехотинца-копейщика – два регна в день, арбалетчика, лучника и ружейника – три, четыре и пять регнов в день, а панцирная пехота получит шесть регнов в день! За триаду – это девяносто серебряных монет!
Под оханье толпы Маргарита подсчитала, что панцирный пехотинец получит годовой доход равный тому, что приносит лавка дядюшки Жоля, да еще и на питание не потратится, и податей платить не будет.
– За пленение Ивара Шепелявого – двадцать пять тысяч серебром! За голову Рагнера Раннора, Лодэтского Разбойника, живую или мертвую, – тридцать три золотых альдриана! И каждому воину за победу еще по золотому! Никто обижен не будет! Добыча – поровну, трофеи – каждому!
Пышное слово «трофеи» прозвучало восхитительно: так и грезились породистые скакуны в сбруе с самоцветами, золотые кубки на золотых подносах, сундуки заморских пряностей… Толпа взревела от радости. Альдриан поднял кулак вверх, приказывая молчать и показывая, что он не договорил.
– Это были добрые вести, любимый мой народ. Впереди нас ждет много трудностей и много невзгод. Храбрые мужи Лиисема, самые сильные и отважные, вскоре отправятся в Нонанданн, – и многие из них не вернутся назад. Все празднества в городе после Меркуриалия отменяются до разгрома врага. Мы с достоинством и гордостью разделим с воинами их тяготы: пока не добьемся победы, в герцогстве Лиисем вводится новый военный сбор, равный подушной, поимущественной и поземельной подати.
Гул ропота и недовольства.
– Сбор пойдет на нужды наших защитников, на питание и оружие для них, – продолжал Альдриан Лиисемский. – Кто собирается слукавить, утаить монеты от казны, тот не только Мою Светлость грабит, а обкрадывает храбрецов, что его спасают, губят себя и проливают свою кровь, но оберегают его жизнь, его честь, его дом! Наказание за такое злодеяние, как и положено, последует жесткое: позорная виселица! Отказывая себе и своей семье в мясе и масле, помните, что их вместо вас получает воин! Тот, кто влачит тяготы и терпит лишения, пока вы сладко спите! Тот, кто бьется насмерть, защищая ваши дома! Тот, кто готов отдать жизнь за ваше сытое процветание после победы! Терпеть придется недолго, и без терпения не обойтись, иначе враг придет в наш город, ворвется в ваш дом, – и всё у вас отберет, выгнав вас прочь! Получите пепелище вместо дома, нищету и бродяжничество, позор и бесчестье для себя и своих семей, гибель, если не от рук беспощадных варваров, то от голода! Или же падайте на колени прямо сейчас да так и стойте, пока вас не убьют! А раз выбираете жить достойно, то не ропщите и в часы испытаний!
Снова довольный гул. Неожиданно кто-то крикнул из толпы:
– А чаго же, Ваш Светлусть, от королю найшего, от королю Эллы́, подмо́щи не будётся?
Рот Альдриана превратился в щелочку-рану.
– Нет, этот недостойный отец предал нас, своих детей, свою землю и свой долг! – твердо и зло сказал герцог. – Он ныне в Идерданне – заклинает о чуде для Орензы – вот и вся его нам помощь! Король молится у статуи Святой Ма́йрты! У статуи женской заступницы! И этим всё сказано! Теперь каждое герцогство, графство или город Орензы одни против врага. Что же, мы обойдемся без такого труса, как Элла Короткий! Мы – храбрые и непобедимые лиисемцы, прославленные воители Меридеи, мы станем той мощью, что разобьет варваров, даст пример прочим и соберет Орензу под крылом сокола! Лиисем столь обширен, что мы ранее не нуждались в чьей-то помощи – и сейчас не будем никого о ней просить! У нас довольно пушечных орудий, чтобы изжарить любых дьяволов, – и если надо, мы сделаем еще больше пушек! Наша сторона – правая, и Бог на нашей стороне! Он послал на наши земли войну, но не в проклятье нам, а в милость! Лишь негодному трусу испытание войной – горе, храбрецу война – это удача! Как и тридцать шесть лет назад, лиисемцы вновь одержат верх над ладикэйцами. А после победы мы ничего не забудем – нам заплатят не только наши враги: Элла Короткий более не получит и медного четвертака из Лиисема! За лишения мы возвратим себе всё сторицей и будем процветать еще пуще, чем сейчас, чем когда-либо до этого. Наши жертвы окупятся щедротами, терпение и стойкость переплавятся в серебро да золото. После победы масло и мясо будут на столе даже в самом бедном доме! Даже в будние дни! А нужда навек отступит от земель великого, благословленного Нашим Господом Лиисема и от нас, его великих детей!
Герцог Альдриан закончил речь под радостный гомон. Когда он, помахав на прощание, покидал трибуну, толпа ревела так, что воздух над ней падал вверх и вниз. Люди под бравурные звуки труб кричали одно слово без остановки, одно имя, – они кричали «Аль-дри-ан!»
________________
Градоначальника мог назначить на должность король, принц, герцог или маркграф. Порой им становился младший сын аристократа, негодный из-за слабого здоровья к воинской службе, но чаще это место доставалось незнатному мужчине, способному управиться с неисчислимыми нуждами большого поселения. Градоначальник Элладанна должен был проверять судей, руководить стражниками, предотвращать эпидемии или бунты, наблюдать за деятельностью послов, организовать почтовую связь с соседними городами, развивать вместе с патрициями торговлю, в то же время ограничивая их власть, регулировать сборы, наполнение казны и ее расходы, упреждать преступления и «передавать слово» герцога Лиисемского. Также он хранил «Медную книгу» с переписью небогатых горожан, «Бронзовую книгу» с учетом городской земли и «Серебряную книгу» со списком владетелей широкого имущества, – по этим фолиантам управа взыскивала подати и различные сборы, нотариусы заверяли сделки, а мирской суд принимал жалобы. «Золотая книга» с именами аристократов и «Железная книга» воинов хранились в канцелярии герцога.
Главой Элладанна более двадцати лет оставался Ортлиб Совиннак, знаменитый как суровым нравом, так и наружностью – его фигура была столь грузна, что когда он взошел после герцога на трибуну, то показалось, что в ложе сгустилась туча. Он предпочитал неброскую одежду, строгого кроя и преимущественно темную; летом появлялся в длинном нарамнике поверх укороченной туники, зимой – в полукафтане и плаще с бобровым воротником, но всегда его видели в черной токе – небольшой шляпе без полей с жестким околышем и мягкой верхушкой. Перьев или каких-либо иных украшений его бархатная тока не имела. Маргарита, глядя на то, как градоначальник разворачивает свиток, отмеченный двумя свинцовыми печатями, в который раз подумала, что он похож на медведя – столь противоречивого и непредсказуемого зверя, что тот стал символом двуличия, а то и безличия (меридейцы считали, что медвежата рождаются бесформенными валунами и их облик лепит медведица-мать). Ортлиб Совиннак зачитывал условия отбора воинов и детали службы, извещая, что им полагалось, а что нет. В Элладанне надлежало сформировать пехоту из двадцати тысяч мужчин, достигших возраста Посвящения – восемнадцати лет, и еще не минувших второго возраста Благодарения – сорока с половиной лет. Лучников, арбалетчиков и ружейников брали в любом количестве и любого возраста. Кроме них требовались плотники, камнетесы и хирурги. До конца второй триады Нестяжания рыцари Лиисема намеревались производить отбор в пехоту, а затем еще триаду обучать новобранцев во всех четырех крепостях Элладанна. В календу восьмиды Кротости войско выдвигалось к Нонанданну.
Слушая речь градоначальника вполуха, Маргарита от скуки его рассматривала: большая голова с острой бородкой и токой будто бы росла без шеи из тяжелого туловища; на правом плече был накинут, как шарф, красный шаперон; на поясе поблескивал церемониальный золоченый ключ от города. Уменьшенные копии такого ключа, из серебра, также подвешивали к поясу патриции, а шаперон-шарф гласил о важном положении мужчины – их имели судьи, магистры, лучшие из астрологов. Черный шаперон означал степень «с почетом», красный шаперон – «с большим почетом», серый шаперон – «с максимальным почетом». В обычной жизни шапероны носили на голове, при исполнении обязанностей клали на плечо.
Еще у судьи была трость с печатью на набалдашнике, у магистра знаний – мантия, у лекаря в Элладанне – плоский колпак, похожий на перевернутую миску. Градоначальник Совиннак в повседневной жизни пренебрегал своими инсигниями власти – ключом и шапероном-шарфом, поэтому для горожан его черная тока тоже стала негласной инсигнией.
«Чего я про него помню? – думала Маргарита. – Он жуть старый – народился в тридцать восьмом цикле лет, как дядя Жоль и тетка Клементина, но он вовсе старик, – ему не меньше́е пятидесяти! Тетка Клементина говорит, что он родом с южного берегу Лиисема, с Веммельских гор, откудова былась ее бабка. У градначальника Совиннака глаза темные, как и у тетки. Наверное, когда он злится, то они блестят, как ее глаза… Только у тетки Клементины глаза слегка навыкате, а у него усаженные внутря глазки-прорези, как две щелки. И моя тетка лишь в своем дому грозная – перед прочими она вечно лебезится и старается годить им, как Мамаше Агне… Старается нравиться… А градначальник глядит на людей жестко… Чего я еще помню? Его поставил градначальником Альбальд Бесстрашный, и при герцоге-отце он полнил виселицу и всякое благодаренье, и медиану… Странно, что его не погнал с месту Альдриан Красивый. Градначальника же никто в Элладанне не любит, хоть и все его боятся: зовут за глаза Свиннаком, но говорят это тихо или даже шепотом. Его так обзывают, затем что он очень толстый, но мне нравятся толстяки – они добрые, как мой дядюшка или дед Гибих – дед тоже добрый, хотя бывается жуть грубым… Дядя Жоль еще и всей этакой мяяягкий, и я люблю, когда он меня обнимает, но у градначальника полнота… злая. Его лицо вроде и не худое, но скулы приметные – кабы он былся стройным, они бы лезли нам в глаза».
Нижняя часть лица градоначальника спряталась за густой и короткой бородкой, сходящейся клинышком, темной, но с белесыми разводами проседи. Аккуратно подбритые, тонкие усы соприкасались с густой растительностью на подбородке и щеках – такие бороды были в моде при покойном герцоге-отце.
«Сразу видное-то, – продолжала рассматривать Ортлиба Совиннака Маргарита, – что цирюльник ходит к нему ежднёвно – борода экая лощеная… Чего ж он не сменяет ее на что-то помоднее? Или вовсе не сбреет? С ней он кажется еще старше́е… пережитком всяковым… Хотя сейчас я радая, что он наш глава: да, его никто не любит и он вгоняет в страх, но… Если мы так его страшимся, то и наш враг тоже будется его бояться… Наверное…»
________________
Окончив речь, градоначальник Совиннак удалился из ложи. Трубы, конечно, проводили его торжественной песнью, да и горожане похлопали, но выглядело чествование неискренним. Маргарите с высоты был хорошо виден свободный от толпы участок между эшафотом и ратушей. Она наблюдала, как Ортлиб Совиннак спустился по лестнице с трибуны и быстро зашагал вдоль стражи к воротам ратуши, точнее, затопал тяжелыми медвежьими шагами – когда он шел, то немного наклонялся вперед, словно двигался против ветра. Все преторианцы, кроме одного всадника, вскоре удалились вместе с отбывшим через пару минут герцогом Лиисемским.
Затем начались казни. В перерывах били барабаны, трубы приветствовали каждый новый этап. Маргариту лет с семи частенько водили на такие зрелища, и она перевидала все виды наказаний, за исключением тех, когда насильникам вырывали половые органы: тогда незамужним девушкам приказывали отвернуть головы и закрыть глаза. Но когда женщине, виновной в распутстве, отрывали щипцами одну грудь, то тетка, наоборот, запрещала ей не смотреть и твердила, чтобы она, Маргарита, знала, что случается с той, у кого такой же Порок Любодеяния, как у нее, и кто не нашел в себе силы, чтобы его побороть – кто изменил супругу и тем самым совершил преступление перед Богом и законом. За это плоть неисправимых преступниц предавали смерти, а черти в Аду пытали душу. Позднее Маргарита случайно узнала, что та женщина с оторванной грудью чудом выжила и покинула с супругом Элладанн, поскольку соседи могли довершить правосудие и забить ее камнями.
Казни всегда были будоражащими и поучительными зрелищами, но лицезреть их Маргарита не очень любила, ведь даже к отъявленным злодеям она чувствовала сострадание. В семь лет она, вообще, обливалась горючими слезами – тетка же дергала ее за руку и требовала, чтобы она прекратила реветь и позорить ее, а то люди решат, что они родня «той грязи с эшафоты». Повзрослев и привыкнув к виду наказаний, Маргарита, по-прежнему жалея «грязь», время от времени смахивала с ресниц слезы, опускала глаза, но темное, перемешенное со страхом любопытство брало верх – она всё равно смотрела на эшафот и жертв двух палачей.
В первой части казней пороли плетью в наказание за мелкое плутовство при торговле или за нетяжкие нарушения закона, такие как не вовремя выплаченное взыскание, несогласие с принятым решением Суда, любое неуважение к Суду, первое покушение на убийство при смягчающих условиях, первая кража до дюжины регнов и многое другое. Часто наказать бичеванием требовали через суд, после чего тот, кого высекли, мог подать встречное прошение о подобном позоре для своего обидчика. Восемь мужчин вывели в одном исподнем, и сначала их всех привязали за кисти рук к кольцам на столбах каменной аркады, поставили лицом к толпе. Перед исполнением наказания судебный глашатай, одетый в короткую, пеструю мантию с желто-красными полосами Лиисема и двумя розами Элладанна, нудно зачитывал вину осужденного, приговор и отказ в помиловании. Обычно присуждалось восемь или двенадцать ударов двухвостой плетью со свинцовыми грузилами, реже – треххвостой – самой опасной, порой раздиравшей плоть до костей. После несчастных поворачивали спиной к зрителям, подтягивали их на веревке за руки вверх и приподнимали над настилом эшафота. Удары кнута они принимали смиренно, зная, что останутся живы, обойдутся только шрамами на спине, пусть и на всю жизнь. Пока одного преступника пороли, предыдущего опускали вниз – позволяли ему, обессиленному, стоять на коленях, но полностью не отвязывали до окончания бичевания всех других осужденных. К очередной своей жертве палачи подходили со свежим, еще не отсыревшим в крови кнутом, дабы никто не усомнился в их неподкупности или радении.
Каждый стон несчастных толпа встречала улюлюканьем и радостными воплями. Сначала все наказуемые пытались терпеть, но палачи, отец и сын, хорошо освоили свое презираемое ремесло – никто из их жертв не выдерживал боли. Первый вопль с эшафота вызывал у зевак свист позора. Тем осужденным, кто терпел дольше других, иногда после казни рукоплескали. Тех, кто быстро сдавался, оскорбляли на все лады, кричали им грязные ругательства и на прощание плевали в них. Все ожидавшие бичевания знали: если совсем не терпеть, ни одного раза не удержаться от крика, то толпа потребует выдать ей «слабака» на расправу – и в конце казней палачи, скорее всего, уважат это требование – «угостят своих зрителей десертом». Разгоряченные кровью и смертью, добродушные горожане Элладанна, в том числе женщины и юные девушки, били несчастных, царапали их, вырвали им волосы и в завершение всего разбивали им головы о брусчатку. А вот если жертва ни разу не застонала, то такой человек становился кумиром толпы. Ему надевали венок на голову, выносили его с эшафота на руках и угощали в пивной: на один день он превращался в триумфатора, в того, кто победил палачей Гимма́ков – дебелого Эцы́ля и его одутловатого сына Фо́лькера.
Последними приговоренными к бичеванию стали две женщины. Толпа оживилась, приготовившись увидеть редкость, а музыканты повеселили толпу в перерыве, наиграв заводной мотивчик.
Двух женщин, босоногих, простоволосых, одетых в нательные сорочки, что для дам приравнивалось к обнажению догола, вывели одновременно. Обеим Маргарита дала возраст тетки Клементины – около сорока лет. Первая из преступниц, покрасневшая от стыда, тряслась от страха всем своим пышным телом и всхлипывала, пытаясь вызвать к себе жалость – и, как заметила Маргарита, это ей удалось: издевательские выкрики угасали. Женщин, в отличие от мужчин, привязывали за кисти рук к веревке виселицы, позволяя сидеть, поджав под себя ноги, – так терпеть боль было легче. Когда первая осужденная подняла над головой руки, Маргарита увидела на ее сорочке желтые пятна в подмышках и начала жалеть эту женщину еще сильнее – та словно очеловечилась для нее, из незнакомки стала той, о которой Маргарита уже что-то знала.
– Властью Суда, – стал читать судебный глашатай, – вдова Мартина Лозна́к, вольная горожанка, госпожа и владелица трактира «Мартина не разбавляет пиво водой», приговаривается к двенадцати ударам двухвостой плетью за то, что разбавляла пиво водой.
Толпа взревела от негодования: пиво приравнивалось к хлебу, ежедневной пище всех людей Меридеи. Только два съестных товара, спасавших бедняков от голода, стоили одну медную монету во всех королевствах континента: буханка ржаного хлеба и кружка пива. Воровства у тех, кто и так обездолен, горожане прощать не собирались.
– Пори стерву! – требовала толпа. – Падаль! Секи, да не жалей! На всей хребет лярву знакум плети меть! Пиявка! Ворона!
Маргарита, строго осуждавшая поступок трактирщицы, с надеждой посмотрела на окна ратуши – она ожидала чуда: что градоначальник-медведь, узнав об унизительном наказании для дамы, проявит мужское благородство и отпустит ее, ведь позорно стоять в белье перед тысячами глаз и бояться плети, – это и так урок на всю жизнь.
– В помиловании отказано, – равнодушно добавил глашатай.
И казнь началась. Эцыль и его сын происходили из рода палачей Гиммаков. В будни, когда они не работали на своих кровавых подмостках, то отвозили на могильной телеге к загородному кладбищу мертвецов (обычно тела бродяг, найденных на улицах), а также чистили публичные уборные. За свой грязный труд семья Гиммак получала семь регнов в день – столько же, сколько хороший плотник, да еще освобождалась от уплаты податей, тем не менее молодой Фолькер уже как три года не мог найти жену и продолжить династию.
Смерть чаще всего наступала после пятидесятого удара плети. Кто-то выдерживал меньше, кто-то оставался жив и после сотого взмаха кнута. Эцыль Гиммак славился тем, что умел убить осужденного простой двухвостой плетью с третьего раза, чем ранее злоупотреблял и за что два года назад поплатился – рассвирепевший градоначальник Ортлиб Совиннак, расценив такую жестокость как устрашение прочих осужденных и вымогательство подкупа, приказал Фолькеру прилюдно выпороть отца. Более никто на эшафоте «случайно» не погиб. Дядюшка Жоль тогда сказал Маргарите, что так градоначальник предотвратил бунт в городе и сам удержался на должности, ведь заезжие купцы, всегда немного плутовавшие, предпочитали обходить Элладанн стороной, местные кустари перебирались в Нонанданн, а городская казна пустела.
Эцыль с тех пор брался исключительно за крепких мужчин, поэтому трактирщицу бичевал Фолькер. Сила его рук значительно проигрывала отцовской, однако трактирщица сдержалась только два раза, и ее освистали.
– Думал, ты твердая баба! – неслось из толпы. – А ты жидкое дерьмо!
– Да хрен я еще раз ногою в твойный пивняк, обдувала!
Вторая женщина, крепкая и широколицая, походила на сильванку – землеробую из деревни. Ее льняная рубаха удивляла белизной и чистотой. Пока пороли трактирщицу, эту женщину за заломленные руки держал Эцыль. Палач-отец, желая видеть страх, заставлял ее смотреть на казнь, но сильванка застыла в умиротворении – ни один мускул не дрогнул на ее блаженном, будто бы освященном дланью Бога лице.
«Так в храмах рисуют мучеников веры, – думала Маргарита, обращаясь к окнам ратуши. – Ну пожайлста, пускай ее помилувают. Нельзя наказывать людей с таковыми ликами. Будется кара!»
– Властью Суда, свободная землеробая Арва́ра Литно́, приговаривается по ходатайству ее супруга Семи Литно, надельного человека с земель Его Светлости герцога Альдриана Лиисемского, к смерти за прелюбодеяние. Назначается тридцать шесть ударов треххвостой плетью. Если Смерть не снизойдет, то назначается еще тридцать шесть ударов. В помиловании отказано.
Толпа разразилась свистом и хохотом: их забавляло, что муж подал в суд на свою благоверную, – так делали, если она уже опозорила супруга на всю округу и он ничего не терял.
«Нет, – подумала Маргарита, – не может человек со столь светлым лицом прелюбодея́ть». И ей закралась в голову мысль, что Семи Литно просто захотел избавиться от постаревшей жены: такие истории тетка Клементина порой рассказывала домочадцам.
– Желаешь ли покаяться без приобщения? – безучастно спросил Арвару Литно глашатай.
– Нет, но у меня будётся слово. И пущите руки – я не сбёгу.
Толпа засвистела и потребовала всего этого: зеваки хотели узнать подробности пикантной истории.
– Освободи ей одну руку, – приказал глашатай Эцылю. – Говори покороче, – обратился он к осужденной. – С тобой и так возни на триаду часа, а еще висельники ждут.
Арвара Литно обвела толпу затуманенными глазами. Затем подняла руку и погрозила пальцем.
– Лодэтский Дьявол! – громко сказала она, указала пальцем на доски эшафота и вдохновенно зачитала: – Огонь Великий, до Небес возносящийся, тьму и холод от нас отгоняющий, жизнь дарующий и ее пожирающий, пощади человеческий род, слабый род, успокой свою мощь, усмири ты и нашу плоть. Лишь Огня устрашатся земные правители, Пекла адова, души в тлен обратить грозящего, да Дьявола, Ада властителя, убоятся все смертные грешники. Под личиной иной он живет среди нас, сеет слух нечестивый, неправедный, разум слабых смущает лукавством, разум сильных пугает коварством. Лодэтский Дьявол!
Приговоренная произнесла строки из молебна на празднество Перерождения Огня – и удивительно, но она, неграмотная сильванка, изрекла их на меридианском языке, какого никак не могла знать. Горожане, в подавляющем большинстве тоже безграмотные, поняли лишь слова «Ад», «Дьявол» и «Лодэтский», после чего возмущенно вскричали:
– Лодэтская лярва тщится нас прокля́ть!
– Задай ей жару, Эцыль! Секи ведьму до дыму, Фолькер!
– Погладь-ка плетью по ейному роту, поганому!
– Надобно подпалить ее маненько, раз Ад с Дьявулум так ей любы!
Кисти рук Арвары Литно начали привязывать к веревке. Когда ее усадили на колени и развернули спиной, Маргарита увидела золотисто-каштановые волосы изумительной красоты, упавшие до дощатого настила эшафота. Маргарита поняла, что сильванка виновна, – девушка не осознавала толком, что значит прелюбодействовать, только догадывалась, но эти волосы хотелось целовать и гладить.
«Раз за Любодеяние в Аде надлежит шестой ров страданий, соседний со рвом нечист для гордецов, то и нам негодно жалеть блудников всяковых, как говорит тетка Клементина. И нам, женщинам, больше́е свезло, чем мужчинам – те после смерти будутся мучиться, как и женщины: черти выжгут им каленым железом губы за преступные поцелуи и срамные места. Душа женщины раньше́е покинет ров Ада, а вот распутный мужчина напроживает на этом свете дольше́е и, если не отсечется от блуду, то и во рве наказаний прибудет дольше́е – будет упло́чивать за грехи да жалеть… И всё же это странно: мужчинам можно покаяться – и Ада не будет, и его не казнят. Женщину же и казнят, и всё равно истерзают в Аде. Только если уйти в монахини, лишь так можно отмолить прелюбодеяние и детоубийство…»
Толпа меж тем орала при виде этих густых, прекрасных волос:
– Шлюха! Пу́таница из тухлятины!
– Старая девка!
– Кошатина! Лупа! Гульня!
– Ведьма!
Арвара Литно повернула голову назад и зашевелила губами: она будто бы смотрела на Маргариту и обращалась именно к ней. Конечно, девушка не могла слышать тихий шепот смертницы, однако по ее спине пробежали мурашки – она поежилась и опустила глаза.
Роскошные волосы убрали со спины приговоренной, Эцыль порвал ее сорочку, а Фолькер взял оплетенную проволокой треххвостую «плеть Смерти» с крючками и гвоздями, но ему не удалось выбить и вскрика из Арвары Литно. Горожане на этот раз пребывали в недовольстве: героизм от женщины, виновной в тяжком преступлении, являлся не тем же самым, что стойкость мужчины при наказании за мелкий проступок. Молчание блудницы злило толпу. Такая гордая смерть, достойная мучеников веры, унижала собравшихся. Тогда дебелый Эцыль, неопрятный здоровяк с бельмом на правом глазу, сменил сына. Он порол свою жертву неспешно, во всю силу натренированных годами рук, делая минутные паузы, чтобы несчастная прочувствовала боль. Три раза плеть сплеталась с волосами Арвары – они схватывали кнут и прерывали казнь, будто были живыми и защищали свою хозяйку. Тогда Эцыль менял плеть на свежую, еще больше ожесточался и бил так, что кровь летела в его рябое лицо. С эшафота не донеслось даже слабого стона. Дополнительных тридцати шести ударов не потребовалось – разозленный палач устал, сдался и напоследок перебил своей жертве позвоночник.
Толпа была разочарована такой концовкой, однако предвкушала главное зрелище – повешения. Градоначальник Элладанна, Ортлиб Совиннак, убедившись, что палачи не злоупотребили полномочиями, покинул ратушу сразу после наказаний плетью.
________________
Среди смертных казней повешение считалось крайне позорной участью, хуже было лишь закапывание по голову в землю, еще хуже – утопление в нечистотах. Сожжение на костре являлось самым благим, поскольку было бескровным, а душа прощалась с плотью и очищалась в боли. Ведьм сжигали, потому что желали хоть немного помочь этим злодейкам, впавшим в наитяжелейший грех колдовства, и, если получится, спасти их души. Все казни, приносящие страдания, признавались добрыми, ведь у душ преступников, гибнувших в муках, имелась большая вероятность попасть на Небеса. Смерть от плети меридианцы воспринимали как милость, вот и Арвару Литно никто не жалел, зато на висельников, напротив, смотрели с сочувствием, ведь тех неминуемо ждал Ад. Облегчить мучения будущих жертв Дьявола, могло только искреннее покаяние.
В торжество ни одна из веревок не должна была быть обделена, и висельников, конечно, оказалось шестеро. Всех приговоренных, мужчин, раздетых до белья, – убийц, грабителей и разбойников, показали зрителям. Пятеро ничем не удивляли: худые или рослые, молодые или старые, все они будто бы несли печать убогости на лицах. Кто-то улыбался, делая вид, что не боится, кто-то угрюмился, иные смирились и любовались солнечным небом в последний раз. Лишь тот, кого вывели последним, он был явно не из этой компании. У него даже не имелось белья – срам прикрывала грязная тряпка, замотанная вокруг его костяных бедер и протянутая между отвратительно истощенных ног. Толпа его поприветствовала радостным ревом, как старого знакомого, оборванцы на крышах засвистели так, что у Маргариты заболели уши. Стало понятно: этот бродяга знаменитость.
Серо-желтая от хворей и грязи кожа уродливо обтягивала скелет висельника. Косматая шапка спутанных волос то седого, то рыжеватого цвета торчала вокруг его лица гривой льва и сливалась с бородой беспорядочной длины. Волосы на ребристой, впалой груди серебрились, хотя стариком или слабосильным этот неимоверно худой человек не выглядел. Бродяга широко улыбался, показывая желтоватый язык и пеньки редких, гнилых зубов. Из запавших глазниц лица-черепа сияли безумные, радостные глаза. Он выглядел как сама Смерть в своем самом омерзительном воплощении, и всё же был обаятелен, а в молодости, должно быть, даже красив.
– Блаженный, чего эт тебя? – донеслось из толпы. – Авось ощупал барнессу Тернти́вонт? Небось сразу за…
– Ж…пу! – ликующе закончил Блаженный.
Толпа заревела от восторга: за оскорбления знати полагалась виселица, но нищий и так уже разминал шею под петлю и теперь ничего не боялся.
– Еще слово, – равнодушно сказал глашатай Блаженному, – и тебе, бродяга, язык без суда вырвут… Жди своей очереди молча.
Блаженный театрально резко стих, скорчив испуганную рожу и вознеся глаза вверх. Если бы его руки не были связаны за спиной, то наверняка он сложил бы их домиком как при молитве. Все смеялись. Беати, Нинно и Синоли хохотали вместе со всеми, хотя последние мало что видели. И Маргарита тоже смеялась – уж очень уморительно позировал этот человек, вызывая восхищение своим бесстрашным пренебрежением к Смерти.
Каждого висельника, пока на его шее затягивали петлю, бродяги с крыш приветствовали, выкрикивая прозвища и прощаясь, но без сожаления или печали. После зачитанного приговора, к обреченному приближался священник с меридианским крестом, деревянным, но золоченым, на каком Божий Сын улыбался, не замечая мук, а над ним сливались воедино солнце и луна.
Один висельник сделал вид, что хочет поцеловать распятие, но плюнул на него, чем вызвал одобрительный гул – верующие меридианцы уважали то, что грешник не попытался раскаянием заслужить прощение, был готов за свои злодеяния отправиться в адово Пекло и уже там умереть навсегда. Остальные вели себя спокойно. Когда их вешали, Блаженный смешно метался в своей арке, трясся, издевательски копируя их судороги, привнося в них движения дикого танца и безмолвствуя, что еще сильнее потешало зевак. Толпа умирала от хохота и рукоплескала – она обожала этого шута. Маргарита, ругая себя и обещая молиться во спасение своей души, тоже не могла сдержаться и смеялась так, что боялась вывалиться из ниши, ставшей для нее самой пыткой – она устала сидеть, вывернув и пригнув спину, еле держалась за мраморного льва. К тому же девушка проклинала себя за то, что выпила слишком много медовой воды. Мужчины на площади опорожнялись на стены домов, и запах, поднимавшийся снизу, становился нестерпимым. Вот тут и выручал Блаженный: глядя на его ужимки, забывались все неудобства.
Предпоследний приговоренный, молодой грабитель, зарезавший своих соседей, захотел покаяться. С петлей на шее и со связанными за спиной руками, он стал сбивчиво рассказывать о своей жизни, начиная с детства. История была печальной, но люди держались за животы. Смеялись и стражники, и даже унылый судебный глашатай часто прыскал смешком, ведь Блаженный корчил немыслимые рожи. Кроме того, он смешно перебирал ногами, прыгал и шатался, оживляя исповедь и искажая смысл слов. Собственная петля на шее ему нисколько не мешала, не страшила его и не смущала. Грабитель тем временем покраснел и зарыдал, не прекращая своей речи. Он просил прощения у всех, кому причинил горе, и благодарил за то, что его казнят. В ответ – смех, хохот, снова смех. Все так веселились, что его последних слов никто не слышал. В конце грабитель поцеловал слияние светил на кресте, но даров стихий ему не полагалось, как и полного прощения. Палач потянул веревку – и под барабанную дробь преступника вознесли вверх, к подельникам по ремеслу, а Блаженный танцевал, вытаращив глаза.
– Ну что, бродяга? – задорно сказал ему глашатай. – Твоя очередь. Напоследок нас повеселишь?
– Повесялю, повесялю… – ответил Блаженный. – Коль тока дашь мне сказать слово и петлю сымешь, не то ся цепочка меня не красит и я стесняюся…
– Не дозволяется… – начал глашатай, но толпа так загудела и засвистела, что он не договорил – быстро развернул свиток и стал читать приговор: – Властью Суда, этот… – удивился глашатай, – господин и вольный горожанин… с именем, оставленным в тайне, приговаривается за бродяжничество к смертной казни через повешение. В помиловании отказано. От покаяния осужденный убедительно отказался.
Толпа бесновалась и свистела, настаивая на дальнейшем представлении, не слушая слов приговора и требуя снять петлю с нищего. Бросив нервный взгляд на окна ратуши, глашатай приказал Эцылю освободить Блаженного.
– Раз этот презренный бродяга – вольный горожанин! – громко обратился глашатай к утихавшей толпе. – То его право на последнее слово действительно. Приступай, хм… господин бродяга! Подмостки твои.
Эцыль, сняв петлю с шеи осужденного, не стал закреплять веревку и оставил ее болтаться, а Блаженный благодарно улыбнулся своим почитателям. Со связанными за спиной руками он вышел на середину эшафота и поклонился людскому морю.
– Так вот, любимый мой народ! – с чувством стал говорить нищий, изображая герцога Альдриана, но осекся под взглядом глашатая. – Лады, лады, не будуся…
Блаженный прошелся туда-сюда по эшафоту, делая вид, будто сам в задумчивости заложил руки за спину, остановился спиной к своим зрителям, затем резко развернулся и изрек незатейливо рифмованный стишок:
На днях я демона случайно совстречал,
Так ентот демон мне такого навещал!
Так вот, любимый мой народ,
Лодэтский Дьявол всё же к нам придет!
Блаженный подошел к палачам.
Как только Дьявол в город наш войдет —
Эцыль умрет и сын его умрет!
Нищий опять выскочил на середину эшафота и весело сказал толпе:
– Девчонку ж в красном чепчике наш Дьявол отъе…т!
Заведенная, заранее настроенная на смех толпа радостно загудела и заулыбалась. Маргарита хоть и похолодела, сперва решила, что это не может быть о ней. Но как бы не так – Блаженный смотрел на нишу со львом и за ним все горожане на площади поворачивали туда головы. И смеялись. Несколько тысяч людей смеялись над одной ни в чем не повинной, несчастливой девушкой, – и никуда от их глаз и ртов Маргарита спрятаться не могла, не сбросив Беати и не упав сама, а с высокого «постамента» ее хорошо было видно даже последним рядам зевак у храма Возрождения. Она сделала единственное, что могла: отвернула голову, чтобы никто не видел ее лица.
– Да, да, ты! – не унимался Блаженный и снова зачитал рифмой:
Целка в красном чепчике на льве!
Поскачет скоро резво на х…!
Горожане снова зашлись в хохоте: им нравилось глумиться над очередной жертвой, которой из-за своего яркого убора стала горемычная Маргарита. Раскатистый хохот, непристойный свист и похабные остроты из толпы отзывались болью в ушах девушки, на ее глазах от обиды наворачивались слезы.
– Я тебя с ветерком проскачу! – отчетливо услышала она.
– Лучше́е с моейным львом порезвися! – раздался другой голос.
Блаженный продолжал «услаждать» публику своей грязной поэзией:
Лодэтский Дьявол в город наш придет,
Девчонку в красном чепчике он отъе…т!
И так и сяк ее он будет драть,
Везде руками станет залезать!
Маргарита подумала упасть и разбить себе голову, когда среди издевательского хохота раздался крик Нинно:
– Смолкни, бродяга, а то я щас сам тудова подымусь и не тока язык тебе повырываю!
– Ой, да кто ж енто тама? – издевался Блаженный, которого никто не останавливал. – Мне тебя отсюдова видать хорошо… Куз-нец!
И бродяга снова запел грязными стихами:
Сам ее ты хочешь в целку драть,
Покудова не упадет кровать!
Он засмеялся вместе с толпой, а когда шум чуть стих, крикнул Нинно:
– Корону заимей прежде! Без нее тебе – никак! Но тебе связло: я подсоблю, кузнец! Я дам корону и заделаю тябя… Кролём! Да! И раз я сгибну, то сгибни и ты! И тады, кролик мой, – зачитал бродяга «продолжение»:
Будешь ночь и день ее ты драть,
Покудова не грохнется кровать!
Тысячи глоток теперь смеялись над Нинно. Синоли вжался в стену дома, а на перекошенного от ярости и густо покрасневшего от стыда Нинно показывали пальцем. Блаженный продолжал глумиться:
– И сызновууу! – скомандовал толпе бродяга. – Наш кузнец не верит в сие счастие!
Будешь ночь и день ее ты драть,
Покудова не грохнется кровать!
Это похабное двустишье бродяга и толпа задорно повторили раз шесть, еще пуще смеясь, потому что Блаженный стал резко выбрасывать свои костяные бедра и делать другие неприличные движения. Повязка Блаженного чрезмерно натянулась спереди, словно поддернутая кинжалом, – и при очередном движении бедрами она упала вниз, к удовольствию зрителей и новому взрыву хохота.
Тогда палачи бросились к бродяге, но он запетлял по эшафоту, высоко поднимая колени и подпрыгивая. Голый и похожий на сатира – со стянутыми за спиной руками и с гигантским, красноватым детородным органом, он подначивал Эцыля и Фолькера:
– Не заловишь, не заловишь!
Беати улыбнулась и прошептала Маргарите:
– Всё, никому до тебя уж нету интересу. Поглянь и ты…
– Беати, не сммейсь и гляннуть тудова! – прогремел с земли взбешенный, срывающийся голос Нинно. Он не сводил взора с сестры, и та отвернулась от эшафота, но всё равно скашивала глаза и любопытствовала.
– Как только Дьявол в город наш войдет, Эцыль умрет, и сын его умрет! – ловко бегал между палачей бродяга.
В конце концов он их столкнул, вывернувшись сам, и оба палача нелепо грохнулись. Смеялись горожане, конями ржали все стражники – даже желто-красные алебардщики, что находились перед зрителями, повисли на своих больших копьях. Судебный глашатай и тот, когда палачи свалились, схватился за живот и тонко захихикал.
Пока палачи поднимались, Блаженный повернулся к зрителям во всей своей нагой «красе» и заявил: