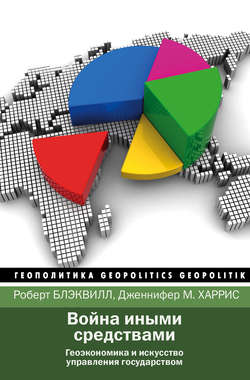Читать книгу Война иными средствами - Роберт Блэквилл - Страница 4
Глава первая
Что такое геоэкономика?
ОглавлениеВойна и торговля – два разных пути к одной и той же цели, которая состоит в обладании желаемым.
Бенжамен Констан, франко-швейцарский политик[22]
Термин «геоэкономика» сегодня используется достаточно широко, но почти всегда без уточнения (даже без хотя бы рабочего определения)[23]. Некоторые авторы склонны фокусироваться на использовании геополитической или военной мощи ради реализации экономических целей[24]. Другие, как правило, определяют геоэкономику шире, как «комбинацию международной экономики, геополитики и стратегии», то есть как некое всеобъемлющее явление; данное определение, похоже, больше маскирует смысл, нежели проясняет[25]. Третьи уделяют особое внимание торговле и протекционизму в промышленности[26].
Применительно к внешней политике США те, кто вообще заговаривают о данной концепции, обыкновенно ограничиваются традиционным исследованием международной торговли и влияния санкций[27]. В целом эти исследования опираются на узкое понимание торговой политики США – если торговля ведется хорошо, правильно, она укрепляет экономическое положение Америки и тем самым (по крайней мере, теоретически) способствует усилению влияния США; но здесь отсутствуют конкретные геополитические метрики, за исключением, пожалуй, широко распространенного убеждения (восходящего к либералам XIX столетия – Норману Энджеллу и прочим), что развитие торговли содействует установлению мира[28]. По сути, перед нами торговля ради торговли. Другие исследователи применяют термин «геоэкономика» практически ко всей американской экономической деятельности, дома и за рубежом[29]. Эти аналитики порой начинают с сопоставления американского влияния как такового с силой или слабостью экономики США или даже американского общества[30].
Как ни странно, эти трактовки пользуются спросом, о чем свидетельствуют две последние американские стратегии национальной безопасности[31]. Сильная внутренняя экономика в долгосрочной перспективе остается, разумеется, принципиальным условием мирового влияния любой страны, и Соединенные Штаты тут ничем не выделяются. История не содержит позитивных примеров, когда какая-либо страна надолго позволяла своим геополитическим амбициям опережать собственные экономические возможности. Это своего рода универсальный закон, если таковые существуют в политике. Подобно физическим законам природы, исключений он не допускает: для великих держав экономические ограничения не менее реальны в условиях геополитического давления, чем для любой другой страны.
Эти и прочие ранние трактовки геоэкономики полезны, однако они страдают неполнотой. Поразительно, что ни одно из существующих (и зафиксированных в письменной форме) определений геоэкономики не обращает внимания на тот феномен, который, являясь сугубо эмпирическим, несет главную ответственность, как представляется, за современное возрождение концепции: речь об использовании экономических инструментов для достижения позитивных геополитических результатов. Несмотря на всеобщую увлеченность мировым финансовым кризисом и его геополитическими последствиями (а также на нарастающую потребность поместить внешнюю политику США в контекст внутренних экономических интересов страны), никто не торопится обсуждать, каким образом, в каких случаях и насколько хорошо государства используют экономические рычаги как инструменты государственного управления; эти вопросы фактически игнорируются исследователями и политиками[32].
Учитывая вышеизложенное, мы настоятельно рекомендуем следующее определение геоэкономики:
ГЕОЭКОНОМИКА – использование экономических инструментов для реализации и отстаивания национальных интересов и достижения позитивных геополитических результатов, а также последствия экономических действий других стран для геополитических целей данной страны.
Исходя из этого понимания, геоэкономика выступает как метод анализа и как форма государственного управления[33]. Первый аспект этого трехкомпонентного определения («использование экономических инструментов для реализации и отстаивания национальных интересов») сопоставим с традиционным восприятием идеи о том, что внутренняя экономическая мощь способствует распространению американского влияния в мире – по крайней мере в теории. Этот аспект важен и осознается[34].
Точно так же последний аспект нашего определения геоэкономики («последствия экономических действий других стран для геополитических целей данной страны»), исторически остававшийся в небрежении, если сравнивать с другими факторами международных отношений, сегодня вызывает возрастающее внимание. Во многом это объясняется возрождением международной политической экономии[35]. Но в большинстве работ подобного рода основной упор по-прежнему делается на системный уровень, а не на уровень национального государства, в попытках объяснить, как крупные экономические явления – глобализация, например, – способны повлиять на многосторонние институты. За рядом нескольких важных исключений нынешние дискуссии в пространстве международной политической экономики продолжают игнорировать «прикладные» вопросы проецирования силы и управления отношениями между национальными государствами. Словом, невзирая на определенные позитивные сдвиги, Алан Добсон совершенно справедливо говорит, что «экономические материи до сих пор нередко ютятся между политическими и дипломатическими факторами»[36].
Посему, возможно, не должно вызывать удивления то обстоятельство, что роль экономических явлений в формировании геополитических результатов обычно недооценивается в большинстве пресс-комментариев и обсуждений сегодняшних проблем внешней политики. При всем разнообразии споров и мнений относительно причин и катализаторов кризиса на Украине в 2014 году, например, мало кто подчеркивал роль международной кредитно-денежной политики в усугублении тяжелой экономической ситуации страны, переросшей в итоге в полномасштабный кризис. «Финансовые проблемы Украины накапливались на протяжении многих лет, – поясняет Бенн Стейл, историк экономики и сотрудник Совета по международным отношениям[37]. – Но именно сама перспектива того, что ФРС США будет с каждым месяцем выделять рынку все меньше новых долларов, существенно увеличила стоимость пролонгации обязательств… и эта стоимость превзошла возможности Киева платить… Остальное – уже история»[38]. Стейл правильно отмечает: аналитики во многом «упускают из виду тот факт, что решение ФРС сыграло важнейшую роль в свержении Януковича и в дальнейшем хаосе»[39].
Но все может измениться. Во многом благодаря двум конкретным экономическим событиям, очевидно, подразумевающим геополитические последствия, есть основания предполагать, что возрождение интереса к геоэкономике может оказаться долгосрочным и затронуть многие страны. Первое событие – это финансовый кризис 2008–2009 годов (и последующий кризис еврозоны), который и шесть лет спустя продолжает вызывать множество разнообразных, в том числе научных, комментариев относительно геополитического значения всего случившегося[40]. Второе событие – возвышение Китая, до сих пор в значительной степени чисто экономическое, однако, как представляется многим наблюдателям, чреватое серьезными геополитическими последствиями, наподобие тех, что имели место в 1940-х годах, когда США вышли из Второй мировой войны ведущей мировой державой. Учитывая масштабы и потенциальное влияние, оба этих события немало способствовали помещению экономических явлений и их геополитических последствий в контекст современной внешней политики.
Мы намерены сосредоточиться на среднем элементе нашего определения геоэкономики: «использование экономических инструментов для… достижения позитивных геополитических результатов». Именно экономические методы государственного управления, пусть и неплохо характеризующие многие внешнеполитические практики наших дней, почему-то остаются, так сказать, неисследованной территорией, особенно в концептуальном смысле и особенно в США.
Британский теоретик международных отношений Сьюзен Стрендж отметила данный факт еще в 1970 году: она писала, что «в общей картине заметен дефицит широких исследований международных экономических отношений – будь то проблемы или насущные вопросы, – которые рассматривали бы ситуацию аналитически, с позиций политического, а не экономического анализа»[41]. Этот концептуальный «провал» не связан с отсутствием интереса к теме; в последние несколько лет отмечается постоянное внимание к отдельным геоэкономическим инструментам, а также к применению оных отдельными странами[42]. Среди наиболее важных исследований такого рода выделяется последняя книга Эдварда Люттвака о Китае. В своей работе Люттвак утверждал, что поскольку «стратегическая логика» подразумевает рост сопротивления растущему могуществу и поскольку «любая серьезная война между ядерными державами сегодня фактически невозможна», противодействие китайскому возвышению должно быть геоэкономическим[43]. По Люттваку, «продолжающееся возвышение Китая грозит в конечном счете утратой независимости его соседям и даже нынешним сверхдержавам, а потому этому возвышению необходимо противостоять геоэкономическими мерами – то есть стратегически мотивированными шагами, а не просто возведением протекционистских торговых барьеров, введением инвестиционных запретов, расширением запретов на экспорт технологий или даже ограничений на экспорт сырья в Китай при условии, что поведение китайцев предоставит повод совершить такой поступок на грани войны»[44].
Другие аналитики изучали действие экономических методов государственного управления в исторической перспективе; этим они серьезно отличались от тех историков, наподобие Гэвина и Сарджента, которые, как правило, стремились прежде всего объяснить, как различные экономические соображения определяли итоги внешней политики. Замечательный результат десятилетнего труда, «Экономическое государственное управление для выживания» Добсона (2001), представляет собой пересмотр истории холодной войны, где уделяется самое пристальное внимание роли экономического управления в объяснении политики США в период между 1933 и 1991 годом. Хотя очевидно, что он руководствовался иными мотивами, Добсон все же задается вопросом, почему США перешли от ревностного отстаивания своих «нейтральных» торговых прав в военное время (до вступления в Первую мировую войну) к ведению своего рода экономической войны против Советского Союза в мирное время (сразу после Второй мировой); этот факт сам по себе служит доказательством того поистине шизофренического, зачастую противоречивого отношения США к геоэкономическим практикам.
При достаточном внимании к историческим, тематическим и конкретным исследованиям налицо острый недостаток концептуального осмысления практики использования экономических и финансовых инструментов для государственного управления. Отдавая должное ранним прозрениям Сьюзен Стрендж, укажем, что работа Дэвида Болдуина «Экономическое государственное управление» (1985) остается едва ли не единственной попыткой изменить такое положение дел. Своей первоочередной задачей Болдуин полагал «осмыслить осмысление экономического государственного управления»; с этой целью он тщательно изучил двойные стандарты и интеллектуальные барьеры, которые мешают четкому политическому осознанию геоэкономических методов. Его выводы, которым уже тридцать лет, остаются актуальными по сей день[45]. Но Болдуин не столько стремился понять, как государства используют эти методы и приемы, сколько обозначить данные методы и приемы как «более полезные, чем представляется [господствующему] расхожему мнению»; свое стремление он подкрепил анализом ряда исторических примеров из числа экономических санкций, а также важными примерами из сфер торговли и международной помощи[46]. Он не касался вопроса, являлись ли эти методы регулярными или эффективными в применении для практиков внешней политики тех дней, и не пытался расширить рамки исследования и оценить вызовы, стоящие перед творцами внешней политики.
Со времен публикации работы Болдуина новых книг на эту тему почти не появлялось, о чем с сожалением пишут комментаторы – Добсон, Уолтер Рассел Мид, Хуан Сарате, Роберт Зеллик и другие[47]. До поры это относительное пренебрежение казалось прискорбным, но допустимым, однако сегодня ситуация выглядит совершенно иначе. Экономические рычаги государственного управления получили широкое распространение, их используют некоторые наиболее могущественные страны мира, и потому следует признать и попытаться составить четкое представление об этом феномене. Впрочем, в конечном счете дефиниции – вовсе не главное. Во многом понимание того, что такое геоэкономика, определяется обретением способности задуматься об этом. Поэтому полезно дополнить наше определение несколькими уточнениями.
Пункт 1
Геоэкономика отличается от геополитики.
Вместо того чтобы сосредоточиться на экономике как средстве достижения геополитических целей, некоторые определения геоэкономики переворачивают это отношение причины и следствия, подчеркивая, что страны могут использовать военные или геополитические мускулы (так называемую «жесткую силу») для обеспечения позитивных экономических результатов[48]. Это, несомненно, важное обстоятельство, но оно куда важнее для очередного труда по геополитике, чем для книги по геоэкономике. Когда речь заходит о классификации различных форм государственного управления, мы должны ориентироваться на средства, а не на цели. Ведь, как объяснял Дэвид Болдуин, «бомбардировку библиотек не называют культурной войной; бомбардировка жилых домов не считается войной против жилья; бомбардировку ядерных реакторов не называют ядерной войной, а бомбардировку заводов и фабрик не следует именовать экономической войной»[49].
Действительно, наблюдается тенденция трактовать геополитику и геоэкономику как синонимы. Эти два явления, безусловно, взаимосвязаны, но их все-таки следует различать[50]. Отчасти проблема заключается в том, что, как и в случае геоэкономики, не существует единого, общепринятого определения геополитики; более того, данный термин применяется даже шире и бессистемнее, чем термин «геоэкономика». Если следовать одному из самых популярных и часто цитируемых определений, геополитика есть метод анализа внешней политики, который стремится истолковать, объяснить и предсказать международное политическое поведение прежде всего с точки зрения географических переменных[51]. Другие, более общие определения обычно фокусируются на взаимодействии политики и территорий – то есть на искусстве и практике использования политической власти на конкретной территории[52].
Если сформулировать иначе, геополитика представляет собой набор допущений о том, как государству следует осуществлять власть над той или иной территорией (что составляет эту власть, каким образом она возрастает или увядает). То же самое верно в отношении геоэкономики, как мы определяем последнюю в данной книге. Но большинство геополитических исследований обыкновенно объясняет и предсказывает применение государственной власти посредством целого ряда географических факторов (территория, население, экономические показатели, природные ресурсы, военный потенциал и т. д.)[53]. Геоэкономика, на наш взгляд, должна предлагать «параллельную» картину того, как государство набирает и осуществляет свою власть – посредством экономических, а не географических факторов.
Исходя из такого понимания, использование военной силы для достижения экономических целей больше относится к сфере геополитики, чем к сфере геоэкономики. Но все равно обе дисциплины тесно связаны, и эта связь между ними заслуживает изучения и дальнейшего осмысления. В частности, стоит задаться вопросом, приведет ли нарастание использования геоэкономических инструментов государственного управления к изменению «матрицы», характеризующей, когда и как страны прибегают к военной силе[54]. Этот вопрос не относится напрямую к содержанию нашей книги, однако он очень важен, и мы будем затрагивать его в следующих главах.
Принципиальный момент: понимание геоэкономики требует постижения коренных отличий в операционных предпосылках геополитики и экономики. Логика геополитики традиционно предусматривает игру с нулевой суммой, тогда как логика экономики традиционно опирается на игру с положительной суммой. Майкл Мандельбаум в своей последней книге отметил, что «сердце политики – власть; цель экономики – богатство. Власть по своей природе ограниченна. Поэтому стремление к власти видится спорным. Это игра с нулевой суммой… Богатство, напротив, не имеет пределов, благодаря чему экономика становится игрой с положительной суммой»[55]. Геоэкономика, по сути, сочетает в себе логику геополитики и инструменты экономики, рассматривая экономические действия и характеристики конкретного государства как «встроенные» в крупные реалии государственной власти. Этот факт часто приводит к конфликту геоэкономических подходов и положений экономической теории.
Сформулируем так: возвращаясь к мысли, что, как выразился Мандельбаум, «в экономике, в отличие от войны, каждый может быть победителем», для геоэкономики важно то, что указанное различие сохраняется только до тех пор, пока экономические действия предпринимаются ради экономических целей[56]. Но выясняется, что геополитическое использование экономических инструментов способно привести к результатам, столь же значимым и столь же «нулевым», как и те, которые достигаются традиционной военной демонстрацией государственной власти.
Симптомы этих дисциплинарных конфликтов между экономикой и внешней политикой проявляются в США на всем протяжении истории страны. Большинство призывов переориентировать американскую внешнюю политику ради учета возрастающей роли экономических факторов (то есть на «рельсы» геоэкономики) сопровождается, как правило, сетованиями на институциональную неспособность правительства США совместить внешнюю политику с экономической стратегией. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поделилась своими соображениями на сей счет в выступлении перед конгрессом[57]. Ее поддержал целый хор сторонних наблюдателей, включая бывших американских военачальников, экономистов и внешнеполитических стратегов, причем равно республиканцев и демократов[58]. Вскоре после того, как Клинтон изложила свои взгляды на экономическую повестку дня, Дэвид Роткопф, генеральный директор и редактор журнала «Форин полиси», опубликовал заметку о Хиллари Клинтон, якобы «проникающей» в министерство торговли; он писал, что «речь Клинтон знаменует продолжение успешной деятельности госсекретаря по переосмыслению роли ее ведомства… она хочет „думать иначе“, цитируя Стива Джобса… Также [эта речь] показывает, что администрация повзрослела и определилась со своими приоритетами и жизненно важными компетенциями в необходимых сферах»[59]. Другие комментаторы, например, бывший сотрудник Государственного департамента Николас Бернс, начали спрашивать, позволит ли программа госсекретаря Клинтон администрации Обамы изменить тот способ, каким традиционно действовал Вашингтон, действительно ли экономические соображения будут рассматриваться наравне с военными и дипломатическими при определении национальных интересов[60].
Почему всякое взаимодействие в пространстве разработки внешней политики и экономики оказывается настолько затруднительным? Наиболее распространенное мнение состоит в том, что так было не всегда; на деле Соединенные Штаты исторически придерживались экономически ориентированной внешней политики. Как недавно отметил Роберт Зеллик, бывший глава Управления торгового представителя США и президент Всемирного банка, данное «отделение экономики от внешней политики США и политики в области безопасности отражает отход от раннего американского опыта. В первые 150 лет существования страны американская внешнеполитическая традиция была пронизана экономической логикой. К сожалению, осмысление международной политической экономики стало в США забытым искусством»[61].
Зеллик уточнил эту характеристику, предложив содержательный исторический обзор (едва ли не лучшее из имеющихся исследование по истории Соединенных Штатов)[62]. Но этот обзор поднимает важнейший вопрос: если Соединенные Штаты были прежде столь привержены экономически ориентированному государственному управлению, почему они отказались от этих практик? На этот вопрос мы попытаемся ответить в главе 6.
Пункт 2
Фокусироваться на использовании экономических инструментов для достижения геополитических целей значит обходить молчанием природу целей; меняются ли цели внешней политики сами по себе – отдельный вопрос.
Если некоторые толкования термина «геоэкономика» подразумевают обратную конфигурацию средств и результатов (то есть применение военной силы ради достижения экономических целей), то другие фокусируются исключительно на средствах. Действительно, многие комментарии относительно внешней политики используют термин «геоэкономика» как способ доказать, что приоритеты внешней политики могут или даже должны смещаться от военной ориентированности к реализации экономических целей.
Большинство согласится, что подобное понимание геоэкономики вошло в современный лексикон международных отношений благодаря опубликованной в 1990 году статье Эдварда Люттвака, в которой автор утверждал, что «окончание холодной войны неуклонно ослабляет значимость военной силы в мировых делах». По его мнению, мировая политика начинает уступать место геоэкономике, которая «сочетает логику конфликтов с методами торговли»[63]. Люттвак указывал, что «по мере снижения актуальности военных угроз и военных союзов геоэкономические приоритеты и механизмы становятся доминирующими в действиях государства». Он вернулся к данной теме в своей книге 1993 года, причем придал изложению алармистскую тональность. Геоэкономика, пояснял он, не больше и не меньше, чем продолжение древнего соперничества наций посредством новых промышленных инструментов. Как и в прошлом, когда молодые люди в униформе маршировали в бой ради территориальных завоеваний, сегодняшних налогоплательщиков убеждают субсидировать схемы индустриальных завоеваний. Вместо борьбы друг с другом Франция, Германия и Великобритания теперь сотрудничают, финансируя «Эйрбас индастри» в его противостоянии с «Боинг» и «Макдоннелл – Дуглас». Вместо того чтобы оценивать прогресс по перемещению линии фронта на карте боевых действий, теперь следят за котировками мирового рынка акций для конкретных категорий товаров и сырья.
Аналогичным образом, хотя и стараются избегать употребления самого термина «геоэкономика», Мандельбаум и Гэвин показывают, что содержание геополитических целей государств демонстрирует отход от военных методов и жестких мер безопасности и переориентацию на экономические интересы. Подобное вполне может соответствовать истине, однако эта тема во многом выходит за рамки нашей книги. По контрасту, геоэкономические подходы, как мы их понимаем, фокусируются лишь на том, как именно государства применяют экономические и финансовые инструменты для достижения желаемых геополитических целей. Впрочем, когда государство начинает воспринимать «геополитический климат» прежде всего с точки зрения распространения своего экономического влияния и подстраивает под такое восприятие свои геоэкономические «рефлексы», может – и должно – быть, что эта реализация и процесс перевооружения политики обернутся переменами во внешнеполитической стратегии.
Далее, предполагать, что государство применяет экономические инструменты для достижения каких-либо геополитических целей, отнюдь не обязательно означает, что существуют только геополитические. Государства могут проводить (и зачастую проводят) геоэкономическую политику, преследуя одновременно разнообразные интересы – геополитические, экономические и прочие. Стратегические инвестиции Китая в Африку видятся здесь, пожалуй, наиболее показательным примером. Но в этом отношении геоэкономика ничем не отличается от любой другой формы государственного влияния (вспомним хотя бы об экономическом ущербе, вызванном войной). Значимо, иными словами, лишь наличие (причем не исключительное) важных геополитических интересов. Страны в целом не уделяют пристального внимания относительному ранжированию мотивации, но выбор политики часто говорит сам за себя. Как мы утверждаем в главе 7, имеется множество экономических политик, способных практически одновременно реализовывать экономические и геополитические цели; но нередко торговое соглашение, задуманное в качестве средства достижения той или иной цели во внешней политике, сильно отличается от соглашения, направленного на достижение сугубо экономических целей.
Пункт 3
Геоэкономические попытки проецирования могущества могут принимать различные формы. Не все государства равны по своим возможностям проецировать геополитическую власть, и точно так же имеются известные структурные характеристики (геоэкономические способности), которые показывают, насколько эффективной окажется та или иная страна в использовании геоэкономических инструментов.
Государства не только применяют геоэкономические инструменты ради достижения широкого спектра неэкономических целей, но и используют эти инструменты различными способами. Наиболее очевидное различие здесь – это различие между позитивной и принудительной формами геоэкономического воздействия. Но геоэкономические методы различаются по целому ряду критериев: цели могут быть краткосрочными или долгосрочными; некоторые средства будут транзакционными (цели узкие, предполагаемые выгоды достаточно хорошо определены), тогда как другие окажутся более общими (цели широки, выгоды осознаются нечетко); диапазон геоэкономических технологий в период войны будет отличаться от такового в мирное время или при отсутствии «горячего» военного конфликта.
Решение президента Картера наложить эмбарго на поставки зерна СССР в ответ на советское вторжение в Афганистан в 1979 году и предложение администрации Трумэна союзникам воспользоваться льготными кредитами на приобретение военных материалов в годы Второй мировой войны представляют собой целенаправленные шаги, предпринятые в качестве реакции на конкретные события и призванные стимулировать определенный комплекс мер. Стремление конца 1970-х годов со стороны ФРГ учредить единую европейскую валюту (которую немцы считали необходимым для развеивания опасений Запада по поводу очередного возвышения Германии) и возникновение Европейского союза являлись, так сказать, стратегическими играми, где цели были широки, результаты предполагались разнообразные, а выгоды виделись малопонятными (хотя и существенными) даже ведущим инициаторам этой политики. Те 8 миллиардов долларов, которые Катар инвестировал в Египет в промежуток между падением президента Мубарака в начале 2011 года и свержением президента Мурси в середине 2013 года, вероятно, находятся где-то посередине: эти инвестиции явно преследовали некие краткосрочные цели, но также предусматривали немалое разнообразие итогов и ряд выгод по истечении длительного периода времени.
Кроме того, геоэкономическая сила, подобно геополитической, является функцией ряда структурных факторов и политических решений. Государства сильно различаются по своей способности проецировать геополитическую силу, однако налицо определенные структурные характеристики, или геоэкономические факторы, которые определяют, насколько эффективно та или иная страна, скорее всего, будет использовать геоэкономические инструменты. Увы, если сравнивать с обширной литературой по методам и механизмам геополитического влияния, практически не существует подобного анализа геоэкономики; нет и единого мнения относительно совокупности геоэкономических инструментов, которые уже существуют, или относительно того набора факторов, которые позволяют государствам применять их с большей или меньшей эффективностью[64]. Правда ли, что недемократические страны лучше «приспособлены» для применения геоэкономических инструментов? Правда ли, что малые страны оказываются в столь же невыгодном положении, когда заходит речь о геоэкономике, как то, когда дело касается геополитики? С учетом отсутствия любых концептуальных схем и прогностической логики для этих инструментов вряд ли следует удивляться, что творцы внешней политики, похоже, гораздо более склонны анализировать свои перспективы с геополитической, а не с геоэкономической точки зрения. Более подробно мы рассматриваем эту тему в главе 3.
Пункт 4
Имеются промежуточные, спорные случаи.
Когда приходится применять концепцию геоэкономики к реальным ситуациям, то, сколь бы тщательно ни конструировались параметры и критерии, неизбежно возникает известное число промежуточных, пограничных случаев. Большинство аналитиков (но не все) согласятся, вероятно, с утверждением Дэвида Болдуина о том, что бомбардировку заводов следует исключить из любого понимания геоэкономики, поскольку это все же образчик традиционного военного применения силы[65]. Но что насчет использования силовых методов – морской блокады, к примеру, – для поддержания экономического эмбарго, которое само является частью комплекса военных мер? Или как быть с поддерживаемыми конкретным государством кибератаками на банки и важную хозяйственную инфраструктуру противника в качестве средства выражения несогласия с внешнеполитическими действиями другой страны?
Однозначных ответов тут нет. В широком смысле действия и политика интересов представляют собой экономические методы государственного управления; иногда эти методы подразумевают использование инструментов сугубо экономического свойства (например, принудительные торговые меры, экономическая помощь или суверенные инвестиции), а в других случаях они будут использовать механизмы уже не чисто экономического свойства (такие, как государственные кибератаки), но при этом средства, с помощью которых государства пытаются повлиять на поведение других государств, останутся экономическими. По данной логике, ряд кибератак – скажем, направленных на критически важную экономическую и финансовую инфраструктуру другой страны – можно считать геоэкономическими, тогда как кибератаки иного типа (направленные на военные и иные государственные цели) таковыми не являются.
Разумеется, наибольшую сложность вызывают крайние случаи. Нам могут возразить, например, что такую логику можно расширить до пределов, когда она включит в себя бомбардировки заводов и фабрик как геоэкономический метод государственного управления. Ведь основными рыночными механизмами спроса и предложения манипулируют (сокращая общие объемы производства или провоцируя дефицит) ради обеспечения геополитических результатов. Но почти общепризнанное стремление исключить бомбардировки заводов из сферы геоэкономики объясняется не тем, что бомбардировка – внеэкономический инструмент; скорее, причина в том, что выбор военных целей относится к совершенно иному концептуальному пространству социальных и нормативных практик войны. Это вовсе не означает, что геоэкономические методы государственного управления не могут применяться в условиях войны. Однако желание ослабить денежную единицу врага в ходе войны, например, – очевидный случай геоэкономического принуждения, – видится шагом, в значительной степени отделенным от сугубо военных целей и военной стратегии.
С учетом вышесказанного, экономические блокады, которые опираются на военную силу, вероятно, представляют собой гибридные случаи, но они заслуживают отнесения к сфере геоэкономики как минимум по двум причинам: подобная экономическая блокада может реализовываться в условиях, близких к «горячему» военному конфликту; что более важно, здесь задействована переменная в форме политики экономического отрицания, а не сам факт, что результат достигается в том числе применением военной силы[66]. Наконец, многие склонны выводить военную и гуманитарную помощь за пределы геоэкономики. Конечно, оба социальных поля изобилуют экспертами, которые, судя по всему, не согласны с тем, что они занимаются, в частности, реализацией экономических методов государственного управления. Но в данном случае, особенно когда речь заходит о государствах и правительствах, деньги взаимозаменяемы (то есть экономия затрат в одной области может компенсировать расходы в другой). Посему все виды помощи, включая военную и гуманитарную, нужно относить к концептуальным рамкам геоэкономики, пусть и признавая, что военная и гуманитарная помощь принадлежат к числу наиболее хорошо изученных и потому наименее интересных геоэкономических инструментов; в связи с этим мы лишь изредка будем упоминать о них в следующих главах.
Попадает данный случай в сферу геоэкономики или нет, важно другое: имеются случаи, которые можно назвать пограничными. Они требуют к себе большего внимания. Но отсутствие однозначных ответов в некоторых ситуациях говорит, скорее, о характере обстоятельств, чем о пробелах в дефинициях или в практиках.
Пункт 5
Геоэкономика отличается от внешней (или международной) экономической политики, меркантилизма и либеральной экономической мысли.
Безусловно, стоит отличать геоэкономику от внешнеэкономической политики (или международной экономической политики), меркантилизма и либеральной экономической мысли[67]. Бенджамин Коэн и Роберт Пастор определяют внешнеэкономическую политику как государственные действия, призванные оказать влияние на международные экономические условия (в отличие от геополитической обстановки). Хотя многие используют эти термины как синонимы, Стивен Коэн считает, что «международная экономическая политика» отличается и является предпочтительнее «внешнеэкономической политики», поскольку она может и должна оставаться вне поля деятельности творцов внешней политики. Цитируя Коэна, «международную экономическую политику следует рассматривать как отдельное явление, а не как подсобный инструмент для чиновников от внешней или внутренней экономической политики»[68].
Большинство наиболее распространенных и коварных заблуждений по поводу геоэкономики на самом деле проистекает из отдельного набора недоразумений, связанного с двумя другими экономическими концепциями, а именно – вследствие стремления рассматривать меркантилизм и либеральную экономическую мысль как прямых антагонистов и вследствие тенденции трактовать геоэкономику как своего рода «перепрофилированную» форму меркантилизма (поэтому изначально противоречащую либеральной экономической мысли). Желание противопоставлять меркантилистский тезис о необходимости активного вмешательства государства в экономику либеральному стремлению ограничить подобное вмешательство со стороны государства, как если бы эти две концепции находились на противоположных концах политэкономического спектра, «без труда приводит к изображению либерализма как образа мышления, выделяющего экономику и политику в отдельные, автономные области общественной жизни»[69].
Считается, что не кто другой, как Адам Смит, разорвал меркантилистскую связь между политикой и экономикой[70]. Но это ошибка, вызванная неправильным прочтением[71]. Смит ясно осознавал, что способность экономической политики оказываться взаимовыгодной с экономической точки зрения вряд ли означает то же самое политически. По его словам, «богатства соседней страны» могут быть «опасными на войне и в политике», пусть и «несомненно выгодными в торговле»[72]. Смит не видел никакого противоречия между своими воззрениями на свободную торговлю и убеждением в том, что «величайшая цель политической экономии каждой страны состоит в приумножении богатства и могущества этой страны»[73].
Действительно, в сочинениях Смита обнаруживается мало доводов в поддержку представления об экономических либералах как сторонниках разделения политики и экономики, зато присутствует стремление определять политические отношения через экономические резоны. По Смиту, «первый долг государя… [состоит в] защите общества от насилия и вторжения других независимых обществ». «Оборона важнее изобилия», – писал он, а «капризы и прихоти королей и министров не имели… более фатальных последствий», чем «дерзкая ревность торговцев и производителей»[74].
Среди многих ошибочных различий между меркантилизмом и либерализмом чаще всего «замутняет» ясность представления о геоэкономике вопрос о том, насколько «подчинение экономики государству и его интересам» различается в этих двух концепциях[75]. Меркантилисты полагали широкое государственное вмешательство в экономику действиями в национальных интересах, либералы придерживались обратного мнения, но это не означает, что либералов государственные интересы не заботили. Наоборот, большинство либералов считало невмешательство государства в экономику средством отстаивания интересов государства[76]. Даже критики либералов признавали, что экономические либералы искренне заботились о войне, мире и соблюдении государственных интересов. «Чего, по убеждению сторонников свободной торговли в девятнадцатом столетии… они добивались?» – спрашивал Кейнс[77]. «Они верили, что служат не просто выживанию экономически наиболее приспособленных, но отстаивают великое дело свободы… и, кроме того, считали себя поборниками и гарантами мира и международного согласия и экономической справедливости между народами»[78]. Для экономических либералов наподобие Адама Смита и Нормана Энджелла невмешательство было фактически формой геоэкономики; они отличались от меркантилистов только своей тактикой. Оба лагеря пытались понять, как именно адаптировать экономическую политику государства на службу государственным интересам (а не нужно ли это делать)[79].
В интересующей нас области знаний практические границы геоэкономики, как правило, определяются разногласиями, то есть примерами расхождения экономических и геополитических интересов государства. Для ранних либеральных экономистов вроде Джейкоба Винера либеральное допущение гармонии между политическими и экономическими интересами означало, что экономические либералы редко сталкивались (если сталкивались вообще) с вопросом, кто должен уступать при конфликте. Для этих ранних либералов – как и для многих политиков наших дней – свободная торговля виделась вернейшим путем к достижению экономического благосостояния и национальной безопасности[80]. Характеристика Гилпином меркантилизма как «стремления к безопасности экономическими мерами» никоим образом не расходится с убежденностью либералов в том, что свободная торговля является лучшим средством для обеспечения национальной безопасности[81].
Ранние экономические либералы не только активно вмешивались в решение геополитических вопросов, но и в тех редких случаях, когда либералы отвергали какие-либо экономические и политические цели, они обыкновенно улаживали конфликт, подчиняя экономику политике. Историк Великой депрессии Эдвард Мид Эрл, пионер в области исследований по безопасности, посвятил немало времени и сил прояснению вопроса о том, каким образом экономические либералы примиряли свои теории с интересами национальной безопасности государства. По Эрлу, «важнейшим для определения отношения [Смита] к меркантилистской школе является не здравость или абсурдность финансовой и торговой теорий этой школы, а то обстоятельство, способна ли при необходимости экономическая мощь нации поддерживаться и использоваться в качестве инструмента государственного управления. Ответом Адама Смита на этот вопрос было твердое „да“ – „да, экономическую силу надлежит использовать именно так“»[82].
То же самое верно для Ричарда Кобдена, которого однажды описали как «наиболее заметную фигуру среди сторонников свободной торговли и интернационалистов первой половины XIX века»[83]. Но Кобден не возражал против подчинения экономики политике в случае возникновения конфликта. Если свободная торговля конфликтовала с миром, например, при кредитовании закупок оружия иностранными правительствами, Кобден выступал против свободной торговли[84]. Британский офицер разведки времен Второй мировой войны, а позже кембриджский историк Гарри Хинсли заметил, что Кобден «радел за свободу торговли потому, что хотел мира, и не радел за мир во имя свободы торговли»[85].
Суммируя, скажем, что истинное различие между меркантилизмом и либерализмом заключается в том, как практиковать геоэкономику (а не в том, стоит или нет ее практиковать). «Фундаментальная характеристика сводится к тому, что экономическая политика должна сознательно формулироваться таким образом, чтобы способствовать достижению целей внешней политики государства – каковы бы те ни были», – писал Болдуин[86]. Меркантилизм тем самым оказывается всего-навсего одной из множества форм геоэкономики. По тем же причинам, если брать степень, в которой государственные лидеры следуют рецептам экономического либерализма (минимальное вмешательство государства, свободная торговля и т. д.) в убеждении, что эти стратегии служат геополитическим интересам, либерализм также оказывается с полным на то основанием в пространстве геоэкономики[87].
22
Эпиграф: Benjamin Constant, цит. по: Albert O. Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade (expanded ed. [Berkeley: University of California Press, 1980]) (Berkeley: University of California Press, 1945), 145–155.
23
Deborah Cowen and Neil Smith, «After Geopolitics? From the Geopolitical Social to Geoeconomics», Antipode 1 (2009): 22–48; Jean-François Gagné, «Geopolitics in a Post – Cold War Context: From Geo-Strategic to Geo-Economic Considerations?», Etude Raoul-Dandurand 15, University of Quebec, Montreal, 2007; Edward Luttwak, «From Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce», National Interest 20 (1990): 17–23. Другие не менее абстрактные определения геоэкономики: David A. Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985); Renatro Cruz DeCastro, «Whither Geoeconomics? Bureaucratic Inertia in U.S. Post – Cold War Foreign Policy toward East Asia», Asian Affairs 26, no. 4 (2000): 201–222.
24
Мадридский и брюссельский «мозговые центры» Фонда международных отношений и диалога между странами (FRIDE) декларируют: «Геоэкономика означает использование методов управления государством в экономических целях; акцент на относительных экономических выгодах и могуществе; стремление обеспечить контроль над ресурсами; комбинирование интересов государства и деловых кругов; приоритет экономической безопасности по сравнению с прочими формами безопасности». См. Richard Youngs, «Geo-Economic Futures», in Challenges for European Foreign Policy in 2012: What kind of geoeconomic Europe? ed. Ana Martiningui and Richard Youngs (Madrid: FRIDE, 2011), 14.
25
Mark Thirlwell, «The Return of Geo-economics», Interpreter, Lowy Institute for International Policy, May 24, 2010. Столь же широкое определение, предложенное Брэдом Сетсером и Полом Шварцем, трактует геоэкономику просто как «все, что касается одновременно экономики и геополитики» («Geoeconomics, in Pictures», Follow the Money [blog], Council on Foreign Relations, July 31, 2009). Третьи различают геоэкономику и экономическую конкуренцию, характеризуя те инструменты влияния, которые затрагивают эффективность производства, контроль рынка, сальдо торгового баланса, сильную валюту, валютные резервы и так далее; см. Samuel Huntington, «Why International Primacy Matters», International Security 17, no. 4 (1993): 68–83.
26
Французский политический экономист Паскаль Лоро, например, объясняет, что «геоэкономика изучает экономические стратегии, особенно торговые стратегии, которые принимаются государствами в определенных политических условиях для защиты собственных экономик в целом или их строго определенных сегментов, чтобы предприятиям этих стран приобрести технологии или закрепиться в том или ином секторе мирового рынка с конкретными видами продукции или коммерциализировать те или иные продукты». Pascal Lorot, «La geoeconomie, nouvelle grammaire des rivalites internationals», L’information geographique 65, no. 1 (2001), 43–52; Blagoje S. Babić, «Geo-Economics – Reality & Science», Megatrend Review 6, no. 1 (2009): 32, www.webster.ac.at/ les/BlagojeBabic_2008.pdf.
27
См. Ian Bremmer, The End of the Free Market: Who Wins the War between States and Corporations? (New York: Portfolio, 2010); David Cortright and George Lopez, eds., Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft (New York: Rowman and Little eld, 2002); Daniel Drezner, «Trade Talk», American Interest 1, no. 2 (December 2005): 68–76, and The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Richard Haass, Economic Sanctions and American Diplomacy (New York: Council on Foreign Relations Press, 1998); Edward Luttwak, Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy (New York: Harper Perennial, 2000); Robert A. Pape, «Why Economic Sanctions Do Not Work», International Security 22, no. 2 (Fall 1997): 90–136; James D. Sidaway, «Asia – Europe – United States: The Geoeconomics of Uncertainty», Area 37, no. 4 (2005): 373–377; Matthew Sparke, «From Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands», Geopolitics 3, no. 2 (1998): 62–98; and Brendan Taylor, Sanctions as Grand Strategy (New York: Routledge, 2010).
28
Этот довод впервые приобрел популярность в 1850-х годах благодаря Ричарду Кобдену, который утверждал, что свободная торговля объединяет государства, заставляя каждое из них в равной степени стремиться к богатству и счастью. Данная точка зрения была переосмыслена в «Великой иллюзии» Нормана Энджелла незадолго до Первой мировой войны, а затем в 1933 году. Энджелл считал, что государствам приходится выбирать между новыми способами мышления, а именно мирной торговлей, и «старыми методами» силовой политики. Даже если война когда-то приносила прибыль, модернизация сегодня делает невозможным «обогащение» посредством силы; более того, разрушая торговые связи, война ведет к «коммерческому самоубийству». Dale C. Copeland, «Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations», International Security 20, no. 4 (Spring 1999), 5–41.
29
James Allen Smith, Strategic Calling: The Center for Strategic and International Studies, 1962–1992 (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 1993).
30
В последние годы американская внешняя политика подвергается возрастающему давлению: отовсюду слышатся обоснования стратегической необходимости сделать приоритетом внутреннее экономическое возрождение США, с опорой на предполагаемую корреляцию между «упорядочением» американской экономики и способностью Америки проецировать силу за рубежом. В книге с точным названием «Внешняя политика начинается дома» Ричард Хаасс утверждает, что наибольшая угроза для безопасности и процветания Соединенных Штатов исходит изнутри. По Хаассу, это требует «восстановления былой американской силы, дабы страна оказалась в состоянии превзойти своих потенциальных стратегических конкурентов или хотя бы лучше подготовиться к их неизбежному появлению». (Richard Haass, Foreign Policy Begins at Home [New York: Basic Books, 2013], 104). Аналогичные соображения высказывали З. Бжезинский (Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power [New York: Basic Books, 2012], 63–64), К. Холмс (Kim Holmes Rebound: Getting America Back to Great [Lanham, Md.: Rowman and Little eld, 2013]), Дж. Шульц (George Shultz, «Memo to Romney – Expand the Pie», Wall Street Journal, July 13, 2012) и Р. Зеллик (Robert Zoellick, «American Exceptionalism: Time for New Thinking on Economics and Security», Alastair Buchan Memorial Lecture, International Institute for Strategic Studies, London, July 25, 2012).
31
Стратегия национальной безопасности США 2010 года, например, целиком строится на допущении, что национальная безопасность начинается дома и что американское могущество «прирастает изнутри». Версия 2015 года воспроизводит и развивает этот посыл.
32
Ср., например, следующие работы: David Baldwin (Economic Statecraft), Susan Strange («International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect», International Affairs, 1970), Alan Dobson (US Economic Statecraft for Survival 1933–1991 [New York: Routledge, 2002], 2002), Albert Hirschman (National Power and the Structure of Foreign Trade, expanded ed. [Berkeley: University of California Press, 1980]), Paul Samuelson (Economics, 10th ed. [New York: McGraw-Hill, 1976]), and Klaus Knorr (The Power of Nations: The Political Economy of International Relations [New York: Basic Books, 1975]); Klaus Knorr and Frank Trager (eds., Economics Issues and National Security [Lawrence, Kan.: National Security Education Program, 1977]). Все авторы перечисляют множество инструментов экономического государственного управления, однако в большинстве своем не указывают степень применимости этих инструментов. Мы подробно рассматриваем данное упущение в главах 2 и 3.
33
Данное определение геоэкономики подразумевает целенаправленное поведение (действие или бездействие государства) и сопутствующие факторы (то есть влияние экономических действий других государств на геополитические цели данной страны). Такую интерпретацию разделяют, к примеру, Д. Цургаи и К. Зольберг Шелен, хотя их определения отличаются в терминологическом плане. См., например, Csurgai, «Geopolitics, Geoeconomics and Economic Intelligence», Strategic Datalink, no. 69 (Toronto: Canadian Institute of Strategic Studies, 1998); Søilen, «The Shift from Geopolitics to Geoeconomics and the Failure of Our Modern Social Sciences», Electronic Research Archive, Blekinge Institute of Technology, 2010.
34
Схожие сображения высказывали Бжезинский (Strategic Vision, 63–64), Хаасс (Foreign Policy Begins at Home, 1), Шульц («Memo to Romney— Expand the Pie») и Зеллик («American Exceptionalism»).
35
Обширная литература по теме «коммерческого мира» (по существу, обсуждение верности гипотезы о том, что укрепление экономических связей снижает вероятность конфликта между торговыми партнерами) и дебаты о глобализации в 1990-х и в начале 2000-х годов (споры о том, приведет ли становление единого глобального рынка к снижению вероятности мировых конфликтов) представляют собой, пожалуй, наиболее значимый вклад современной международной политической экономии в изучение того, как экономические явления могут изменять геополитические цели и результаты. См. William Domke, War and the Changing Global System (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1988); Erik Gartzke, Quan Li, and Charles Boehmer, «Investing in the Peace: Economic Interdependence and International Conflict», International Organization 55, no. 2 (2001): 391–438; Edward D. Mansfield, Power, Trade, and War (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994); Bruce Russett and John R. Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations (New York: Norton, 2001).
36
Dobson, US Economic Statecraft for Survival.
37
Benn Steil, «Taper Trouble», Foreign Affairs, October 7, 2014.
38
Ibid.
39
Ibid.
40
Robert D. Blackwill, «The Geopolitical Consequences of the World Economic Recession – A Caution», RAND Corporation Occasional Paper, 2009; Jeff Lightfoot, «The Strategic Implications of the Euro Crisis», Fletcher Forum of World Affairs, January 24, 2013; Simon Nixon, «EU’s Next Challenges Are Geopolitical», Wall Street Journal, July 20, 2014; Jonathan Kirshner, «Geopolitics after the Global Financial Crisis», International Relations and Security Network, September 3, 2014; Alexander Mirtchev, «Europe’s Strategic Future: Implications of the Eurozone Crisis», International Relations and Security Network, October 14, 2013.
41
Susan Strange, «International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect», International Affairs, April 1970, 308.
42
См. Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, and Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered (Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2007); Per Lundborg, The Economics of Export Embargoes (London: Croom Helm, 1987); Drezner, The Sanctions Paradox, и «Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice», International Studies Review (March 2011); Jonathan Kirshner, «Currency and Coercion in the Twenty-First Century», in International Monetary Power (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2006); James Reilly, «China’s Unilateral Sanctions», Washington Quarterly (Fall 2012); David Baldwin, «The Sanctions Debate and the Logic of Choice», International Security 24, no. 3 (1999–2000): 80–107; Richard Haass and Meghan O’Sullivan, eds., Honey and Vinegar: Incentives, Sanctions, and Foreign Policy (Washington, D.C.: Brookings Institution Press).
43
Edward Luttwak, The Rise of China vs. the Logic of Strategy (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2012), 40.
44
Ibid., 42.
45
Как отмечалось выше, определение Болдуина относится к тем, которые ближе всего к нашему, оно уделяет внимание не столько целям, сколько средствам, и описывает тот «эмпирически бесспорный факт, что творцы политики используют порою экономические средства для достижения широкого спектра неэкономических целей» (Economic Statecraft, 40). Определение Болдуина отличается от нашего толкования геоэкономики тем, что болдуиновское определение является телеологическим и не может служить инструментом анализа. То есть он придает экономическому государственному управлению более ограничительный характер с точки зрения неэкономических инструментов, и это исключает, например, деятельность в киберпространстве.
46
Так называемые классические случаи геоэкономического государственного управления чаще всего охватывают санкции Лиги Наций против Италии, эмбарго США против Японии, ограничения на торговлю с коммунистическими странами, введенные Соединенными Штатами и Западной Европой, американские санкции против Кубы и санкции ООН против Родезии. См Baldwin, Economic Statecraft, chap. 8 and p. 373.
47
Добсон отмечает, что экономическое государственное управление можно назвать «несуществующей» областью исследований, отчасти из-за предубежденности специалистов по международным отношениям, а также вследствие бытования среди ученых уверенности в том, что экономические инструменты не вполне эффективны в сфере геополитики. Еще он указывает на неготовность либеральных экономистов признавать опору экономики (и даже ее подчиненность) на политические и геополитические факторы (см. US Economic Statecraft for Survival, 4–5). Недавно Р. Зеллик также отмечал, что американские стратеги в области безопасности словно утратили способность комбинировать экономику и внешнюю политику («Currency of Power», Foreign Policy, October 8, 2012).
48
Sanjaya Baru, «Introduction: Understanding Geo-economics and Strategy», presented at the seminar «A New Era of Geo-economics: Assessing the Interplay of Economic and Political Risk», IISS, October 24, 2012.
49
Baldwin, Economic Statecraft, 40.
50
Некоторые пытались это сделать, используя, впрочем, различные определения геоэкономики, геополитики или обеих дисциплин разом. По словам Бабича, геополитика нацелена на утверждение контроля над территориями и населением, эти территории занимающим, тогда как геоэкономика фокусируется на контроле над товарами, технологиями и рынками. Геополитические стратегии опираются на развертывание военной силы или на угрозу ее применения; геоэкономические же стратегии опираются на экономические средства. В-третьих, геополитика, как правило, понимается как игра с нулевой суммой, а геоэкономика не обязательно должна быть таковой. К. Зольберг Шелен, автор книги о геоэкономике, приводит еще одно различие: «Деятельность [в сфере геоэкономики] предпринимается обыкновенно не физическими лицами, представляющими национальное государство, а сотрудниками организаций частного сектора». Klaus Solberg Søilen, Geoeconomics (BookBoon: 2012), 8.
51
Graham Evans and Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations (London: Penguin Books, 1998), 197. Рассуждения об оптимальной геополитике: Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby, and Paul Routledge, The Geopolitics Reader (London: Routledge, 1998).
52
Как заметил американский дипломат и ученый середины двадцатого столетия Роберт Штраус-Хупе, геополитика есть «борьба за пространство и власть». Robert Strausz-Hupé, Geopolitics: The Struggle for Space and Power (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1942). См. также Robert D. Kaplan, «Crimea: The Revenge of Geography», Forbes, March 14, 2014.
53
Отметим, что «экономические показатели» в нашем понимании затрагивают исключительно соотношение между общим экономическим здоровьем нации и военной силой; они не включают в себя согласованное использование экономических инструментов или влияния для достижения специфических геополитических целей.
54
Хиллари Клинтон в своей речи об экономическом государственном управлении указывает на ту важную роль, которую экономические возможности играют в качестве составляющей «умной силы», то есть на их роль в активной дипломатии, а также в сохранении статуса сильнейшей армии мира. Speech delivered at the Economic Club of New York, October 14, 2011.
55
Michael Mandelbaum, The Road to Global Prosperity (New York: Simon and Schuster, 2014), xvi.
56
Ibid.
57
На представлении своей программы экономического государственного управления Клинтон также открыто говорила об институциональных изменениях, необходимых для осуществления этих политических сдвигов. См., например, Hillary Rodham Clinton, «Economic Statecraft», remarks to the New York Economic Club.
58
См., например, Zoellick, «The Currency of Power»; David Rothkopf, «Hillary Clinton Ingests the Commerce Department», Foreign Policy, October 14, 2011; R. Nicholas Burns and Jonathon Price, eds., The Global Economic Crisis and Potential Implications for Foreign Policy and U.S. National Security (Washington, D.C.: Aspen Institute, 2009). Причем один из наиболее ярких призывов к такому повороту является одновременно одним из самых ранних. Фред Бергстен в апреле 1971 года, будучи молодым сотрудником СНБ, подал докладную записку своему боссу, советнику президента по национальной безопасности Генри Киссинджеру, в рамках подготовки встречи между Киссинджером и Питом Питерсоном; в записке говорилось: «Однако имеются более глубокие, философские соображения, которые обязательно скажутся на ваших отношениях с Питерсоном: это взаимосвязь между внешнеэкономической политикой и внешней политикой в целом. Будет (с оговорками) правильно сказать, что внешнеэкономическая политика определяла общую внешнюю политику США на протяжении всего послевоенного периода; все наши „экономические“ инициативы (МВФ, МБРР, план Маршалла, переговоры Кеннеди, СПЗ и т. д.) предлагались и осуществлялись по причинам внешнеполитического свойства, и вопросы внешней политики определяли позицию США практически по всем шагам во внешнеэкономической политике…
В настоящее время ощущается нарастающее стремление изменить это соотношение. На самом деле его, вероятно, и вправду следует изменить, в некоторой степени, дабы увеличить „экономическое“ содержание внешнеэкономической политики, по тем же причинам, по которым мы сегодня хотим разделить с союзниками нашу глобальную роль в вопросах политики и безопасности». «Memorandum from C. Fred Bergsten of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Kissinger)», Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume III, Foreign Economic Policy; International Monetary Policy, 1969–1972, Document 64, Department of State, Office of the Historian, http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v03/d64.
59
Rothkopf, «Hillary Clinton Ingests the Commerce Department».
60
Nicholas Burns, личная беседа.
61
Zoellick, «The Currency of Power».
62
Историки наподобие Алана Добсона и Фрэнка Гэвина рисуют картину, схожую с описанием Зеллика. По словам Гэвина, на протяжении большей части своей истории, «Соединенные Штаты безжалостно применяли экономические инструменты для вознаграждения друзей и наказания противников всякий раз, когда возникала такая потребность, и редко колебались, если требовалось подчинить финансовые прибыли соображениям геополитики». F. J. Gavin, «Both Sticks and Carrots», Diplomatic History 28 (2004): 607–610.
63
Luttwak, «From Geopolitics to Geo-Economics».
64
См., например, Colin S. Gray and Geoffrey Sloan, eds., Geopolitics, Geography, and Strategy (New York: Routledge, 1999); Jakub J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006); Walter Russell Mead, «The Return of Geopolitics», Foreign Affairs, May/June 2014; Robert Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Con icts and the Battle against Fate (New York: Random House, 2012).
65
Dobson, US Economic Statecraft for Survival.
66
Практические шаги мало что значат. Поскольку Соединенные Штаты и большинство других стран уже давно разделяют санкции и физическое эмбарго, последние перестали занимать главное место в нынешних дебатах о санкциях.
67
Этот раздел во многом обязан Болдуину, который подробно обсуждает, каким образом «двусмысленность» ряда концепций (внешнеэкономическая политика, меркантилизм и либеральная экономическая мысль, среди прочих), зачастую связанная с геоэкономикой (последнюю он называет «экономическим государственным управлением»), может порождать препятствия, мешающие использованию геоэкономики. См. Baldwin, Economic Statecraft, 48–77.
68
Stephen D. Cohen, The Making of United States International Economic Policy: Principles, Problems, and Proposals for Reform (New York: Praeger, 1977), xvii – xxiii, cited in ibid., 34.
69
Baldwin, Economic Statecraft, 77.
70
Или, цитируя Болдуина, «между изучением таких грубых предметов, как „национальное соперничество и национальная власть“, и изучением национального богатства» (ibid.).
71
Отсюда лишь небольшой шажок от подобного прочтения Адама Смита и его последователей к мнению, будто «доктрина свободной торговли… (а также другие интеллектуальные отпрыски либеральной экономической мысли) отрицает обоснованность применения экономических инструментов для достижения политических целей». John Pinder, «Economic Diplomacy», in World Politics: An Introduction, ed. James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd (New York: Free Press, 1976).
72
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, cited in Baldwin, Economic Statecraft, 80.
73
Smith quoted in Baldwin, Economic Statecraft, 81.
74
Ibid., 84, 81.
75
Robert Gilpin quoted in Baldwin, Economic Statecraft, 84.
76
Д. Болдуин и Д. С. Грюэл настаивают на этом. См. Baldwin, Economic Statecraft, 78–85; and Grewal, Networked Power, 235–238, 360–361.
77
John Maynard Keynes, «National Self Sufficiency», Yale Review 22, no. 4 (June 1933).
78
Ibid.
79
Baldwin, Economic Statecraft, 79.
80
Ibid., 85.
81
См. Frank M. Russell, Theories of International Relations (New York: Appleton-Century, 1936), 295; Edmund Silberner, La guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle (Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1939), 282; Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, 6.
82
Edward Mead Earle, «Adam Smith, Alexander Hamilton, Friedrich List: The Economic Foundations of Military Power», in Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, ed. Fred I. Greenstein and Newlson W. Polsby (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975), 123–124.
83
Frank M. Russell, Theories of International Relations (New York: Appleton-Century, 1936), 296, cited in Baldwin, Economic Statecraft, 86.
84
F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace (London: Cambridge University Press, 1963), 97, cited in Baldwin, Economic Statecraft, 86.
85
Ibid.
86
Baldwin, Economic Statecraft, 77.
87
Russell, Theories of International Relations, 179–203, 282–313; Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, 6–10; Silberner, La guerre dans la pensée économique, 125–269.