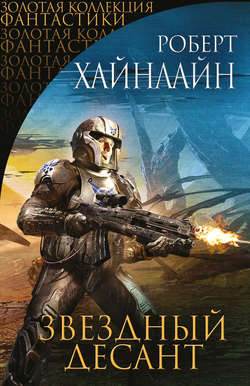Читать книгу Звездный десант (сборник) - Роберт Хайнлайн - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Звездный десант
Глава 4
ОглавлениеИ сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много, не могу я предать Мадианитян в руки их, чтоб не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: «моя рука спасла меня». Итак, провозгласи вслух народу и скажи: кто боязлив и робок, пусть возвратится… И возвратилось народу двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе… Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом с руки триста человек… И сказал Господь Гедеону: тремя стами лакавших я спасу вас… а весь народ пусть идет, каждый на свое место…
Книга Судей Израилевых, 7,2–7
Через две недели нам приказали сдать койки на склад. Точнее, нам предоставили двойное удовольствие – тащить их на склад нужно было четыре мили. Но это было уже не важно: земля будто стала гораздо теплее и мягче – особенно если приходилось вскакивать с нее среди ночи по сирене и в очередной раз играть в войну. Это случалось в среднем три раза в неделю. Но я уже готов был провалиться в сон сразу, как только отпустят, а чуть позже научился спать где угодно – сидя, стоя, маршируя в строю… Чего там, я мог заснуть даже на вечерней поверке, наслаждаясь музыкой сквозь сон и сохраняя на лице видимость полного внимания, а по команде «разойдись» – немедленно просыпался.
В лагере Кюри я сделал очень важное открытие. Счастье состоит в возможности вволю поспать. Только поспать – и больше ничего! Богатые – несчастные люди, не могут уснуть без снотворного; пехотинец же в снотворном не нуждается. Дайте ему койку да время, чтоб в нее плюхнуться, – и он уже счастлив, будто червяк в яблоке, – спит!
Теоретически положены восемь часов сна еженощно да еще полтора после ужина – так называемого «личного времени». На практике ночное время частенько бывает занято учебными тревогами, нарядами и другими штучками, на которые так щедр господь бог и «приравненные к нему лица». А вечер, если не будет порушен, скажем, дополнительной строевой подготовкой или внеочередным нарядом, скорее всего уйдет на чистку башмаков, стирку, стрижку – сначала стрижешь ты, потом стригут тебя (многие из нас неплохо умели стричь, а уж сообразить бритье головы каждый может, да оно и удобнее). А может, припрягут еще куда – оружие, обмундирование – мало ли что сержанты выдумают! К примеру, мы научились откликаться на утренней поверке криком: «Мылся!» Имелось в виду, что ты мылся за прошедшие сутки хотя бы раз. Конечно, можно и соврать – я и сам пару раз так делал, – но как-то одного из нашей роты угораздило обмануть начальство при явной очевидности того, что он не мылся довольно давно. Так его отдраили швабрами и порошком для мытья пола свои же товарищи по отделению – под заботливым руководством капрал-инструктора.
Но если после ужина не находилось ничего спешного, все-таки можно было выкроить время и написать письмо, просто побездельничать, поболтать, обсуждая мириады умственных и нравственных недостатков наших сержантов, а также порассуждать на излюбленную тему – о природе женщин. По их поводу мы вскоре пришли к заключению, что женщины – всего-навсего миф, порожденный воспламененной фантазией. Правда, один из нашей роты клялся и божился, что видел девчонку возле самого штаба полка – и его немедля заклеймили как лжеца и хвастуна. Еще можно было поиграть в карты. На собственном горьком опыте я научился не прикупать к стриту и никогда больше этого не делал – потому что за карты с тех пор ни разу не садился.
Или – если действительно образовывалось минут двадцать твоих собственных, не казенных – можно было поспать. Это, по-моему, разумнее всего – ведь по сну у нас всегда был недобор в несколько недель.
Впрочем, послушав меня, вы можете решить, что лагерь был тяжелей, чем можно вынести. Это не так. Лагерь был тяжел, насколько возможно, – и причина для этого была вполне конкретная.
Почти все новобранцы твердо убеждены, что учебный лагерь – сплошь безграничная подлость, тщательно продуманный садизм, дьявольские забавы безмозглых идиотов, которым приятно, когда люди мучаются…
Нет. Слишком уж все продумано, слишком интеллектуально, слишком отработано и безлично организовано, чтобы быть жестокостью ради жестокости. Здесь все было продумано четко и бесстрастно – как при хирургической операции. Ну да, вполне может быть, что некоторым инструкторам такие штуки доставляли удовольствие. Но теперь-то я знаю: подбирая инструкторов, стараются исключить малейшую ошибку. И уж во всяком случае – не ставить на эту должность тех, кто не прочь поизмываться над салажатами. Такие типы слишком тупы, не свободны эмоционально – и слишком быстро устанут от своих штучек, забьют на все болт и не смогут эффективно вести подготовку.
Конечно, может быть, и попадется такой иногда. Мне приходилось слышать, например, о хирургах, которым доставляло наслаждение резать и пускать кровь, но в нашей, человеческой хирургии не избежать крови.
Да, так оно и было – хирургия! И с единственной целью: отсеять тех, кто слишком нежен или просто не дорос еще до того, чтобы учиться на Мобильного Пехотинца. И они стаями бежали прочь. Я и сам был близок к тому, чтобы сбежать. Рота наша сократилась до размеров взвода в первые же шесть недель. Одни просто ушли, собираясь дослужить срок в частях нонкомбатантов, другие были уволены за различные проступки, кто-то получил «Отставку по несоответствию», а кто-то – «Отставку по состоянию здоровья».
Вообще-то нам не сообщали, почему уволен тот или другой, – разве что он сам рассказывал. Некоторые увольнялись по собственному желанию, громко проклиная всех и вся и навсегда распрощавшись с полными гражданскими правами. Другие, особенно те, кто постарше, просто физически не могли выдерживать таких нагрузок – от их старания здесь ничего не зависело. Помню одного, замечательный был старый чудик по фамилии Каррузерс. Ему было что-то около тридцати пяти – его, помнится, волокли на носилках, а он как резаный орал, что это несправедливо и он еще вернется.
Это нагнало на нас тоску – Каррузерса мы любили, а он действительно старался как мог. Мы думали, что больше его не увидим, что он носит теперь штатский костюм с медицинским заключением о непригодности в кармане. Впрочем, мне посчастливилось увидеть его еще раз – много позже. Он отказался от увольнения – это можно, если по состоянию здоровья, – и пошел третьим коком на десантный транспорт. Он узнал меня и захотел поболтать о прежних временах – своей подготовкой в лагере Кюри он гордился не меньше, чем мой папахен своим гарвардским акцентом, и считал, что именно поэтому он хотя бы капельку, но лучше любого другого флотского.
Однако эта цель – отсеять непригодных как можно быстрей, не растрачивать на их обучение правительственных денег – не была главной. Главное – сделать так, чтобы десантник, не прошедший надлежащей подготовки, не вошел в капсулу для боевого десанта. Те, кто идет в бой, должны соответствовать по всем статьям – дисциплина, пригодность, квалификация и решительность. Если же нет, то ни для правительства государства, ни для его товарищей – а пуще всего для него самого – бой ничем хорошим не кончится.
И все же – не был ли учебный лагерь жесток сверх надобности?
Все, что я могу сказать по этому поводу, – это когда я пойду в следующий боевой десант, я хотел, чтобы со мной шли ребята, подготовленные в лагере Кюри или в таком же лагере в Сибири. Иначе я в капсулу не полезу.
Но в то время и я считал: мол, нас заставляют заниматься разной ерундой. Вот к примеру. Когда мы пробыли в лагере неделю, нам выдали, в дополнение к нестроевой, полевую форму-хаки; ее мы должны были надевать на вечернюю поверку (парадную форму нам выдали гораздо позже). Я принес свой мундир обратно на вещевой склад и обратился к сержанту-кладовщику. Раз он был всего-навсего кладовщик и к нам относился совсем по-отечески, я счел, что он как бы наполовину штатский. Тогда я не разбирался еще в планках и нашивках, иначе даже заговорить с ним не решился бы!
– Сержант, мундир мне велик! Ротный командир сказал, будто я палатку на себя нацепил!
Он поглядел на мое одеяние, но даже не притронулся к нему.
– Велик, говоришь?
– Ага. Я хочу по размеру!
Он и не шевельнулся.
– Ты, салажонок, послушай, что дядя тебе скажет. У нас в армии есть только два размера – «велик» и «мал». Ясно?
– Однако командир роты…
– И он прав, как никогда!
– Но… Что же мне делать?
– А, так тебе нужен добрый совет… Что ж, у меня их целая куча; свежие, только сегодня поступили. Ммм… вот что сделал бы я. Это называется «иголка»; и я даже не пожалею тебе целую катушку ниток. Ножниц не надо – лезвие для бритья куда лучше… Стало быть, распорешь в талии и ушьешь, а в плечах оставь пошире, это тебе на вырост.
Сержант Зим по этому поводу только сказал:
– Мог бы сделать получше. Два наряда вне очереди.
И я сделал получше к следующему смотру.
Первые шесть недель были здорово тяжелы и насыщены: муштра сменялась марш-бросками и наоборот. Уже к тому времени, как отсеялась первая партия, мы способны были сделать пятьдесят миль за десять часов – очень прилично для тех, кто раньше нечасто ходил пешком. Отдыхали мы на ходу, только меняли аллюр – тихий шаг, быстрый шаг и рысь. Иногда мы, прошагав в один конец, разбивали лагерь, съедали полевые рационы, ночевали в спальниках, а на следующий день возвращались обратно.
Однажды мы вышли в обычный поход, без заплечных мешков, без рационов. Когда не остановились на обед, я не слишком удивился – знал уже, что к чему, и заблаговременно спер в столовой сахара и галет и еще разной еды и все это рассовал по карманам, однако, когда начался вечер, а мы продолжали удаляться от лагеря, почуял неладное. Но я уже был настолько умен, что не задавал дурацких вопросов.
Остановились мы перед самым наступлением темноты – три роты, уже достаточно поредевшие. Был устроен батальонный смотр, правда без музыки, затем расставили часовых и разрешили нам разойтись. Я немедленно направился к капрал-инструктору Бронски – с ним общаться было полегче, чем с остальными, а я все-таки чувствовал на себе некоторую ответственность. Дело в том, что к этому времени мне посчастливилось быть произведенным в рекрут-капралы. Правда, эти шевроны были считай что игрушечные – никаких привилегий не давали, кроме как отвечать за все свое отделение, а снять их могли еще быстрей, чем нашили. Сперва Зим перепробовал в роли рекрут-капралов всех, кто постарше, а я нарукавную повязку с шевронами унаследовал пару дней назад от командира нашего отделения. Он, не выдержав нагрузок, загремел в госпиталь.
– Капрал Бронски, – спросил я, – что там слышно? Когда будем ужинать?
Он в ответ ухмыльнулся:
– Да есть у меня пара галет. Хочешь, поделюсь?
– А? Нет, спасибо, сэр. – У меня съестных припасов имелось куда больше. – Значит, ужина не будет?
– Знаешь, салажонок, мне тоже никто не доложился. Только вертолетов со жратвой что-то не видать. На твоем месте я бы собрал свое отделение да прикинул, что к чему. Авось кому и посчастливится подбить камнем кролика.
– Есть, сэр. Но… Мы пробудем здесь всю ночь? Ведь спальников мы не взяли!
Он выпучил на меня глаза:
– Да что ты говоришь? Спальников не взяли, надо же! И правда, не взяли…
Он сделал вид, что напряженно думает.
– М-м-м… Видал когда-нибудь, как овечья отара во время бурана сбивается в кучу?
– Нет, сэр.
– Все равно попробуйте. Овцы же не замерзают, авось и вы не замерзнете. А если не любишь компании, можешь всю ночь бегать. Никто слова тебе не скажет, если не будешь за посты вылезать. Главное, не тормози – и не замерзнешь! Разве что маленько устанешь к завтрему!
Он опять ухмыльнулся.
Я отдал честь и вернулся к своему расчету. Мы стали делить наши припасы – и я на этом сильно проиграл; большинство этих олухов даже не сообразили спереть что-нибудь из столовой, а другие все сожрали еще на марше. Однако после нескольких крекеров и сушеных слив все-таки потише трубит в желудке.
Овечий прием тоже сработал: его проделал вместе весь наш полувзвод – три отделения. Конечно, если кто хочет выспаться, то ему не стоит проделывать такие штуки. Если лежишь с краю, один бок, как ни крути, мерзнет, тогда, понятно, лезешь в середину. А уж когда ты в середину пролез – согреваешься, но тут каждый норовит сложить на тебя свои мослы либо дышит в лицо своей нечищеной пастью… Так и ползаем всю ночь взад-вперед, на манер броуновского движения, и не заснуть, и не проснуться окончательно. Поэтому ночь будто сто лет тянется.
Подняли нас бодрым окриком:
– Па-а-адъ-ем! Вых-ходи стр-роиться! Жи-ва!
Крик сопровождался аккомпанементом инструкторских стеков, щелкающих пониже спины. Мы начали зарядку. Я чувствовал себя трупом хладным и не представлял, как смогу дотянуться до носков ботинок. Однако хоть со скрипом, но дотянулся, а на обратном пути почувствовал себя совсем разбитым. Сержант Зим, как обычно, был бодр и подтянут. Кажется, этот мерзавец даже умудрился побриться.
Солнце приятно согревало спины. Зим приказал запевать. Вначале – старые солдатские, «Le regiment de Sambre et Meuse», «Caissons» и «Пирамиды Монтесумы», а потом нашу «Польку полевую», которая кого угодно заставит пуститься рысью. Зиму еще в раннем детстве все уши медведь оттоптал – разве что мощный голосище остался, но Брекинридж уверенно вел мелодию, и даже Зимовы вопли не могли его сбить. На время мы преисполнились самоуверенности и распушили хвосты.
Однако через пятьдесят миль самоуверенности как не бывало. Ночь показалась мне длинной – а день вообще тянулся без конца. И Зим еще отчехвостил нас за «постные морды» и за то, что некоторые не успели – за девять минут от прихода в лагерь до поверки! – побриться.
Многие ребята решили в тот вечер уволиться, и сам я подумывал о том же. Однако не уволился – а все потому, что дурацкие шевроны рекрут-капрала все еще красовались на моем рукаве.
И в ту же ночь нам устроили двухчасовую учебную тревогу.
Все же в самом скором времени я вспоминал о ночевке в груде товарищей как о доме родном, уютном и теплом. Ровно через двенадцать недель после памятного марш-броска меня, почти голым, забросили в дикие канадские скалы и предоставили продираться через них сорок миль. Я справился – и проклинал армию на каждом дюйме моего пути.
Но на финише я даже не был слишком плох. Пара кроликов оказалась менее проворной, чем я, и я был не так уж голоден. Более того – даже одет, меня покрывал толстый слой кроличьего жира, пыли и грязи, а из шкурок вышли мокасины – самим кроликам шкурки были уже без надобности. Диву даешься, что можно при желании сделать обычным обломком камня! Да, похоже, наши пещерные предки не были такими уж тормозами!
Другие ребята тоже справились с этим переходом – те, кто решил попробовать и не уволился загодя. Только двое, пытаясь одолеть горы, погибли. Тогда мы вернулись назад и искали их тринадцать дней, ведомые специальными поисковыми вертолетами и инструкторами в командирских скафандрах, руководившими поисками и проверявшими все слухи. Мобильная Пехота не бросает своих, пока есть хоть какая-то надежда.
Их похоронили со всеми почестями, под оркестр, игравший «Это – наша земля», и присвоив им – посмертно – звания рядовых первого класса. Из наших салажат они первыми достигли таких высот.
Бойцу не обязательно оставаться в живых – смерть входит в его профессию, – но зато тому, как ты умрешь, значение придается громадное. Это просто обязывало подтянуться, держать хвост пистолетом и стараться изо всех сил.
Одним из двух погибших был Брекинридж. Второго – австралийца – я не знал. Впрочем, на учениях гибли и до них, и уж тем более вряд ли они были последними.