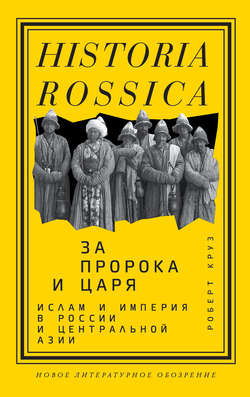Читать книгу За пророка и царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии - Роберт Круз - Страница 3
ВВЕДЕНИЕ
ОглавлениеСимволы православия долгое время определяли собой ландшафт современной России. В Российской империи православные цари провозглашали, что их самодержавное правление благословенно Богом. Золотые купола православных соборов озаряли Москву и сияли над селами всей обширной империи. Под православными иконами и хоругвями подданные клялись в верности царям и «святой Руси». Но за этой мифологией святой земли, единой в православии, скрывалась более сложная реальность и вечная дилемма для российских элит: не все обитатели империи были православными христианами. Цари правили также евреями, католиками, протестантами, буддистами и др. Начиная с XV в. экспансия Москвы на восток приводила под власть православных царей мусульман. К ХХ в. империя стала родиной примерно для 20 миллионов мусульман, составлявших самую большую группу неправославных (15% всего населения). Минареты тысяч мечетей от Санкт-Петербурга до Центральной Азии стояли в блеске православных церквей. Россия – единственная из немусульманских стран Нового времени, правившая мусульманами на протяжении более пятисот лет.
Стержень царской системы управления исламом и другими неправославными религиями был выкован европейским Просвещением. Начиная с Екатерины Великой (годы правления 1762–1796) империя создавала для своих подданных структуру взаимоотношений с самодержавием, основанную на религии. Екатерина пришла к выводу, что религиозный авторитет во всех его разнообразных формах может принести империи пользу. Императрица и ее преемники не пытались навязать религиозное единообразие своим подданным-неединоверцам, а выработали политику веротерпимости, чтобы такие религии, как ислам, стали фундаментальными структурными блоками империи. Они стремились превратить религиозный авторитет в каждой общине в инструмент имперского правления. Для миллионов царских подданных государство не только проявляло терпимость к другим религиям – оно представляло себя защитником определенных форм ислама, иудаизма, буддизма, протестантизма и др. Конфессиональная политика содействовала своего рода гражданскому участию в делах государства, признававшего только подданных, а не граждан. Царский режим конкурировал за лояльность подданных, особенно тех, у кого имелись единоверцы за пределами прозрачных границ империи. Мусульман, евреев и других неправославных побуждали связывать свои надежды и чаяния с монархией и ее институтами.
Мусульмане были отдельной проблемой для этого имперского проекта. Католики, протестанты, евреи и мусульмане жили в соседних странах, но, в отличие от евреев, не имевших на своей стороне никаких иностранных королей и армий, российские мусульмане могли обращать взоры к османскому султану, который клялся защищать верующих на своих границах. В начале ХХ в. Николай II (годы правления 1894–1917) столкнулся с конкуренцией со стороны не только османов, но и немцев и японцев, старавшихся подорвать мощь империй-соперниц с мусульманским населением, также обещая защищать ислам.
Проводя политику веротерпимости, царское правительство пыталось не только закрыть границы империи, но и распространить собственное влияние на местных мусульман. Суды и административные учреждения глубоко проникали в мусульманские общины, потому что решали внутренние споры между мечетями, синагогами, церквями и храмами. Миллионы мусульман всех слоев общества активно участвовали в этой религиозной политике. Многие из них находили общий язык с режимом, который, как казалось, поддерживал их понимание истинного смысла религии. Мусульмане в конце концов признали империю «Домом ислама» (дар аль-ислам), местом, где они могли легально исполнять свой религиозный долг. По ходу дела они стали принципиально важными посредниками, благодаря чему политические, судебные и административные органы империи со сравнительно низкими затратами расширялись территориально и управляли значительной частью Евразии. Эта книга рассказывает, как Россия стала мусульманской державой – и как правительство сделало ислам столпом имперского общества, превратив мусульман в активных участников повседневной работы самодержавной власти, строительства и поддержания империи на местах.
История становления российского «Дома ислама» и религиозного фундамента российской истории находилась в тени давней исторической традиции, которая сосредоточивалась на якобы вечном конфликте между христианством и исламом и между Европой и Востоком. Насилие играет одну из главных ролей в подобных нарративах. Чеченские войны России, как и многие другие после распада Югославии, постоянно связывают с образами религиозного насилия, в Европе отошедшего в далекое прошлое. Они напоминают мятежи эпохи Реформации, когда католики и протестанты стремились очистить свои ряды от «скверны», уничтожая своих врагов-«еретиков» и оскверняя их священные символы1. Большинство западноевропейцев за пределами Северной Ирландии ныне воспринимают эту враждебность как анахронизм. Но, обратившись к европейским фронтирам – Балканам и Кавказу, наблюдатели приходят к иным выводам. С точки зрения многих политиков, журналистов и ученых, вспышка войн между христианами и мусульманами в 1990‐е гг. была предсказуемым возвратом к естественному состоянию конфликта между этими религиозными традициями после искусственного перерыва при социализме. Согласно одной из часто повторяющихся формулировок, эти войны были свидетельством «столкновения цивилизаций», питаемого вековой ненавистью.
Стандартные рассказы о прошлом России давали плодородную почву для такого образа мышления. Средневековое Московское государство выросло из зависимости от мусульманских правителей Золотой Орды. К середине XVI в. Московскому государству удалось подчинить своих бывших властителей. Чудотворные иконы помогали московитам в их борьбе против «неверных», и они отпраздновали этот переворот как победу православия над исламом, чудо, увековеченное постройкой собора Василия Блаженного на Красной площади – и разрушением мечетей на вновь завоеванных территориях вдоль Волги. По мере экспансии в XVII–XVIII вв. государство сталкивалось с сопротивлением мусульманского населения на восточных и южных рубежах. В XIX в., как нам часто напоминают, российские войска вели тяжелую войну за господство на Кавказе. В 1820–1860‐х гг. сообщества горцев ответили на нее джихадом. Завоевание царями Центральной Азии во второй половине века принесло империи престиж, но с ним и бремя абсорбции многолюдного мусульманского населения на отдаленных границах с Китаем и Британской Индией (см. карту 1). К началу ХХ в. в империи Романовых жило больше мусульман, чем под властью османского султана. В каждой фазе экспансии Россия рисковала конфронтацией с османами. В одиннадцати больших войнах с конца XVII по начало ХХ в. и православный царь, и мусульманский султан были вынуждены бороться против вражеских единоверцев внутри своих границ.
Историки позднейших периодов русской истории укрепили это представление о почти постоянном антагонизме между российским государством и исламом. Согласно большинству рассказов, мусульмане оказались ни много ни мало угрозой советскому режиму, принявшему сложное наследство Российской империи2. Мусульмане на Кавказе и в Центральной Азии продолжали сражаться с новой властью и после того, как оппозиция была уничтожена во всех остальных местах. Советское государство, вооруженное идеологией воинствующего атеизма, организовало антирелигиозные кампании, в которых уничтожило исламские институты и кадры. Когда гитлеровские армии наступали вдоль южных границ Советского Союза, они обнаружили, что мусульманские добровольцы, наряду с другими, готовы присоединиться к антисоветским силам. Сталинская депортация чеченцев и их соседей-мусульман послужила свидетельством тому, что власть еще сомневалась в лояльности народов, долгое время сопротивлявшихся царскому и затем советскому правлению.
Во время холодной войны западные наблюдатели считали ислам ахиллесовой пятой советской системы – не только потому, что религия, как казалось, предохраняла мусульман от коммунистической идеологии, но и потому, что у мусульман была самая высокая рождаемость в советском обществе. Эксперты предсказывали, что в результате этого демографического давления в будущем большинство призывников в Советскую армию станут мусульманами. В 1980‐х гг. победа моджахедов над советскими войсками в Афганистане произвела глубокое впечатление на Восточный блок и на Запад, а также на его воинов-союзников из нарождавшихся джихадистских кругов. Их успех указал на возможность того, что революция под зеленым знаменем ислама сокрушит красную империю3.
Мусульмане не сыграли предсказывавшейся многими на Западе революционной роли в коллапсе СССР в 1991 г., но это не полностью свело на нет ощущение угрозы. Постсоветские элиты от Москвы до Ташкента по-прежнему воспринимали ислам как первейшую угрозу стабильности этих новых государств. Они указывали на опасность, исходящую от иностранных мусульман по ту сторону неустойчивых границ с Турцией, Ираном, Афганистаном, Пакистаном и Китаем. Движение «Талибан», казалось, подтвердило тревоги этих элит относительно ислама как агрессивной идеологической силы. Более того, недавние события усилили страх перед их собственными мусульманскими гражданами. Чеченские террористы обратили борьбу против гражданских целей, таких как театры и рок-концерты в российских городах, тогда как оппозиционные группы в Центральной Азии ушли в глубокое подполье, агитируя против диктаторских режимов во имя самых разных вещей – от свободы совести и демократических выборов до создания единого исламского государства для мусульман этого региона4.
В то же время крушение советской империи породило парадокс, оставшийся почти незамеченным. С одной стороны, оно высвободило различные формы насилия, которые старались объяснить и даже представить нормальными модели цивилизационного конфликта. С другой стороны, оно дало возможность поставить под вопрос то понимание прошлого, на котором основана такая интерпретация. Открытие архивов и библиотек и расширившиеся возможности интеллектуального обмена позволили ученым исследовать связанные с исламом темы, табуированные при советской власти.
При написании этой книги использовались многие из вновь появившихся источников для пересмотра истории взаимодействия России с исламом. В других рассказах о российско-исламских отношениях подчеркивается конфронтация, как в Чечне, тогда как в предлагаемой читателю работе исследуются исторические поиски альтернатив этому насилию в царской империи с конца XVIII по начало ХХ в. Я стремлюсь показать, что история ислама в Российской империи служит ключом к пониманию одного из важнейших вопросов интерпретации истории России и в более широком плане – истории империй. Историки долгое время занимались объяснением революций 1917 г. и оценкой легитимности большевистского режима, но лишь недавно начали изучать то, как царской империи удалось продержаться так долго и сохранять относительную стабильность вопреки невероятной неоднородности населения империи, обширности ее территории и, на первый взгляд, слабому и неупорядоченному характеру управления. Недавние исследования подчеркнули существенную роль самодержавия. Как показал Ричард Уортман, династия Романовых действовала как динамичная и адаптивная сила5. Другие историки подчеркивали опору режима на полиэтничную элиту, занявшую ключевые правительственные позиции в центре и правившую от его имени в пограничных землях6. Ученые также отмечали, что эта элита была многоконфессиональной и что ее религиозное разнообразие иногда вызывало трения между православной церковью и государством, а также между православными и теми, кто не исповедовал господствующую религию.
Надо сказать, что историки не исследовали постоянных усилий царского режима основать имперскую власть на религии. Династия Романовых на протяжении трехсот лет своего правления (1613–1917) опиралась на православные символы. Однако с начала XVIII в. империя стала домом для значительного числа католиков, протестантов, евреев, буддистов, мусульман и приверженцев различных местных верований. Современные ученые склонны концептуализировать это разнообразие в терминах этнических или национальных групп, но царские элиты смотрели на разнообразные народы империи сквозь призму религиозной принадлежности. В этой книге я стараюсь реконструировать отношение современников – как мусульман, так и их правителей – к политике в сфере религии, служившей фундаментом империи. Приверженность государства царей к правлению посредством религиозных практик и институтов и управления ортодоксией – конфессионализация населения империи – позволяла государству управлять, реже применяя насилие и добиваясь консенсуса чаще, чем ранее представляли историки. Для обеих сторон религия занимала центральное место в работе по созданию общего морального универсума. Конечно, играли свою роль социальный капитал и ранг, и в последние годы империи некоторые представители элиты придавали все больше важности категории «национальности». Историки России, как и других империй, обращали внимание на подъем национализма как ключ к пониманию развала империи7. Они старались проследить истоки национальных движений, которые в конце концов победили в Европе после Первой мировой войны и краха империй Романовых, Габсбургов и Османов, и были склонны преувеличивать привлекательность национальных символов и секуляризацию российского имперского общества до 1917 г.; исследователи пренебрегали тем, что интегративная конфессиональная политика, служившая modus operandi для царского режима, сохраняла жизнеспособность. С точки зрения российского государства казалось, что религия дает более фундаментальную основу для лояльности – и для дисциплины. Имперские законы обязывали каждого подданного принадлежать к какой-либо конфессиональной группе и, что не менее важно, подчиняться авторитету духовного сословия каждой конфессии. Согласно этой модели, религиозный конформизм усиливал уважение к порядку. Он регламентировал семью и обусловливал подчинение светским властям. Верно было и обратное. Нонконформизм и гетеродоксия выглядели угрозами существующей власти. Отступление от канонических норм, ритуалов и доктрин какой-либо из терпимых религий бросало вызов имперскому порядку. Память о расколе православной церкви в XVII в. и о восстаниях, спровоцированных религиозными диссидентами, заставляла большинство царских чиновников твердо стоять на стороне «ортодоксии» каждой конфессии, даже считая эти религии ниже православия.
Первоначально многие мусульмане, как и члены других общин, боролись против царского завоевания, но после упрочения российского правления ему сопротивлялись лишь сравнительно немногие, в связи с чем наш рассказ – не романтическая история гонений и сопротивления, не о том, как мусульмане якобы жили в отдельном мире, изолированные в своих общинах, индифферентные или враждебные к окружающей империи. Некоторые мусульмане проповедовали, что нужно избегать всего российского. Но это все труднее и труднее было осуществить на практике, поскольку имперские институты все глубже проникали в местные сообщества. Избегать контактов с государством и его чиновниками оказалось так трудно для этих мусульман именно потому, что слишком многие их единоверцы обращались к режиму за помощью в наведении порядка в их сообществах. К кому было обращаться благочестивым мусульманам, когда их соседи отказывались посещать молитвы в мечети, пили алкоголь или с ошибками исполняли суфийские мистические ритуалы? Сами мусульмане взывали к государственному вмешательству в дискуссиях с другими мусульманами. Как мы увидим, мусульмане нуждались в царской власти, чтобы жить согласно Божиему плану, как они понимали его.
Царская империя, конечно, родилась в завоевательных войнах. Однако после окончания сражений правителям и управляемым приходилось договариваться о неких условиях мира. Редко случалось, чтобы каждая сторона желала возобновления вражды. С конца XVIII в. поиски гражданского мира на территории Российской империи строились вокруг своеобразного режима веротерпимости. Хотя православная церковь сохраняла обширные привилегии, мусульмане, католики, протестанты, евреи и буддисты получили официальное признание своих религий. Веротерпимость первоначально служила стратегией успокоения страстей, возбуждавших приверженцев гонимых вер на борьбу против режима, но стала чем-то гораздо бóльшим, чем политика невмешательства, как этот термин обычно понимают сегодня. В Европе XVIII–XIX вв. это понималось по-иному. В России веротерпимость служила структурой для интеграции неправославных подданных, количество которых по мере экспансии империи постоянно росло. Эта модель основывалась на разработанной мыслителями Просвещения всех стран Европы идее о том, что все религии обладают некоторыми общими чертами. Терпимые религии – по сути, развитые системы дисциплины – могли принести пользу «просвещенным» правителям. Где насилие было бы слишком грубым инструментом, там обращение к религиозному авторитету могло помочь сделать лояльными и дисциплинированными подданными тех, кто, возможно, не послушался бы одного монаршего слова, но согласился бы повиноваться Богу. Веротерпимость была тем инструментом государственного вмешательства, который зачастую приветствовали сами мусульманские подданные.
В этой книге я стремлюсь показать и то, как режим пытался применять религию для управления империей, и то, как мусульманские общины использовали царскую политику и суды в своих целях. Режим инструментализировал ислам, но мусульмане овладели государственными учреждениями, применяя их методы принуждения в повседневных интерпретативных дискуссиях среди мусульман и мусульманок. Империя в значительной мере опиралась на лояльность мусульман, потому что прочно укоренилась в умах мусульманских посредников и стала принципиально важным инструментом в ситуациях, когда мусульмане спорили, дискутировали и сталкивались друг с другом из‐за смысла своей религии и своего места в мире. Романовское государство черпало силу из этого альянса с мусульманами, искавшими помощи против своих врагов, даже когда было неясно, кто из союзников кого использует. Посредством подобных взаимодействий империя оформлялась в умах своих подданных, хотя результат, возможно, разочаровал некоторых мусульман. Религия стала зависимой от институтов государства, а империя опиралась на конфессиональный фундамент.
И перед царской властью, и перед его мусульманскими подданными встала дилемма: как сделать ислам полезным в качестве конфессии, терпимой в империи. Как и в современной Европе, правительство видело ключом к этой стратегии привлечение влиятельных, но достойных доверия мусульманских религиозных деятелей. Они должны были служить посредниками для режима, передавая государственные директивы, охраняя мораль верующих и символизируя собой отеческую заботу царя об исламе. Но эта религия, как и иудаизм, была особой проблемой для романовского государства. У других терпимых конфессий были некие формы иерархической организации, которую государство могло бы включить в свою структуру, но ислам, по наблюдению Ричарда Буллиета, исторически развился «без такого ценного или обременительного груза, как организованная церковная структура или централизованный источник доктринального авторитета». Религиозный авторитет был текучим и неформальным: «местные общины мусульман в основном сами выбирали свой путь и выдвигали собственных религиозных лидеров, исходя из готовности следовать тем людям из своей среды, которые казались наиболее благочестивыми или образованными»8. В России поиски источника исламского авторитета заставили режим обращаться к мусульманам, вовлекать их в процесс конструирования исламских институтов ради приобретения государственного патроната – и помощи в дисциплинировании мусульманских подданных царя.
Для мусульман этот путь к социальному миру был как минимум тернистым. В наши дни мусульманские политические лидеры в Москве охотно указывают, что ислам пришел в Россию раньше православия; ислам, таким образом, самая «традиционная» из российских религий9. Мусульмане принесли свою религию народам Евразии с Аравийского полуострова в первые века ислама. К Х в. крупные мусульманские сообщества организовались в Поволжье, Сибири, на Кавказе и в оазисных городах Центральной Азии. Ислам распространялся по Поволжско-Уральскому региону и степям к северу от Каспия. Большинство этих новообращенных стали суннитами и приняли ханафитскую школу правовой интерпретации (названную в честь юриста VII в. Абу Ханифы); меньшинство на Кавказе и в Центральной Азии стали шиитами или последователями других правовых школ. Обращение в ислам среди народов, населяющих эти разнообразные лесные, степные и пустынные регионы, продолжалось и в Новое время10. Но с XV в. все больше этих сообществ подчинялось правлению царей, которые традиционно воплощали собой православное благочестие.
Мусульмане – подданные империи никогда не составляли однородного сообщества. Они в разное время и по-разному входили в состав империи и потому имели различающийся опыт подчинения имперской власти. К моменту воцарения Екатерины Великой российские правители уже более двух веков управляли мусульманами Поволжья. Екатерина присоединила новые мусульманские народы в Крыму и степных регионах к северу от Кавказских гор и Каспийского моря. К концу 1820‐х гг. войска Александра I (годы правления 1801–1825) и Николая I (1825–1855) захватили территории к югу от Кавказского хребта, отбросив иранцев и османов за реку Аракс. Российской армии понадобилось еще три с половиной десятилетия для завоевания мусульманских общин, разбросанных по Северному Кавказу от Черного до Каспийского моря. Между 1834 и 1859 гг. движение под руководством имама Шамиля оказало серьезное сопротивление царским войскам на территории Дагестана и Чечни, и в те же годы российские администраторы выдвинули свои пограничные форпосты за реку Урал и дальше в казахские степи. К концу XIX в. Российская империя простиралась до реки Амударьи и гор Тяньшаня в Центральной Азии. Расширяясь в направлении Гиндукуша, империя захватывала контроль над степями, пустынями, высокогорьями и густонаселенными оазисами; их разнообразное население состояло из кочевников, горожан и горцев в изолированных общинах.
Эта модель экспансии в столь разнородные регионы, населенные мусульманами, породила другой парадокс империи. Царская элита понимала завоевание Кавказа, казахской степи и Центральной Азии как подтверждение имперской славы и европейской идентичности России, но также и признавала, что новые границы порождают новые уязвимые места. Лишь Черное море отделяло Крым от Османской империи. Экспансия за Кавказский хребет формировала растянутую границу и с Османским государством, и с каджарским Ираном. Протяженные общие границы с Афганистаном, Британской Индией и Китаем символизировали великодержавный статус России, но также усиливали настороженность властей по поводу распространения имперской власти на такое расстояние от столицы, заложенной Петром Великим. Вдоль южных границ империи от Крыма до Памира миллионы мусульман жили по обе стороны границы вдалеке от имперского центра. Перед царской властью вставала задача разорвать связи мусульман с их соседями-единоверцами, в том числе с их бывшими правителями в Стамбуле, Тегеране и при оазисных дворах ханов Трансоксианы.
К концу XIX в. мусульмане жили в восьмидесяти девяти губерниях и областях империи (а также в протекторатах – Бухаре и Хиве). По условиям жизни можно разделить эту территорию на семь различных зон компактного заселения: Крым, Северный Кавказ, Закавказье, Поволжье, Урал, Казахстан и Центральная Азия (Трансоксиана). Восьмая зона – северный пояс разбросанных диаспоральных общин – простиралась от Польши через Санкт-Петербург и Москву до Сибири. В 1897 г. первая всеобщая перепись населения всей империи официально зарегистрировала около четырнадцати миллионов мусульман, хотя организаторы переписи пришли к выводу, что они недосчитали мусульман, и оценили их истинное число примерно в двадцать миллионов. Более трех с половиной миллионов мусульман жили в губерниях так называемой «Европейской России». Более трех миллионов обитали на Кавказе, и самая большая группа, около семи миллионов человек, населяла Казахстан и Центральную Азию.
Помимо географического положения, демографии и исторического опыта отношений с российскими администраторами и поселенцами, гетерогенность мусульманских подданных царя проявлялась в культурных различиях. Согласно переписи 1897 г., мусульмане принадлежали более чем к дюжине языковых групп, подсчитанных властями. Более двенадцати миллионов говорили на языках «турецко-татарской» группы. Две следующие по величине группы были «кавказские горцы» (более миллиона носителей языков) и «восточные индоевропейцы» (более полумиллиона носителей); более десяти тысяч мусульман считали своим «родным языком» «русский»11. Кроме того, прежде чем царские институты связали воедино эти различные сообщества под имперской властью, они слабо контактировали друг с другом и, возможно, испытывали лишь самое абстрактное ощущение принадлежности к одной религиозной общине. Царский режим однажды выработал отдельные административные уложения для каждой местности и тем увековечил различия между ними. Мусульмане на Волге и в Крыму подчинялись гражданской администрации, а на Урале, Кавказе и в Центральной Азии – различным формам военного управления. Также на региональной основе государство назначало этим народам обязанности и привилегии, тем временем инкорпорируя их в более обширную сословную структуру империи.
Численность мусульманского населения, его распределение по территории и геополитическая важность сообществ последователей ислама ограничивали спектр управленческих возможностей российского государства. Начиная с XVI в. спорадические попытки обратить в православие мусульман Поволжья и Урала дали небольшое количество обращенных, но вызвали серьезное сопротивление. В XVIII в. мусульмане периодически поднимали вооруженные восстания против кампаний христианизации. Подобно тому как эти народы нельзя было массово обратить в православие, не угрожая стабильности империи, их нельзя было так просто и выселить за ее пределы. В отличие от правителей средневековой Испании, которые выселили (или обратили) мусульман и евреев, Романовы никогда не прибегали к тотальным изгнаниям ради однородности населения. Конечно, мусульмане южного пограничья России, примыкавшего к Османской империи, порой становились жертвами подобного государственного насилия. В ходе жестокого подчинения Кавказа царской армией при Николае I российские командиры хвалились тем, что обращали в бегство нелояльных мусульман. Несколько сотен тысяч мусульман покинули свои дома на Кавказе и в Крыму после Крымской войны (1853–1856) и поражения сопротивления на Северном Кавказе12.
Не следует, однако, на основе кровавой истории изгнания и бегства мусульман из южной зоны фронтира делать выводы о политике империи в отношении ислама в целом. Российская военная стратегия преследовала ограниченные, хотя и беспощадные цели. Власти не мечтали об очистке Северного Кавказа и Крыма от всех мусульман. Российские генералы долгое время обещали отвечать на нелояльность «истреблением», и войны с Османами демонстрировали, насколько все еще были важны эти регионы и лояльность их жителей. Но подобная стратегия никогда не запрещала кооптацию местных элит или даже наем перебежчиков.
Насилие царей не было и единственной причиной мусульманской эмиграции. Мусульманские военачальники вроде имама Шамиля, возглавлявшего антиимперское сопротивление в Дагестане и Чечне, насильственно переселяли общины, которые отказывались присоединиться к его джихаду против русских. Марк Мазовер привлек внимание к проблеме: как выявить сознательное намерение и отличить «изгнание от паники», и отметил, что «одно могло переплетаться с другим, как показывает случай немцев Восточной Пруссии в 1944–1945 гг.». На Кавказе и в Крыму играли роль и рекрутирование османами, и исламское право. Османские эмиссары ездили по региону, призывая к миграции от «неверного» правления в «Доме войны» (дар аль-харб), отвергая статус России как «Дома ислама» и обещая мусульманам помощь при переселении в «хорошо защищенные владения» султана. Их призывами подкреплялись суждения исламских религиозных авторитетов, которые требовали от единоверцев, мусульман-суннитов, бежать из-под власти христиан и селиться в государстве, управляемом суннитским мусульманским государем. Связь между геополитикой этих пограничных зон и политикой в отношении мусульман отражалась и в структуре обратной миграции мусульман в тот же период. После бегства суннитов с Кавказа шииты стали переходить на российскую территорию из Ирана, где шиизм был доминирующей религией. К 1860‐м гг. демографический баланс сдвинулся от примерного паритета между суннитами и шиитами к преобладанию шиитов в пропорции 2 к 1. В связи с нефтяным бумом в Баку и строительством железной дороги в Центральной Азии иранские мигранты хлынули в Российскую империю. В конце XIX – начале ХХ в. племена из Северного Ирана и Афганистана периодически просили разрешения стать российскими подданными13.
Царская власть хотела безопасных границ и внутреннего порядка, добивалась внутренней стабильности и, по возможности, более сильных политических позиций, чем у слабейших соседей. Элита никогда не санкционировала изгнания мусульманских крестьян, торговцев, ремесленников и солдат, которые играли такую важную роль в функционировании империи во внутренних губерниях. Напротив, империя Романовых продержалась так долго и смогла управлять столь обширным и неоднородным пространством, располагая сравнительно скромными ресурсами, по большей части потому, что ее элита была склонна к осторожности. Силы, скреплявшие империю, – царские генералы и полицейские – обладали чутьем в отношении и возможностей, и границ имперской власти. В XIX в. путь к имперской славе пролегал в Азии, особенно после поражения в Крымской войне, когда позиции России в Европе стали уязвимее. Власти признавали, что дальнейшая экспансия должна опираться на некоторое соглашение с мусульманами.
Мусульмане в своей реакции на русскую угрозу наталкивались на очень сходные ограничения. Перспектива стать подданными Российской империи была привлекательнее, чем подразумевала националистическая или исламистская риторика, а альтернативы обошлись бы гораздо дороже. Историки мусульман империи по большей части описывали их как сообщество, затронутое социальными и экономическими структурами империи, но в основном автономное в своей внутренней политике. На практике этот изоляционистский сценарий был доступен немногим людям того времени. Поучительный пример – опыт мусульман Дагестана и Чечни с конца 1820‐х по 1850‐е гг., хотя из‐за мифов о мусульманском сопротивлении российскому присутствию на Кавказе в это трудно поверить. Перед лицом угрозы российского завоевания местные мусульмане не смогли выработать стратегию объединения против царских войск, хотя историки долгое время трактовали этот период как эпоху «джихада», вдохновленного и организованного мусульманскими суфийскими братствами. Мусульмане сражались на обеих сторонах конфликта, за и против империи. Важнее, как показал Майкл Кемпер, что базовая модель сопротивления основывалась на дороссийских спорах в защиту исламского права против туземных, а не царских властей. С этой точки зрения для имама Шамиля и его предшественников «государство джихада» было не только средством «защиты» мусульман от «неверных»; их стремление насадить исламское право служило основой стратегии, направленной против других туземных правителей, и было важным компонентом государственного строительства за счет локальных элит, часть которых встала на сторону России14.
Для мусульман и христиан принять предложение царского режима о патронате над исламом означало забыть предшествовавшие насильственные завоевания. Они строили социальный мир и имперский порядок, опираясь на традицию поисков общего языка, не игнорируя религию, а используя ее. Со Средних веков мусульмане давали присягу на Коране, который для этой цели хранился в Кремле. Позже мусульмане в каждом завоеванном регионе приносили на этой священной книге клятву верности, за которой режим признавал связывающий авторитет. Для христиан и мусульман религиозные различия оставались важными, однако имея дело друг с другом, они учились ссылаться на то, что казалось их общей чертой, – повиновение единому Богу. Монотеизм, связывавший правителей и подданных, устанавливал рамки переговоров. Но это обстоятельство не было лишь отправной точкой. В бесчисленных актах взаимодействия между мусульманами и российскими властями с конца XVIII по начало ХХ в. предстояло выработать импликации подобных утверждений, причем каждая сторона пыталась управлять реакциями другой. Этот общий ориентир не стирал границ между исламом и царской религией. Он также не маскировал подчинения мусульманских подданных инструментам принуждения государства царей. Но он устанавливал рамки для поиска точек соприкосновения, которые помогли бы укрепить имперское правление по возможности без употребления силы. Как и в сценариях сношений между индейцами и белыми в Северной Америке, проанализированных Ричардом Уайтом, каждая сторона преследовала свои собственные цели, но оправдывала «свои действия в терминах, которые, с ее точки зрения, лежали в основе культуры другой стороны»15.
Не только русские придерживались такого подхода. Наполеон во время египетской кампании клялся в приверженности тому же Богу, которому поклоняются мусульмане. Подобные заявления, включая проведение параллелей между Иисусом и Мухаммедом, в качестве стратегического моста между христианами и мусульманами влияли на язык европейской дипломатии в сношениях с османами. Позже британские и французские администраторы искали исламской легитимации своей власти над африканскими и азиатскими колониями. Габсбурги создали в Боснии и Герцеговине исламскую иерархию для управления делами мусульман – и разорвали мусульманские связи со Стамбулом. В ХХ в. японцы объявили о своей особой связи с исламом в рамках более общей кампании подрыва влияния европейских империй в Азии и утверждения на их месте японской державы. Даже германский кайзер использовал эту стратегию. В 1898 г. Вильгельм II поклялся защищать триста миллионов мусульман, включая подданных британской, французской и российской держав. Во время Первой мировой войны он мечтал поднять «весь мусульманский мир на яростное восстание», джихад против врагов Германии16.
Но царский режим, выковывая свою империю, стремился к альянсу с мусульманами на более прочной основе, на более долгий срок и преуспел больше своих имперских соперников. И представление о том, что ислам особенно полезен для государства, даже если он не очень хорошо сочетается с официальной идеологией, пережило царей. Оно возрождалось эпизодически, но играло важную роль в совершенно иных условиях советского режима; оно пережило даже распад СССР и вновь возникло в проектах молодых постсоветских республик по приручению ислама ради укрепления претензий на политическую легитимность.
Многоконфессиональные царские элиты, подобно своим османским соперникам, находили ценных союзников в своем желании основать имперское правление на религиозном авторитете. Строительство подобного конфессионального государства требовало не только наличия религиозных элит, но также, в контексте царского режима, и мобилизации мирян17. Чтобы провозглашать полезность соединения светской власти с духовной для дела управления империей, режиму пришлось укрепить отдельные религиозные институты – мусульманские, католические и еврейские. Но в такой огромной многоязычной империи, простиравшейся от Балтики до Кавказа и Тихого океана, царские чиновники боролись за доступ к информации о внутренних механизмах религий, из которых они хотели извлечь пользу. Они прежде всего смотрели на «духовенство» каждой общины, даже в таких традициях, как ислам, исторически не признававших подобных социальных групп. Но в России XIX в., как и в Европе, препятствием для веротерпимости служил и антиклерикальный дух.
Царская бюрократия, ценя предполагаемое влияние религии на мораль и порядок, но не доверяя клирикам, создавала пространство для мирских инициатив, приветствуя вызовы клерикальному авторитету снизу. Как и в колониальной Индии, подозрительность в отношении туземных религиозных элит стимулировала официальный интерес к изучению текстов, которые позволили бы администраторам преодолеть зависимость от их посредничества. Российские власти во всех регионах империи привлекали на службу мусульманских переговорщиков, но бюрократия использовала разных информантов и тексты, и это означало, что официальные концепции ислама менялись со временем и различались в разных местах. Внутри царской элиты зачастую не было согласия в вопросе об оценке ислама. Когда казалось, что существует риск для православной церкви и ее неофитов, высказывались самые противоположные точки зрения. Несмотря на разнообразие официальных мнений и неоднородность самих мусульманских общин, обычно побеждали точки зрения той части элиты, которая отстаивала принципиальное положительное влияние ислама на стабильность империи, будь то в Санкт-Петербурге или на кавказских или центральноазиатских границах. Когда брали верх критики ислама – например, в Казахстане середины XIX в., – их победы бывали пирровыми. Государство оказывалось слабее всего, когда оно меньше всего связывалось с исламскими делами и когда мусульмане не могли использовать его мощь на благо религии.
Эта точка зрения, основанная на документах из центральных и местных государственных архивов, как и на различных мусульманских источниках, позволяет увидеть Российскую империю в новом свете. Долгое время ее описывали как «недоуправляемую» политию со слабыми связями между столицей и отдаленной периферией. Но в действительности империя занимала много места в умах мусульман и мусульманок – тех подданных царя, которых, как и евреев, обычно изображают наименее способными интегрироваться в имперскую среду18. Прошения, доносы, судебные протоколы, полицейские рапорты и многочисленные мусульманские источники показывают, каким образом мусульмане и мусульманки внутри более обширной структуры царской веротерпимости пришли к представлению об имперском государственном аппарате как об инструменте Божией воли. Подобно историкам судов и институтов управления в других обществах, я читал судебные протоколы, полицейские рапорты и другие источники, пытаясь извлечь из их языка информацию об идентичностях этих деятелей, о том, как они пытались адаптировать право для конкретных целей и, в данном контексте, формировали и исламскую традицию, и механизмы работы империи. Не всякая тема, связанная с исламом, проникала в имперские архивы. Но, как я стараюсь показать, государство царей стало важнейшим форумом для разрешения конфликтов между мусульманами. Некоторые мусульманские подданные царя, возможно, предпочитали избегать государства, но они не могли гарантировать, что другие мусульмане, в том числе их соседи и супруги, не привлекут их к суду или не обратятся в полицию. Это была империя, в которой управление, правосудие и благочестие были одновременно и семейным делом, и делом мусульманской общины и имперских институтов.
Задолго до того как современные мусульманские мыслители вообразили «исламское государство» как бюрократический инструмент по насаждению божественного права, мусульманские подданные династии Романовых стремились использовать институты империи для реализации религиозных обязанностей и прав. Читатель по опыту знакомства с другими колониальными системами мог бы ожидать историю мусульманского сопротивления давлению царской власти, особенно в таких областях, как семейная сфера. Мусульмане по-разному реагировали на Российскую империю. Но даже источники, созданные самими мусульманами за пределами государственных институтов, документируют разнообразные способы участия в работе институтов режима; мусульманские ученые, собиравшие биографии других видных религиозных деятелей, ссылались на судебные дела и прочие акты взаимодействия, даже если принижали роль подобных контактов, чтобы ни у кого не возникало мыслей о коррупции19.
Там, где царский режим учреждал администрацию, мусульмане прибегали к нему не только как к репрессивному инструменту, но как к средству поддержки истинной религии – способу направлять супругов, детей, родственников и других людей на верный путь к Богу, путь шариата. Мусульмане не изолировали женщин и семью от полицейских органов, а учились связывать государство с урегулированием семейных конфликтов и защитой прав, основанных на шариате. Таким образом государство глубоко проникало в общины мечетей империи. Прежде историки видели «недоуправление» там, куда не имела доступа конвенциональная, секулярная ветвь власти, но это неверное понимание связей между правителем и управляемым. И тот и другой разделяли мнение, сложившееся в XVIII в., о том, что имперский порядок опирается на религиозный авторитет и что агенты царя, наряду с каждым подданным, участвуют в строительстве мира, угодного Богу. Русскими владел страх перед народным возмущением, инспирированным религиозной рознью, как в их собственной церкви в XVII в., и здесь их интересы смыкались с интересами мусульманских ученых, защищавших традицию от «незаконных нововведений» (бид'а) в интерпретации религии. То, что задним числом может показаться «традиционными» религиозными практиками, в действительности было создано государством и его мусульманскими посредниками.
Эти убеждения, конечно, не означали, что каждая сторона всегда действовала так, как хотелось другой. Они давали широкий простор для непонимания, неверных расчетов и конфликтов. Екатерина Великая первой сформулировала модель веротерпимости, но многие из ее преемников относились к этой модели прохладно. Православная церковь оставалась ее непоколебимым противником и требовала эксклюзивной государственной поддержки. Она боролась не только против мусульман, которых подозревала в миссионерской деятельности среди христиан, но и против тех православных, которые восхваляли «нравственное учение Корана и находят, „что оно даже не уступает Евангельскому“» или исповедовали тот взгляд, что «будто бы все равно – быть христианином или магометанином, лишь бы только быть честным человеком». Кроме того, постоянные войны с османами воскрешали и поддерживали недоверие к мусульманам как в правительственных кругах, так и за их пределами. Ф. М. Достоевский испытывал отвращение к политике аккомодации. В 1877 г. в разгар очередной русско-турецкой войны он агитировал русскую публику против «превознесения мусульман за монотеизм», называя это «коньком очень многих любителей турок» в обществе, которое ошибочно считало ислам более просвещенным, нежели язычество поклоняющегося иконам русского крестьянина. С точки зрения Достоевского и других деятелей русской литературы и особенно оперы, русские, проникнутые национальным духом, должны были приветствовать владычество России на Востоке20. По мнению критиков, конфессиональная политика империи была слишком партикуляристской. Либералы ненавидели ее как помеху универсальному праву, а консервативные националисты видели в ней препятствие для однородности империи, где доминировала бы русская культура и этничность. Оба лагеря были не в состоянии понять, что систематически партикуляристская политика империи содействовала аккомодации разнообразия и в то же время укрепляла власть режима над этими народами. Сторонники более решительного подхода к исламу влияли на дух локальной политики на региональном уровне, но так и не смогли полностью переориентировать политику царского режима. С исключительной последовательностью императив управления империей торжествовал над националистическими (и либеральными) призывами к конфликту.
Интересы институтов тоже стояли на кону. Определив задачу «полиции предохранительной» в «благоустроенных государствах» как «охранение обрядов религии и обуздание расколов», царские власти последовали модели наполеоновского государства и учредили централизованный бюрократический орган для администрирования терпимых конфессий21. Он был создан в 1810 г. как Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, в 1817 г. преобразован в Министерство духовных дел и просвещения, а в 1832 г. стал подразделением главной организации, назначенной поддерживать внутренний порядок в империи, – Министерства внутренних дел. Это министерство надзирало над официально признанными церковными структурами неправославных исповеданий, включая официальную исламскую иерархию, основанную Екатериной Великой на восточном степном фронтире в 1788 г., хотя ему приходилось конкурировать с другими учреждениями – в том числе с православной церковью – за влияние на царскую политику. Военное министерство управляло мусульманами на кавказском и степном пограничьях. Когда царская армия взяла на себя ответственность за управление мусульманами на территориях прикаспийских степей и Трансоксианы, аннексированных между 1860‐ми и 1880‐ми годами, ей удалось отобрать контроль над религиозными делами у МВД. Но в 1872 г. МВД вернуло себе часть полномочий, учредив исламскую иерархию для управления делами суннитов в Закавказье, и другую – для шиитских общин. При этом еще одно учреждение – Министерство иностранных дел – тоже участвовало в дебатах о политике. Его сотрудники, внимательные к мнениям мусульман, проживавших вблизи границ России, зачастую отстаивали широкую терпимость к исламу как средство подготовить путь для экспансии на территориях Османской империи, Персии, Трансоксианы, Афганистана, Индии и Китая. Но, в отличие от других министерств, оно было готово признать полезность тех эмигрантских групп, которые другие мусульмане считали «неортодоксальными», в частности исмаилитов и бахаи, воспринимая их как орудие против Персии и Британской империи22. Таким образом, царская политика творилась множеством институтов в условиях конкуренции между министерствами в столице и губернских городах, а также между разными официально поддерживаемыми мусульманскими авторитетами в Крыму, в городе Уфе на восточном степном фронтире, на Северном Кавказе и в Закавказье. Еще одной силой были миряне. Обращаясь к царскому правосудию и призывая к официальному вмешательству в конфликты с другими мусульманами, они зачастую направляли курс имперского государственного строительства на местах такими путями, которые Санкт-Петербург не мог ни предвидеть, ни контролировать.
Подобный мирской активизм проливает свет еще на одну малоизученную черту империи. Ученые долгое время следовали за русскими интеллектуалами, выделяя Европу как естественный образец для сравнения с Россией. Когда они сопоставляли Россию с империями Османов или Сефевидов, то лишь для того, чтобы подчеркнуть различия. Но в этой книге я указываю и на сходства между царским и османским режимами. Оба государства в XIX в. внесли решительные перемены в жизнь своих подданных, в то же время представляя свои расширяющиеся государственные аппараты консервативными стражами исламского благочестия. Симметрия между государственными указами об обязательном посещении мечетей – лишь один из примеров этой общности подходов23.
Альянсы между мусульманскими активистами и царскими чиновниками во имя «ортодоксального» ислама не укрепляли «неизменный» ислам, как предположили некоторые историки. Напротив, в этих взаимодействиях рождались новые способы понимания священного права. Российские мусульмане, как и их современники в Османской империи и Египте, воспринимали быструю экспансию государственных институтов и законодательства не как вытеснение шариата, а как дополнение к нему24. Мусульмане сопротивлялись некоторым нормам имперского права, которые воспринимали как нарушение законов Бога, но отвечали на экспансию царских законов и бюрократической практики тем, что адаптировали эти новые ресурсы к местным дискуссиям о шариате. В то же время перспектива государственной поддержки правовых норм, которые могли бы упрочить моральный фундамент империи, заставляла чиновников и мусульман предпринимать попытки упорядочения этого процесса. Как и в Британской Индии и Османской империи, на смену разнообразным локальным представлениям о шариате как некоем свыше предписанном пути стали приходить во многих кругах концепции шариата как однородного и статичного «закона», чей смысл был зафиксирован в текстах и кодексах25. Забота властей о согласованности и однородности пошла на пользу отдельным мусульманским деятелям, которые отстаивали определенный взгляд на ортодоксию, основанный на небольшой выборке ханафитских правовых текстов. Но государственная поддержка «буквы закона» могла работать и против мусульман, например когда государство присваивало себе землю, которой владели якобы в нарушение шариата. Эти взаимодействия придавали текучесть религиозному авторитету и связанному с ним процессу государственного строительства.
Условия подобной борьбы за влияние были не бесконечно гибкими. Подобно «обычному праву» в колониальных африканских обществах, государственную поддержку обычно получали элементы исламского права, пропагандируемые теми партиями, которые представляли себя наиболее авторитетными судьями традиции и делали заявления, соответствующие интересам и ожиданиям царского режима. Во многих исламских юридических текстах признавалась возможность множественного исхода правовых споров, в частности они ссылались на авторитеты в оправдание плюрализма позиций по какому-либо правовому вопросу. При царском режиме мощь государства оказалась решающей для перевеса баланса в пользу одной интерпретации против другой. Так, в Российской империи, как и в других обществах, мусульмане проводили границы «ортодоксии» и общины совместно с государственными институтами, а не в борьбе против них26.
Эта история не была рассказана раньше, потому что историки обычно сосредоточивали внимание на мусульманских элитах. В ценных исследованиях на основе неопубликованных рукописных источников на разных языках демонстрируется, каким образом мусульманские ученые, выступавшие за реформу разных аспектов исламской традиции в поздней царской империи начиная со второй половины XIX в., отражали адаптивность и динамизм мусульманской культуры. Эти элиты привлекали к себе внимание отчасти потому, что были известны за пределами России. Большинство из них разделяли европейское увлечение национализмом. Не в состоянии реализовать национальные политические амбиции на территории Российской империи начала ХХ в., многие их них были вынуждены заниматься этим в Европе, Японии и, прежде всего, в Турции. Эмигранты-мусульмане из России писали сценарии национальных идеологий не только для своих народов, но и для турок27. В конце ХХ в. лидеры Коммунистической партии, оказавшиеся правителями автономных республик или независимых государств после распада СССР, вновь открыли многие из этих идей. Элиты, стремившиеся управлять мусульманским возрождением и укреплять лояльность к новым национальным государствам, обратились к наследию реформистов. Из разнообразного корпуса их идей они стремились сконструировать легитимное прошлое для ислама, воспринимаемого как чисто секулярный атрибут национальной культуры. Таким образом, история мусульманских интеллектуалов в России стала видеться через национальную призму.
Но этот взгляд не позволяет увидеть более широкий контекст и скрывает другую историю. Он не только игнорирует мусульман, которые отвергли национальные и секулярные платформы, продвигаемые элитами. Слишком часто он заставляет воспроизводить нарративы, прославляющие борьбу наций против империи и трактующие всех мусульман как чуждый ей элемент. Реформистская программа конца XIX – начала ХХ в. была не единственной темой для споров в жизни мусульман империи. Она также не противопоставляла прогрессивных реформистов реакционным обскурантам, как можно было бы предположить на основании большей части работ. Мусульмане выступали против авторитета клириков задолго до появления печатных и других СМИ, как недавно подчеркнули ученые, следуя историкам Реформации в своих объяснениях религиозных изменений в мусульманских обществах. Ученые и благочестивые мусульмане, со своей стороны, выступали в этом контексте как «хранители перемен», согласно удачной формулировке Мухаммада Касима Замана28. Хотя и мусульмане, и их христианские правители апеллировали к «традиции», их вовлеченность в дела друг друга вызывала радикальные изменения и постоянные трансформации локальных очертаний как империи, так и ислама. История ислама в империи – это история динамичных перемен. Не следует принимать допущение о том, что ислам до эпохи реформ был статичным.
Не следует также принимать как данность мусульманскую солидарность. В этой книге я вслед за Роджерсом Брубейкером пытаюсь установить, до какой степени вообще можно осмысленно говорить о мусульманах как о внутренне связной и однородной «группе», хотя бы в отдельном регионе империи. С точки зрения многих активистов, быть мусульманином и жить согласно шариату означало обращаться к инструментам государства за помощью в том, чтобы принудить других людей принять определенный взгляд на ислам. Даже на Северном Кавказе мусульмане спорили о легитимности джихада против русских29. История мусульманских реформистских элит в империи может служить полезным образом прошлого в современных политических повестках, но мало помогает понять, каким образом эти мусульманские общины приспосабливались к империи или как исламские институты и практики связывали мусульман с государством. Чтобы осветить и эту более широкую перспективу мусульманской политики, и исламский фундамент империи православных царей, в предлагаемой книге я обращаю особое внимание на повседневные конфликты, касавшиеся и клириков, и мирян, а именно споры внутри местных общин вокруг шариата и религиозных ритуалов, включая суфийские молитвы.
В следующих главах я прослежу усилия российских чиновников и различных мусульманских деятелей по поддержанию социальной стабильности в империи, когда каждая сторона стремилась как можно полнее использовать убеждения другой стороны в своих целях. Эти отношения отнюдь не гарантировали сохранение статус-кво, но перестраивали мусульманские сообщества и государственные институты. Эти попытки начались в конце XVIII в. на восточном степном фронтире (см. карту 2). Глава 1 рассказывает об учреждении при Екатерине государственной исламской иерархии в восточном городе Уфе. Отношения, установившиеся на фронтире, оказались парадигматичными для других мусульманских регионов, хотя учреждения повсеместно подстраивались под местный состав чиновничества и туземных посредников. В главе 2 я показываю, каким образом эта исламская иерархия распространяла свою власть внутрь общин мечетей по всему Волго-Уральскому региону в первой половине XIX в., по ходу дела трансформируя местную религиозную жизнь и государственные институты. Тема главы 3 – мусульманская семья как микрокосм имперского порядка, подчиняющийся власти религии. В остальных главах очерчивается судьба официального патроната над исламом по мере продвижения восточного фронтира. К середине XIX в. концепции ислама, к которым апеллировали мусульмане и царские власти, радикально изменились, и Россия встретила серьезное мусульманское сопротивление на Северном Кавказе. В главе 4 я показываю, как режим в виде эксперимента изменил отношение к исламу среди кочевников казахской степи. Тема главы 5 – завоевание Центральной Азии; в ней описываются попытки государства интегрировать самый населенный мусульманский регион из тех, с которым оно когда-либо имело дело. В главе 6 мы переходим от восточного фронтира к более широкому взгляду на империю в тот момент, когда русский национализм и социально-экономические отношения на рубеже веков заставили и царские, и мусульманские элиты пересмотреть соглашения, скрепленные печатью преданности исламской ортодоксии, которые долго служили и мусульманским поискам благочестия, и поддержанию прочности империи.
В завершение я хотел бы высказать свое мнение о том, почему поиски «полезного» для государства элемента в исламе были настолько укоренены в сознании столь многих акторов, что пережили крушение царского режима. Советская власть сохраняла некоторые принципы имперского подхода на протяжении большей части ХХ в., и в наши дни он возродился в Евразии, как и в Европе и других регионах, где мусульмане составляют значимое меньшинство. Призывы к государственному вмешательству в поддержку определенных видов религиозной интерпретации, а именно «умеренных» (то есть в пользу «хороших мусульман»), ныне выглядят весьма привлекательными там, где национальные государства ощущают угрозу со стороны транснационального ислама и чувствуют угрозу со стороны террористов30. Опыт применения таких практик в царской России должен предостеречь нас от их непреднамеренных последствий. Механизмы имперского правления были эффективны лишь настолько, насколько были эффективны их посредники. Кризис царского управления в Центральной Азии во время Первой мировой войны отчасти показал риск переоценки престижа отдельных местных авторитетов и институтов. Другие империи, особенно Германия, встретились с этой угрозой во время войны, когда они добивались исламской поддержки (включая фетвы) и мобилизовали мусульманских военнопленных против своих противников. Плохой выбор соратников погубил не одну империю31. На первый взгляд, стратегия поддержки отдельных мусульманских фракций против других выглядит альтернативой насилию, разрушившему Боснию и Чечню. Но ее последствия были сложнее. Хотя в Российской империи официальный патронат над избранными исламскими авторитетами был мощным инструментом управления мусульманскими народами и их интеграции, он также объединял мусульман и их правителей в общем деле ограничения свободы совести. Подобные стратегии, применяемые шире, имеют тенденцию подготавливать новые конфликты – не между «цивилизациями», но внутри современных государств, которые отрицают базовую правовую защиту своих граждан, и в том числе уважение к фундаментальным правам человека.
1
Zemon Davis N. Society and Culture In Early Modern France. Stanford: Stanford University Press, 1975. P. 152–187. О Чечне см.: Politkovskaya A. A Small Corner of Hell: Dispatches from Chechnya / Transl. Alexander Burry and Tatiana Tulchinsky. Chicago: University of Chicago Press, 2003. P. 91–94 (русский оригинал: Политковская А. С. Вторая чеченская. М.: Захаров, 2003. – Примеч. пер.).
2
См., например: Baberowski J. Der Feind ist überall: Stalinismus im Kaukasus. Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003.
3
О восприятии Центральной Азии, в частности, как наиболее уязвимого владения СССР см.: McChesney R. D. Central Asia: Foundations of Change. Princeton, NJ: Darwin Press, 1996. P. 3. Такие взгляды не вытеснили страхов перед тем, что советская власть может прийти к взаимопониманию с мусульманскими странами и повернуть бывшие европейские колонии против капиталистического мира. См., например: Bennigsen A., Henze P. B., Tanham G. K., Wimbush S. E. Soviet Strategy and Islam. Houndsmills, UK: Macmillan, 1989, и в более общем плане: Bulliet R. The Case for Islamo-Christian Civilization. New York: Columbia University Press, 2004.
4
См.: Abu Zahab M., Roy O. Réseaux Islamiques: La connexion afghano-pakistanaise. Paris: Autrement, 2002; Rashid A. Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. New Haven: Yale University Press, 2002; Ислам на постсоветском пространстве: Взгляд изнутри / Ред. А. Малашенко, М. Брилл Олкотт. М.: Московский Центр Карнеги, 2001; Uzbekistan: The Andijon Uprising // International Crisis Group Asia Briefing. 2005. No. 38. May 25.
5
См.: Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony In Russian Monarchy. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1995, 2000 (см. рус. пер.: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. / Пер. С. Житомирской. М.: ОГИ, 2004. – Примеч. пер.).
6
См.: Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. 2nd ed. Munich: C. H. Beck, 1993; Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven: Yale University Press, 2001; LeDonne J. P. The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitics of Expansion and Containment. Oxford: Oxford University Press, 1997.
7
См., например: Suny R. G. The Empire Strikes Out: Imperial Russia, «National» Identity, and Theories of Empire // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Eds R. G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 23–66; см. также: Slocum J. W. Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of «Aliens» in Imperial Russia // Russian Review. 1998. 57. No. 2 (April). P. 173–190.
8
Bulliet R. Islam: The View from the Edge. New York: Columbia University Press, 1994. P. 194.
9
Интервью автора с Фаридом Асадуллиным из Совета муфтиев в Москве в ноябре 2004 г.
10
См.: DeWeese D. Islamization and Native Religion In the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam In Historical and Epic Tradition. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994; Frank A. J. Varieties of Islamization In Inner Asia: The Case of the Baraba Tatars, 1740–1917 // Cahiers du monde russe. 2000. 41. No. 2–3 (April – September). P. 245–262.
11
Ислам в Российской империи: законодательные акты, описания, статистика / Ред. Д. Ю. Арапов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2001. С. 324–327.
12
См., например: Brooks W. Russia’s Conquest and Pacification of the Caucasus: Relocation Becomes a Pogrom in the Post-Crimean War Period // Nationalities Papers. 1995. 23. No. 4. P. 675–686; Reynolds M. A. Muslim Mobilization in Imperial Russia’s Caucasus // Islam and the European Empires / Ed. D. Motadel. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 187–212.
13
Mazower M. Violence and the State in the Twentieth Century // American Historical Review. 2002. 107. No. 4. October. P. 1158–1178, цит. на с. 1163. Об османском участии и исламских правовых дебатах см.: Kemper M. Khālidiyya Networks in Daghestan and the Question of Jihād // Die Welt des Islams. 2002. 42. No. 1. P. 41–71; Habiçoğlu B. Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve İskanları. Istanbul: Nart Yayıncılık, 1993; Meyer J. Turks Across Empires: Marketing Muslim Identity in the Russian–Ottoman Borderlands. Oxford: Oxford University Press, 2014. Тадеуш Светоховский указывает, что «российское консульство в Тебризе между 1891 и 1904 гг. выпустило 312 000 виз»: Swietochowski T. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. New York: Columbia University Press, 1991. P. 10–22. О мусульманской иммиграции из соседних стран в Российскую империю см., например: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2329, 3692, 4009; АВПРИ. Ф. 187. Оп. 485. Д. 684; Siegel J. Endgame: Britain, Russia and the Final Struggle for Central Asia. London: Tauris, 2002; Исмаилов Э. Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской империи. М.: Старая Басманная, 2009.
14
Адиб Халид в своей коллективной биографии интеллектуалов-реформистов и истории их участия в «политике» уделяет внимание экономическим переменам, которые принесло с собой российское завоевание Центральной Азии, но по большей части игнорирует государство, за исключением его роли как инструмента репрессий. См.: Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998; фундаментальную реинтерпретацию исламской истории на Северном Кавказе см.: Kemper M. Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: Von den Khanaten und Gemeindebünden zum ğihād-Staat. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2005. См. также: Бобровников В. О., Герасимов И. В., Глебов С. В. и др. Мусульмане в новой имперской истории: Сборник статей. М.: Садра, 2017.
15
Kennan Jr. E. L. Muscovy and Kazan: Some Introductory Remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy // Slavic Review. 1967. 26. No. 4 (December). P. 548–558; White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 52.
16
См.: Napoleon in Egypt: Al Jabarti’s Chronicle of the First Seven Months of the French Occupation, 1798 / Ed. R. Tignor, transl. Sh. Moreh. Princeton, NJ: Markus Wiener, 1993; Molla und Diplomat: Der Bericht des Ebû Sehil Nu’mân Efendi über die österreichisch-osmanische Grenzziehung nach dem Belgrader Frieden 1740/1741 / Transl. and ed. E. Prokosch. Graz: Verlag Styria, 1972. S. 91–92. О попытках великих держав мобилизовать мусульман против империй-соперниц см.: Motadel. Islam and the European Empires; Selçuk Esenbel. Japan’s Global Claim to Asia and the World of Islam. American Historical Review. 2004. 109. No. 4 (October). P. 1140–1170; Naimur Rahman Farooqi. Pan-Islamism in the Nineteenth Century. Islamic Culture. 1983. 57. No. 4 (October). P. 283–296; Fischer F. Germany’s Aims in the First World War. New York: W. W. Norton, 1967, цит. на с. 121. О Франции как «мусульманской державе» (puissance musulmane) см.: Robinson D. Paths of Accommodation: Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and Mauritania, 1880–1920. Athens: Ohio University Press, 2000; и о патронате Габсбургов см.: Donia R. J. Islam under the Double Eagle: The Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878–1914. New York: Columbia University Press, 1981.
17
Обзор царского конфессионального порядка и политики режима в отношении евреев, буддистов, католиков, протестантов и армянских христиан, наряду с мусульманами: Crews R. Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia. American Historical Review. 2003. 108. No. 1 (February). P. 50–83. См. также: Werth P. The Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of Religious Freedom in Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press, 2014.
18
Бенджамин Нейтанс оспорил эту точку зрения на российских евреев, показав, сколь многие из них прошли через «избирательную интеграцию», получив доступ к высшему образованию, профессиям и даже к столице империи. См.: Nathans В. Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley: University of California Press, 2002. См. также: Slezkine Yu. The Jewish Century. Princeton: Princeton University Press, 2004.
19
См.: Шиhабетдин Мәржани. Мѳстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар (Казан hәм Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр) / Ред. . Н. Хәйәруллин. Казан: Татар. Кит. Нәшр., 1989, первое издание в 1900 г.; Ridā'addīn Fakhraddīn ōghlī. Āthār. Оренбург: Каримова, 1904–1909.
20
Муравьев А. Н. Письма о магометанстве. СПб.: В Типографии III Отд. Собст. Е. И. В. Канцелярии, 1848. С. 91–92, 144; Достоевский Ф. М. Дневник писателя / Ред. В. Н. Бунин. СПб.: Лениздат, 1999. С. 517; об опере см.: Taruskin R. «Entoiling the Falconet»: Russian Musical Orientalism in Context // Cambridge Opera Journal. 1992. 4. No. 3 (November). P. 253–280.
21
Сперанский М. М. Проекты и записки. М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. С. 92–94; Вишленкова Е. А. Заботясь о душах подданных: Религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2002; Ислам в Российской империи / Ред. Д. Ю. Арапов; Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – начало XX в.): Сборник материалов. М.: Наталис: 2006; Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное развитие татарского народа в последней четверти XVIII – начале XX в. / Сост. и отв. ред. И. К. Загидуллин. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011; Духовные правления мусульман Закавказья в Российской империи (XIX – начало ХХ в.): Документы / Сост. А. А. Ганич. М.: Издательский дом Марджани, 2013; Туркестан в имперской политике России: Монография в документах / Отв. ред. Т. В. Костюкова. М.: Кучково поле, 2016.
22
O связи между имперской религиозной политикой и российскими усилиями по проецированию власти в Азии и на Ближнем Востоке см.: Naganawa N. The Hajj Making Geopolitics, Empire, and Local Politics: A View from the Volga-Ural Region at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries // Central Asian Pilgrims: Hajj Routes and Pious Visits between Central Asia and the Hijaz / Eds A. Papas, Th. Welsford, Th. Zarcone. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2012. P. 168–198; Crews R. D. An Empire for the Faithful, A Colony for the Dispossessed // Cahiers d’Asie Centrale. No. 17/18; Turkestan russe: une colonie comme les autres? / Eds S. Gorshenina, S. Abashin. Tashkent; Paris: Collection de l’IFEAC, 2009. P. 79–106; там же: Muslim Networks, Imperial Power, and the Local Politics of Qajar Iran // Asiatic Russia: Imperial Power in Regional and International Contexts / Ed. Uyama Tomohiko. London: Routledge, 2012. P. 174–188; там же: The Russian Worlds of Islam // Islam and the European Empires. P. 35–52; Kane E. Russian Hajj: Empire and the Pilgrimage to Mecca. Ithaca: Cornell University Press, 2015.
23
См., например: Lieven. Empire; о реформистских мерах османского государства по насаждению благочестия и покорности шариату см., помимо прочих: Çiçek K. Tanzimat ve Şer’iat: Namaz Kılmayanlar ve İçki İçenlerin Takip ve Cezalandarılması Hakkında Kıbrıs Muhassılı Mehmet Tal’at Efendi’nin İki Buyruldusu // Toplumsal Tarih. 1995. March. С. 22–27.
24
Peters R. State, Law and Society in Nineteenth-Century Egypt: Introduction // Die Welt des Islams. 1999. 39. No. 3. P. 267–272, и последующие статьи.
25
Deringil S. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909. London: Tauris, 1999; Zaman M. Q. The Ulama in Contemporary Islam: Guardians of Change. Princeton: Princeton University Press, 2002.
26
Chanock M. Law, Custom, and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Roberts R., Mann K. Law in Colonial Africa // Law in Colonial Africa / Eds K. Mann, R. Roberts. Portsmouth, NH: Heinemann, 1991. P. 3–58. Определение «ортодоксии» как функции власти см.: Asad T. The Idea of an Anthropology of Islam // Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, Occasional Paper Series. 1986 (March). 15 (рус. пер.: Асад Т. Идея антропологии ислама // Islamology. 2017. 7 (1). P. 41–60. – Примеч. пер.); Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. P. 27–54.
27
См., например: Karpat K. H. The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. Oxford: Oxford University Press, 2001; Kara A. Türkistan Ateşi: Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi. Istanbul: Da Yayıncılık, 2002; Maraş I. Türk Dünyasında Dinî Yenileşme (1850–1917). Istanbul: Ötüken, 2002.
28
Zaman M. Q. The Ulama in Contemporary Islam.
29
Brubaker R. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004, особенно с. 7–27; я весьма признателен Бенджамину Нейтансу за то, что он привлек мое внимание к этому спору. О разногласиях между мусульманами на Кавказе см.: Kemper. Khālidiyya Networks.
30
См., например: Bowen J. Does French Islam Have Borders? Dilemmas of Domestication in a Global Religious Field // American Anthropologist. 2004. 106. No. 1 (March). P. 43–55. См. также: Kastoryano R. Negotiating Identities: States and Immigrants in France and Germany // Transl. B. Harshav. Princeton: Princeton University Press, 2002.
31
О попытках американцев добиться издания фетв в поддержку оккупации Ирака см., например: Chandrasekaran R. How Cleric Trumped U. S. Plan for Iraq: Ayatollah’s Call for Vote Forced Occupation Leader to Rewrite Transition Strategy // Washington Post. 2003. November 26; Tyler P. E. After the War: Baghdad // New York Times. 2003. June 5.