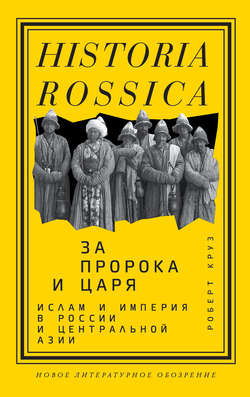Читать книгу За пророка и царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии - Роберт Круз - Страница 9
Глава 2
ГОСУДАРСТВО В МЕЧЕТИ
ОглавлениеВ сентябре 1793 г. Амирхан Абызаев и Абдулзелиль Султанов подали прошение Екатерине Великой от имени башкирского народа с восточного рубежа России. Восхваляя «Бога, всегда вспомоществующего России», они благодарили императрицу «во-первых, за создание, из твоих народу нашему монарших щедрот, мечетей; во-вторых, за установление по закону нашему Духовнаго собрания; [и] во-третьих, за учреждение народу нашему муфтия». Им была дарована «по своему обряду и вере… полная и незыблемая воля». Кроме того, многие башкирские полки были благодарны за множество медалей и орденов, заслуженных во время шведской войны. Они обещали «теплые возносить молитвы к богу» за Екатерину и «целую Россию» и лишь просили, чтобы им снизили подати, гарантировали права на землю, а «Духовной же народ наш» был освобожден от всех гражданских обязанностей, «дабы они служение свое могли исправлять удобнее»128.
Эти башкирские просители указывали на одну из дилемм веротерпимости в екатерининском «хорошо организованном полицейском государстве». Чтобы использовать внутренний источник исламского авторитета и отвратить мусульманских подданных от Кабула, Стамбула и Каира, режим создал властную иерархию для мусульман в столицах, волго-камском регионе, Сибири, на восточных рубежах и на южном фронтире до Крыма. Государство спонсировало строительство мечетей и разрешало общинам строить свои, и эта политика вела к их распространению по территории империи. Вместе с мечетями появлялись религиозные ученые (улемы). Даже в священной Москве в 1823 г. была построена мечеть, несмотря на упорную оппозицию со стороны церкви. В то же время расширение торговли России с Азией обогащало мусульманские общины и создавало класс амбициозных купцов, готовых вкладывать средства в покровительство мечетям и духовное лидерство129. Это порождало новые проблемы административного контроля.
В распоряжении чиновников вроде барона Игельстрома имелась церковная модель и османский сценарий, на основе которых можно было строить исламскую иерархию, но было неясно, как внедрить государство в общины вокруг мечетей. Государство создало нечто вроде «церкви» для ислама, но не решалось предоставить официальную поддержку «духовенству». Царская бюрократия, желавшая посредством исламских авторитетов придать государству религиозную ауру в глазах мусульманских подданных, стремилась к балансу. Чрезмерная поддержка мусульманских клириков могла бы подорвать первенство православия или даже сформировать пятую колонну для турок. Империя нуждалась в исламе, но опасалась его хранителей. Со второй четверти XIX в. конфликты с польскими повстанцами и мятежниками на Северном Кавказе усиливали настороженность властей в отношении неправославного духовенства. В этой главе мы покажем, как режим поддерживал церковную структуру ислама, но постепенно склонялся к антиклерикализму в отношении его интерпретаторов. Для государственных властей, которые были обязаны поддерживать ортодоксию внутри каждой конфессии, но все более настороженно относились к клерикальным элитам, главным звеном в цепи имперского порядка стали простые люди. Режиму не требовалось прибегать к силе, чтобы внедряться в мусульманские общины. В селах и городах по всей территории под юрисдикцией ОМДС сами миряне втягивали государство в дела мечети.
* * *
Имперская политика касалась прежде всего элит, но влияла на все мусульманское сообщество. Она была направлена как на регламентацию деятельности клириков, так и на их отделение от мирян. До Екатерины Великой религиозные наставники отличались только репутацией, которую давало им благочестие и познания в исламских религиозных науках. Они сохраняли свой неформальный статус лишь тогда, когда другие мусульмане стремились у них учиться и следовали их советам. Но со времен Екатерины эта открытая и диффузная группа ученых, имамов, учителей, судей и проповедников, которых в их собственных общинах называли улемами (или руханиләр), воспринималась царскими властями как духовенство – обособленное сословие, подобное служителям православной церкви. Имперские власти не только стали подвергать их проверке и официальному утверждению, но и наложили ряд обязанностей: моральные увещевания, надзор над брачной и семейной дисциплиной, ведение официальных записей и передача государственных директив.
Царские чиновники считали ислам полезным для имперского управления источником стабильности и морали. Но они были связаны обязанностью поддерживать привилегированное положение православной церкви, а потому не решались наделить мусульманских клириков теми правами, привилегиями и поддержкой, которыми пользовалось православное духовенство; многие чиновники подозревали мусульманских клириков во враждебности к государственным интересам. Хотя МВД ценило улемов за их помощь в различных административных задачах, их положение оставалось шатким. Статус официально лицензированного священнослужителя зависел не только от утверждения губернатором и ОМДС, но и от членов общины, которые выдвигали кандидатов на эту должность. Уязвимость официальных клириков перед государством и мусульманскими патронами и активистами создавала условия для серьезных конфликтов по поводу религиозного авторитета.
С точки зрения общин мечетей ни благочестивые религиозные ученые, ни официальное исламское духовенство не обладали монополией на религиозное лидерство или истолковательный авторитет. Историки обычно следовали источникам, созданным мусульманскими элитами, в которых простые «необразованные» (’авамм) мусульмане выступали только в качестве подчиненных и последователей ученых и харизматичных религиозных лидеров. Но юридические документы, прошения и биографические сочинения, созданные в общинах, рисуют совершенно иную картину. Согласно этим данным, миряне и женщины ставили под сомнение ученость и благочестие имамов, проповедников, ученых, судей и учителей.
Обращение к государству стало важнейшим инструментом и для улемов, и для мирян. Клирики зачастую не могли переубедить инакомыслящих иными средствами и потому просили суд и полицию вмешаться, чтобы исправить поведение, которое они считали противоречащим шариату. И образованные, и необразованные люди прибегали к бюрократическим процедурам и риторическим стратегиям за пределами общин мечетей, чтобы низложить заблуждающихся имамов и других указных клириков. Крестьяне писали жалобы на татарском или обращались к писарю, чтобы он записал их устное свидетельство и перевел на русский. Многие горожане и некоторое число улемов умели писать по-русски130. Они обращали свои запросы не только ОМДС, но и губернским и столичным властям; многие посылали прошения самому царю. Миряне-активисты, желающие оказывать влияние на благочестие общин, стали для государства добровольными партнерами в общем деле поддержания клерикальной дисциплины. Таким образом, режим побуждал к доносам на аморальных или неблагонадежных мулл.
Исход таких кампаний был не всегда предсказуем. Имперская администрация, чей контроль над губерниями усиливался, также не очень ясно понимала, как управлять внутриобщинными конфликтами. Конфронтация с исламом в его локальных условиях умножала сложности, связанные с полицейской поддержкой «ортодоксальной» догмы и терпимых режимом практик. Власти, все еще сильно зависимые от европейских переводов исламских текстов, были вынуждены опираться на мусульманских информантов и их утверждения о традиции. Когда миряне связывались с царскими властями, стремившимися поддерживать ортодоксию внутри каждой официально признанной конфессиональной общины, эти взаимодействия переопределяли ортодоксию и одновременно усиливали влияние государства в ранее недоступных ему областях.
Общины мечетей (махалла) бывали полем конфликтов. Хотя в мусульманских деревнях время от времени ходили слухи о государственных кампаниях христианизации, угрозы исламу чаще исходили изнутри сообщества – например, когда соседи не посещали общинные молитвы вместе с другими крестьянами или горожанами. Имамы, которые пренебрегали обязательными обрядами перехода, особенно заупокойными молитвами, также наносили вред общине, подводя ее членов под Божье осуждение. Тяжесть этих проступков и оплошностей заставляла многих мирских активистов искать внешнего посредничества.
Хотя религиозные конфликты обретали форму под действием важных локальных факторов, они протекали не в изоляции. Через торговлю, образование, проповеди, паломничества и обращение рукописной литературы на татарском, арабском и персидском языках сетевые структуры ученых и суфиев связывали общины мечетей в деревнях и маленьких городах с региональными центрами образования (медресе), число которых в конце XVIII – начале XIX в. выросло. Их связи протягивались в международные центры науки и благочестия в Бухаре, Самарканде, Кабуле, Стамбуле, Багдаде, Каире, Мекке и других местах. Через эти каналы российские мусульмане участвовали в делах и конфликтах своих единоверцев во всем исламском сообществе. То, как мусульмане Российской империи переживали и осмысляли эти более общие диалоги и споры, заставляло их адаптировать ресурсы как из космополитического репертуара исламских норм и императивов, так и из политического контекста царской империи131.
Как мы видели на примере села Ура в главе 1, социальные отношения между патронами и клиентами и их обращения к судам, полиции и исламской иерархии структурировали дискуссии вокруг дефиниции аутентичных исламских практик. Традиция в таких мусульманских общинах оформлялась через споры и дебаты о доктрине, ритуале, поведении и сообществе. В общинах, подконтрольных ОМДС, мусульманские клирики боролись за установление непререкаемой области ортодоксии.
Исламские авторитеты в другие времена и в других странах достигли некоторого успеха в утверждении своей версии ортодоксии, преследуя народные праздники или запрещая политеистические практики. Но сопоставимое употребление власти улемами в России было осложнено несколькими факторами. Несмотря на бюрократические строгости экзаменов, лицензирования и ведения приходского учета, религиозное лидерство по-прежнему было очень вариативным и неформальным. Моральный статус и авторитет кандидата в религиозные лидеры определялись не государственной лицензией, а мнением влиятельных членов общины мечети. В серой зоне религиозного подполья процветали нелицензированные (неуказные) клирики – бродячие проповедники, учителя, чтецы Корана, рассказчики, поэты, неформальные менторы и духовные наставники. При поддержке патронов и учеников они по-прежнему ускользали от полицейского контроля и действовали за рамками официальных исламских учреждений. Они пережили сам царский режим.
Режим был неспособен подавить неуказных клириков и останавливался в шаге от полного одобрения авторитета официальных. Он позволял общинам мечетей выбирать кандидатов в имамы, проповедники, учителя и служители мечети. Закон был на стороне прихожан, когда они хотели сместить клирика, своим поведением разочаровавшего покровителей – спонсоров его выдвижения. Губернские власти часто питали сомнения в общественной полезности или политической лояльности мусульманских клириков. Поэтому угроза проверки или смещения с официальной должности придавала больше веса требованиям прихожан, когда они выступали против мулл, обвиняя их в некомпетентности, лени, распутстве или неверии.
Прихожане могли найти поддержку у местного чиновника, а мулла, который считал своим долгом наказать какого-нибудь крестьянина за нарушение шариата – будь то пьянство, кутежи или нежелание посещать молитвы, – обычно должен был до некоторой степени опираться на помощь других членов общины. Клирики, которым не удавалось заручиться поддержкой общины, обращались в ОМДС. Но до Уфы далеко. Ее влияние почти всецело зависело от благосклонности местного уездного суда. Это учреждение обладало смешанной судебно-полицейской юрисдикцией и ограниченными ресурсами. Во многих местах в его штат входили видные татары или двуязычные писари, и оно, по сути, функционировало как суд, следствие, свидетель и полиция; оно судило споры, нотариально заверяло итоги сельских выборов (например, мулл) и проводило в жизнь решения ОМДС и других вышестоящих учреждений132.
Таким образом, улемы сталкивались с теми же трудностями, что религиозные ученые в других мусульманских обществах – например, позднейшие иранские клирики, которые, как заметил Майкл Фишер, «отстаивали идеалы, зачастую выходившие за рамки осуществимого на практике» и были «поэтому всегда подвержены обвинениям в лицемерии и притворстве». Повседневная жизнь в империи подразумевала, что они, подобно клирикам османского Дамаска, также «создавали и нарушителей, и защитников публичного морального кодекса»133.
Царское законодательство передало обряды рождения, брака, развода, смерти и покаяния в исключительное ведение «магометанского духовенства» и подчинило всю общину правовым заключениям (фетвам) муфтия. Но миряне никогда не были пассивным объектом иерархического контроля. Мусульманские прихожане предпринимали ряд инициатив, зачастую будучи убеждены, что исполняют коллективный долг «побуждать к благому и отвращать от дурного»134. Миряне не только выступали патронами мечетей, школ и благотворительных фондов, но и горячо пропагандировали свои религиозные ценности среди других людей, включая немусульман. Моральные ожидания и заботы о тщательном соблюдении шариата, усиленные распространением пиетистских учений братства Накшбандийя, подрывали доверие ко многим указным клирикам. Когда миряне и женщины стремились навести в общине новый моральный порядок, ставя под вопрос рвение своего муллы, апелляции к имперским законам и самодержавной власти становились важнейшим ресурсом. Обвинения в аморальности, нерелигиозности и лжеучениях провоцировали полицейское вмешательство, а с ним и государственную поддержку нового определения ортодоксии.
128
МИБАССР. 5: 567–568.
129
О деятельности мусульманских торговцев и предпринимателей см.: Frank A. J. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910. Leiden: Brill, 2001. P. 174; Kappeler A. Russlands Erste Nationalitäten: Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. Cologne: Böhlau Verlag, 1982. S. 455–481; Kemper M. Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889: Der Islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1998; Noack Ch. Muslimischer Nationalismus im Russischen Reich: Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren, 1861–1917. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000. S. 39–109; Шаблей П. Семья Яушевых и ее окружение: ислам и дилеммы властных отношений в Российской Империи во второй половине XIX – начале XX в. // Acta Slavica Iaponica. 2017. Tomus 38. P. 23–50.
130
Например, «Мѳхәммәтнажип хәзрат йәзмасы». ГА. 2003. № 1–2. С. 49; Frank A. J. A Chronicle of Islamic Communities on the Imperial Russian Frontier: The Tavārīx-i Āltī Ātā of Muhammad Fātih al-Īmīnī // Muslim Culture in Russia and Central Asia. Vol. 3 / Ed. A. von Kügelgen, A. Muminov, M. Kemper. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2000. P. 473.
131
См.: Eickelman D. F. Changing Interpretations of Islamic Movements // Islam and the Political Economy of Meaning: Comparative Studies of Muslim Discourse / Ed. W. R. Roff. London: Croom Helm, 1987. P. 20–27; Roff W. R. Islamic Movements: One or Many? // Political Economy of Meaning. P. 31–52. О «книжной культуре» см.: Бустанов А. К. Книжная культура сибирских мусульман. М.: Издательский дом Марджани, 2013.
132
Kaiser F. B. Die russische Justizreform von 1864: Zur Geschichte der russischen Justiz von Katharina II. bis 1917. Leiden: Brill, 1972. S. 1–89; Хайрутдинов Р. Р. Управление государственной деревни Казанской губернии (конец XVIII – первая треть XIX в.). Казань: Издательство Института истории АН РТ, 2002; (ред.); Мулла сайлау тамгалары / Ред. Нәжип Нәккаш, Фәйзелхак Ислаев. ГА. 1998. № 1–2. С. 108–113.
133
Fischer M. M. J. Iran: From Religious Dispute to Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980. P. 138; Rafeq A.-K. Public Morality in 18th-century Ottoman Damascus // Revue du monde musulman et de la Méditerranée. 1990. 55–56. Nos 1–2. P. 180–196.
134
В советской науке мусульманское духовенство считалось простым инструментом феодальных интересов, а миряне изображались жертвами их манипуляций. См.: Климович Л. Ислам в царской России. М.: Государственное антирелигиозное издательство, 1936. Для более тонкого и сложного взгляда см., например: Шаблей П. Ахун Сирадж ад-Дин ибн Сайфулла ал-Кызылъяри у казахов Сибирского ведомства: исламская биография в имперском контексте // Ab Imperio. 2012. No. 1. P. 29–46; Там же. Семья Яушевых и ее окружение: ислам и дилеммы властных отношений в Российской Империи во второй половине XIX – начале XX в. // Acta Slavica Iaponica. 2017. Tomus 38. P. 23–50; Мусульманские духовные лица в социальном и духовном развитии татарского народа (XVII – начало XX в.): Сб. статей / Ред. И. К. Загидуллин, Л. Ф. Байбулатова, И. З. Файзрахманов. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014; Bustanov А. K. 'Abd al-Rashid Ibrahim’s Biographical Dictionary on Siberian Islamic Scholars // Казанское исламоведение / Kazan Islamic Review. 2014. No. 1. P. 10–78. О доктринальной основе мусульманских мирских инициатив см.: Cook M. Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.