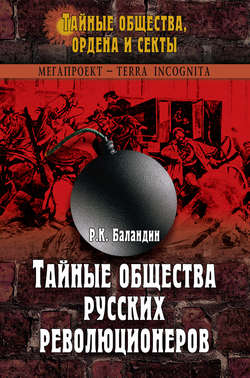Читать книгу Тайные общества русских революционеров - Рудольф Баландин - Страница 12
Глава 1. Трудные годы России
Пошатнувшаяся установка
ОглавлениеВ индивидуальной психологии есть понятие установки. Это нечто подобное эмоциональной предрасположенности, предвзятости, готовности к определенным реакциям в соответствующих обстоятельствах. Такая реакция вырабатывается в результате опыта, воспитания, образования, полученных знаний, под влиянием внешней среды или неосознанных внутренних психических процессов.
В простейшем и наглядном виде установку внедряют животным при дрессировке, и они ее выполняют в нужный момент по запрограммированному сигналу. Можно вспомнить также эксперименты, проводимые И.П. Павловым на собаках.
Человек способен выработать установку самостоятельно и вполне сознательно. Однако в дальнейшем она может закрепиться на более глубоком подсознательном уровне и проявляться вне зависимости от рассудка. Для этого она должна периодически подкрепляться. Так действуют, например, влюбленные, которые преподносят предмету своей страсти подарки и говорят комплименты. При постоянном повторении такого рефлекса (появление данного человека – подарок – удовольствие от подарка) через некоторый срок предмет любви может испытывать удовольствие уже при встрече с данным субъектом. Возможно, такой способ ухаживания, увенчанный успехом, породил известную поговорку: «Любовь зла, полюбишь и козла».
Шутки шутками, а в политической жизни установка играет немалую роль. Например, когда после Великой Отечественной войны снижались цены (а до нее – увеличивалось благосостояние советского народа), это серьезно укрепляло авторитет Сталина и установку на признание его великим вождем и отцом народа. Дело тут не просто в задабривании населения, а в подтверждении верности взятого им политического курса, в реальности и честности его обещаний.
Правда, со времен горбачевской «перестройки» в общественное сознание стали вколачивать мысль, будто замечательные успехи советского народа в труде и в боях объясняются… животным страхом сталинских репрессий, что «стройки коммунизма» возводили главным образом заключенные, а в атаки против гитлеровцев шли либо штрафные батальоны, либо подневольные бойцы, подгоняемые сзади заградительными отрядами.
Увы, подобные бредовые для здравого ума идеи не только пропагандировались, но и находили благоприятную почву в умах немалого числа служащих, интеллигентов. Им даже не приходило в голову, что число работавших заключенных составляло ничтожную долю от числа всех трудящихся (один-два человека на сотню), «штрафников» – еще в десять или сто раз меньше. Но главное, пожалуй, другое.
В нашей стране появилось немало граждан, которым трудно было поверить, что возможен подлинный трудовой энтузиазм, а также подлинный героизм в войне. Это скептики, циники, приспособленцы и лицемеры, не способные не только на героические, но и просто на достойные поступки. Опошление героического прошлого, да еще своего собственного народа, своих действительно героических недавних, а отчасти еще живущих предков – показатель глубокой духовной эрозии, нравственной деградации. У такого народа не может быть достойного будущего.
Увы, такую установку вырабатывали долго и упорно внешние и внутренние враги СССР. И когда Хрущев выступил с докладом, ниспровергающим культ Сталина, это был удар колоссальной силы по сложившейся идеологии. В данном случае совершенно не важно, насколько справедливы или несправедливы были обвинения Хрущева в адрес недавнего вождя, которому он сам пел дифирамбы. Не имеет существенного значения и то, в какой степени был оправдан культ личности Сталина. Важно, что восхищение вождем и доверие к нему культивировались годами и подтверждались замечательными достижениями страны, а затем еще победой в Великой Отечественной войне. Это было чувство, укоренившееся в подсознании миллионов граждан как четкая установка. Она в значительной степени содействовала единению людей и признанию коммунистической идеологии в массах.
Эта установка основательно пошатнулась после выступления Хрущева на XX съезде партии. С этого времени начался идейный разброд. А все приспособленцы и лицемеры, вступившие в партию из-за карьерных соображений, получили подкрепление своим самым низменным устремлениям и оправдание подлости своей и лжи.
В общественной жизни феномен коллективного подсознания играет существенную, порой решающую роль. Комплекс установок обеспечивает общественную стабильность. Крушение установки – подрывает ее, содействует наступлению смутного времени разброда и шатаний.
Для России конца XIX века такой устойчивой официальной идеологической установкой продолжала быть триада: «Самодержавие, Православие, Народность». Ее укоренению содействовали экономические успехи страны в конце XIX века, во время правления Александра III. Индустриализация, расширение сети железных дорог, оживление торговли, а еще раньше, при Александре II, отмена крепостного права – все это подтверждало истинность идеологической установки. Безусловно, немалое количество демократически настроенных граждан стремились свергнуть или ограничить конституцией самодержавие; о революционерах и говорить нечего.
В народе было иначе. Самодержавие было освящено не только вековой традицией, но и авторитетом Православной церкви. К тому же русскому мужику, в массе своей необразованному и задавленному насущным нелегким трудом, было не до политических проблем – прокормить бы семью.
Правда, последнее десятилетие XIX века было омрачено страшным голодом в 1891 и 1892 годах. Затем началась эпидемия холеры в Поволжье и Прикаспии, сопровождавшаяся бунтами: расползся слух, будто врачи и фельдшеры специально морят народ по приказу высшего начальства. Но и при этом вера в царя сохранялась.
Александр III умер в 1894 году. На престол вступил его сын Николай II. В связи с этим земские деятели передали ему письмо, где, помимо изъявления верноподданнических чувств, высказывалась надежда на то, что будет предоставлено больше свободы печати, возможности «для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребности и мысли не одних только представителей администрации, но и народа русского».
Представители земства в отличие от царских чиновников были более или менее близки к народу. Например, во время голода они организовывали столовые для голодающих и санитарные пункты. Земцы понимали: обязанность царя – служить русскому народу (они так ему и написали), для чего необходимо лучше знать заботы, нужды, надежды простого люда.
Однако 19 января 1895 года на торжественном приеме Николай II дал суровую отповедь тем, кто надеялся на более тесное сближение самодержавия с народом и низшим дворянством, разночинцами, мелкими служащими, интеллигенцией. Он сказал:
«Мне известно, что в последнее время слышались голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я… буду охранять начало самодержавия так же твердо, как мой незабвенный покойный родитель».
Эти слова разочаровали многих из тех образованных и влиятельных людей, которые желали «косметических» изменений государственной системы главным образом для ослабления внутренних противоречий во избежание революции.
Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. А сейчас отметим, что в ХIХ веке наиболее радикально настроенными по отношению к существующей власти были сначала, в основном, представители дворянства, затем преимущественно разночинцы и лишь в конце столетия – представители рабочего класса. «Народ безмолвствовал», как писал А.С. Пушкин в «Борисе Годунове» (если учесть, что более 80 % жителей России были крестьянами).