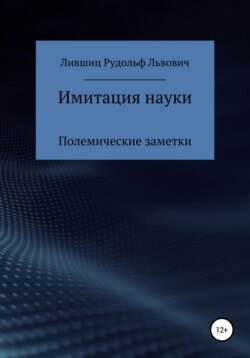Читать книгу Имитация науки. Полемические заметки - Рудольф Лившиц - Страница 3
Часть I. Лики науки
Наука в парадигме российского неолиберализма[20]
ОглавлениеВременной рубеж, с которого следует вести начало современной эпохи, определяется естественным образом: окончание холодной войны, всемирно-историческое поражение советского проекта и установление единой мировой капиталистической системы. С этого момента Россия находится в процессе формационного перехода. Для одних этот переход есть «возвращение в лоно мировой цивилизации», для других – реставрация капитализма, исторический откат. Обсуждение этих альтернативных взглядов – отдельная тема, в которую мы здесь не имеем возможности, как и намерения, вдаваться. Констатируем несомненное, с чем согласится и крайний либерал, и убежденный коммунист: после поражения Советского Союза в холодной войне в России (как и других странах, образовавшихся на месте СССР) произошли коренные перемены. Они затронули все сферы общественной жизни: экономику, политическую надстройку, социальные отношения, идеологию. На месте общества, построенного по принципу солидарности, создана система, основанная на конкуренции. В первую очередь это относится к экономике, где государственная собственность на средства производства перешла в частные руки, а плановую систему ведения хозяйства сменил рынок. Монопольная власть КПСС ликвидирована вместе с самой КПСС, и теперь мы имеем многопартийную политическую систему, альтернативные выборы и иные атрибуты демократии. В социальной сфере наблюдается переход от патерналистской модели государства к либеральной, распространение принципов рынка на здравоохранение и образование. Последнее официально утратило статус общественного служения и превратилось в сферу услуг.
Эти процессы не могли не затронуть и такого важного социального института, как наука. Конкретно нас интересует вопрос о том, как отразился произошедший в России в последние три десятилетия формационный сдвиг на состоянии науки, к каким последствиям он может привести в будущем. Этот относительно частный вопрос рассматривается нами как часть более общей проблемы: в каком направлении эволюционирует наука в современном мире, где после окончания холодной войны принципы рыночного регулирования общественных отношений получили значительное распространение? Насколько новая ситуация благоприятна для развития науки как способа духовного освоения действительности и как социального института? При этом мы в значительной мере опираемся на развиваемые З. А. Сокулер представления о науке как феномене, который существенным образом зависит от социальных условий[21]. В своей концепции З. А. Сокулер использует метафору родника, из которого вытекает ручей. Она пишет:
«Родник никак не предопределяет, в какую сторону потечет ручеек, какие потоки встретит он на своем пути, засохнет или станет полноводным, окажется бурной горной или спокойной равнинной рекой, сколь широкой будет дельта и пр. Родник не является матрицей последующих преображений ручья и реки. Они зависят от совокупности внешних обстоятельств»[22].
Чтобы, так сказать, не умножать сущности сверх необходимого, обратимся к работам известного российского исследователя науки А. М. Аблажея. Изучив на материале Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) трансформацию науки в последние десятилетия, он выделил следующие тенденции: во-первых, значительное сокращение государственного финансирования научных исследований, во-вторых, существенное снижение объема научной информации, свободно циркулирующей в научном сообществе, в-третьих, превращение научного знания в товар, собственником которого является не тот, кто его произвел, а спонсор проведенных исследований (корпорация, университет или государственная организация). Общим знаменателем всех этих (и связанных с ними преобразований вроде резкого сокращения социальной сферы науки) является коммерциализация, которая лежит в русле господствующей ныне практики, которую А. М. Аблажей вполне, на наш взгляд, справедливо квалифицирует как неолиберальную[23]. В другой своей публикации, характеризуя влияние неолиберальной политики на науку, А. М. Аблажей указал и на такой важный аспект происходящих изменений, как «размывание института авторства»[24]. Невзирая на нарисованную им довольно неприглядную картину реального состояния российской науки, А. М. Аблажей настроен вполне оптимистически, о чем свидетельствует следующее заявление:
«Сегодня можно уверенно говорить о том, что академическая наука, в том числе в Сибири, смогла успешно адаптироваться к условиям рынка <…>»[25].
И далее:
«Современная наука, и российская здесь не исключение – своеобразный двуликий Янус: продолжая сохранять классический образ социального института, нацеленного на производство достоверного знания (“понимание”), одновременно она нацелена на решение утилитарных задач, имеющих вполне реальное коммерческое измерение (“применение”). Новый характер приобретает процесс интеграции академической науки и высшего образования <…>. По нашему мнению, конкурентное сосуществование двух тенденций – “академической” (классической) и постакадемической (неолиберальной) будет определять положение дел в отечественной науке в ближайшей перспективе»[26].
Насчет ближайшей перспективы с автором трудно не согласиться. Но как быть с перспективой обозримой и отдаленной? Во что превратится «постакадемическая» наука за горизонтом видимости? В этом заключается философский вопрос, который А. М. Аблажеем не рассматривается. Мы не считаем себя вправе обходить его своим вниманием, этот вопрос обязательно поставим и попытаемся высказать по нему свои суждения.
Но пока позволим себе на время отложить данный сюжет и обратиться к вопросу о состоянии науки в другой стране, которая пережила формационный переход того же типа, что и Россия. Эта тема достаточно подробно освещена польским историком Викторией Борисюк[27]. К ее статье мы и обратимся. Картина, рисуемая В. Борисюк, во многом сходна с той, что описана А. М. Аблажеем. В Польше точно так же, как и в России, государство проводит политику снижения расходов на науку. В Польше государственное финансирование науки находится даже на еще более низком уровне, чем в России. Если, согласно приведенным в статье данным, в России оно составляет 1,12 % ВВП, то в Польской Республике всего 0,9 %. В Польше, как и в России, повсеместно насаждается грантовая система. На практике это означает, что научные работники львиную долю времени тратят на поиск грантов, оформление заявок и прочую маркетинговую деятельность, превращаясь из ученых в «менеджеров грантовых проектов», постоянно погруженных в «бумагологию». Этот аспект реформ науки отмечен и А. М. Аблажеем. Но как автор, работающий в крупном научном центре, А. М. Аблажей обошел вниманием другую проблему, которая чрезвычайно актуальна для ученых из польской (и не только польской) провинции: фактическое разделение научного сообщества на привилегированную элиту и всех других, к ней не принадлежащих. Элите достается и большая часть средств, выделяемых в рамках государственного финансирования, и основная часть грантов; остальные же вынуждены довольствоваться крохами. Иначе говоря, в научном сообществе происходит то, что размывает его именно как научное сообщество, которое в сущности своей представляет собой «республику ученых». В среде научных работников образуются «высшие» и «низшие» касты, что в принципе несовместимо с институтом науки. В. Борисюк отмечает также, что коммерциализация науки связана с абсолютизацией чисто количественных критериев оценки деятельности ученых: публикационной активности, индекса цитирования и тому подобных вещей. Эти критерии не дают ни малейшей возможности оценить содержательную сторону продукта научной деятельности, т. е. статей, монографий, докладов и т. п., но зато создают стимулы к ее симуляции. По выражению В. Борисюк,
«польских ученых загнали в беличье колесо»[28].
И добавляет:
«Главное – бежать, не задумываясь о смысле самого бега»[29].
Польский историк поднимает также вопрос о влиянии новых социальных условий на гуманитарные исследования. От польских обществоведов требуют публиковаться на английском языке, что, по мысли чиновников, управляющих наукой, делает результаты их труда доступными для зарубежных коллег. Когда речь о гуманитарных исследованиях, содержащих какие-то крупные обобщения или проливающих новый свет на внутренние сюжеты, интересные в силу определенных причин для зарубежного читателя, то перевод на английский язык, с нашей точки зрения, вполне оправдан. Но во всех остальных случаях никакой реальной необходимости в таком переводе нет.
Существуют проблемы, которые привлекают внимание как значительного количества ученых, так и широкой публики во всем мире. Так, вопрос о том, существует ли в солнечной системе в поясе Кой-пера девятая планета, относится к числу нерешенных и потому занимает умы современных астрофизиков. И если бы кто-то (в Польше, России, Китае или, например, в Папуа – Новой Гвинее) смог бы его решить, то о своем достижении он обязательно сообщил бы на языке международной научной коммуникации. Приведенный пример относится к области естествознания. Но можно проиллюстрировать наш тезис и на материале общественных наук. Так, исследования по истории наполеоновских войн представляют интерес не только для современных жителей Франции, но и для поляков, россиян, испанцев и многих других, чьи предки были вовлечены в те бурные события.
Но в общественных науках есть масса тем, представляющих локальный, частный интерес. Например, история какого-нибудь провинциального города в упомянутой Польше или в России. Образцовой в этом смысле является история города Комсомольска-на-Амуре, где проживает автор настоящих строк. Комсомольск-на-Амуре – детище советской индустриализации, проведенной ураганными темпами. В истории этого города, как в капле воды, отражается история России на советском этапе ее развития. И потому интерес российских ученых к данной теме вполне понятен и объясним. Для британских или немецких (французских, испанских и т. д.) историков она, в сущности, маргинальна, поэтому лишь очень немногие из них могут ею заинтересоваться. И какой в таком случае смысл публиковать результаты исследований по гуманитарным наукам на языке международного научного общения?
В таких условиях принуждение обществоведов, для которых английский язык не является родным, к тому, чтобы писать на английском, может означать только одно: закрепление ныне существующей стратификации внутри научной среды, или, если воспользоваться выражением В. Борисюк,
«воспроизводство символического насилия Центра над Периферией», «культурную гегемонию США в глобальном масштабе»[30].
Как совершенно справедливо пишет А. В. Павлов, продукцией общественных наук является
«качество населения, которое все в целом невозможно продать без государственной самоликвидации»[31].
И потому
«<…> в основе будущего национального единства должна быть гуманитарная наука»[32];
«должны быть поддержаны собственный язык, своя литература и искусство, своя философия <…>»[33].
А если так, то
«<…> причем здесь английский язык, принудительно насаждаемый в российском университетском преподавании? Причем здесь приказная обязанность гуманитариев, занимающихся проблематикой России, публиковаться на английском языке в журналах Web of Science и Scopus, где их из-за языкового и финансового барьера не смогут прочитать русские читатели, а англоязычные не будут читать потому, что это не их проблематика?»[34] (орфография источника. – Р. Л.).
Было бы, однако, неверно рассматривать такое принуждение только в культурологическом аспекте. Необходимо принять во внимание общий социальный контекст, в котором оно существует. Дело заключается в том, что принуждение обществоведов к использованию английского языка там, где в том нет очевидной необходимости, свидетельствует о восприятии продукта научных исследований как товара. Для неолиберальной идеологии такое восприятие вполне естественно, ибо в ней всякое социальное явление, любая сфера деятельности, любой социальный институт приобретает вид товара. Товар должен быть продан, но для этого требуется, чтобы информация о нем поступила на рынок. Английский язык как язык международного (не только научного) общения идеально подходит для этой цели.
Справедливости ради нужно сказать, что в настоящий момент не существует никакого принуждения российских обществоведов к тому, чтобы писать свои работы на английском языке, такое принуждение характерно для Польши, которая в своем неолиберальном энтузиазме опередила нашу страну. Но логика неолиберализма повсюду одинакова, и потому существуют основания полагать, что с течением времени российская власть догонит и перегонит польскую.
Между Польшей и Россией имеется ряд существенных различий: политических, экономических, культурных, идеологических… Однако есть один принципиальный момент тождества: ни та, ни другая страна не входит в элитный клуб стран, где проживает «золотой миллиард». Обе они занимают положение капиталистической (полу) периферии в рамках существующего в настоящее время миропорядка. Такие страны не выдвигают своего глобального проекта и даже не претендуют на то, чтобы его выдвигать. Их задача – приспособиться к наличным условиям, не помышляя о том, чтобы их изменить. Отсюда и исключительно скудное государственное финансирование науки. Наука в них превращается в бедную Золушку, которую лишь нормы приличия не позволяют выставить за дверь. В странах, подобных России и Польше, государство содержит науку более из милости, чем вследствие понимания ее общественной ценности. При этом ученым предоставлено право самостоятельно зарабатывать деньги, хотя прекрасно известно, что значительная (если не большая) часть результатов их деятельности просто не имеет и не может иметь рыночной стоимости. Но как обстоит дело в странах ядра капиталистической системы? Если посмотреть на цифры, то оно представляется несравненно лучшим. Так, согласно С. Н. Ларину и Ю. Е. Хрусталеву,
«к концу 1990-х гг. Япония выделяла на науку 3,04 % от своего ВВП, США – 2,64 %, а в странах Европейского сообщества (ЕС) на эти цели выделялось всего 1,92 %»[35].
Причем эта последняя цифра малоинформативна, так как Европа очень неоднородна и включает в себя, в частности, и Польшу. А вот такая страна, как Швеция, финансировала науку в объеме 3,8 % ВВП[36]. Итак, мы видим, что страны, лидирующие в области технологий (или действительно желающие лидировать), расходуют на науку значительно больше средств, чем страны капиталистической (полу) периферии. У политического руководства стран «ядра» есть понимание ценности института науки и воля к поддержанию финансирования научных исследований на достаточно высоком уровне. Однако это понимание, эта воля базируются, в силу господствующей политической философии, не на осознании ценности науки как фактора духовного прогресса общества, а на простом прагматическом интересе: обеспечить максимум прибыли. Такое стремление вытекает из идеологии неолиберализма, оценивающего все без исключения явления социальной жизни с точки зрения соотношения затрат и прибыли. В рамках неолиберального мировосприятия наука – разновидность бизнеса, и ее назначение, как у любого бизнеса, состоит в том, чтобы приносить прибыль. Поскольку вложения в науку позволяют повысить производительность труда не на проценты, а в разы или даже в десятки раз, ее имеет смысл финансировать. Никакие другие соображения и мотивы в рамки неолиберальной логики не вмещаются. И это в равной мере относится как к правящим классам стран, входящих в ядро капиталистической мир-системы, так и к политической элите стран зависимого развития. Но одно дело – элита страны, живущей за счет продажи углеводородов или продукции сельского хозяйства, а другое – правящий класс страны, добившейся технологического лидерства в современном мире и, что вполне объяснимо, категорически не желающий это лидерство уступать. Понятно, что в этом втором случае у элиты есть серьезный стимул не проявлять скаредности при выделении средств на науку.
В наши намерения не входит обсуждение таких животрепещущих вопросов, как определение оптимальной доли расходов государства на науку, плюсы и минусы грантовой системы, способы привлечения бизнеса к финансированию научных исследований и т. п. Да, нам приходится жить в реальных обстоятельствах, действовать в конкретных условиях, оставаясь на грешной земле со всеми ее несовершенствами. У любого государства есть много обязательств перед населением: поддержание правопорядка, обеспечение обороноспособности, финансирование системы образования и т. п. По этой причине ресурсы, которые оно в состоянии выделить на науку, не могут быть безграничными. И в том, что к науке (как и к другим сферам деятельности) применяются экономические критерии, нет ничего предосудительного. Вопрос в другом: можно ли ограничиться этими критериями при осмыслении науки как социального института? Допустимо ли вообще рассматривать науку как вид бизнеса, пусть и весьма специфический? От того, какой будет дан ответ на эти вопросы, зависит, без преувеличения, и судьба науки, и будущее общества.
Ситуация в значительной степени осложняется тем, что под общим словом «наука» скрываются явления разного типа. Если пользоваться общепринятой терминологией, в одном случае мы имеем дело с установкой на понимание реальности, а в другой – со стремлением применить полученные знания на практике. Внешне эти два вида деятельности весьма схожи. Так, авиаконструкторы, создавая самолет, проводят тщательное исследование свойств конструкционных материалов: ставятся эксперименты, накапливается статистика, выявляются закономерности, которым подчиняются эти материалы. И точно такие же по смыслу действия производятся в том случае, если исследуются законы, управляющие движением небесных тел или, например, физическими процессами в недрах звезд и планет. В обоих случаях используются научные методы исследования и достигается объективное знание сущности изучаемых процессов. И та, и другая деятельность – наука. Соответственно, люди, которые ею занимаются, – ученые. Но результат их деятельности различен. В одном случае достигается улучшение технических и эксплуатационных характеристик самолета. Общественная польза очевидна и несомненна: повышаются прибыли у фирмы-производителя самолетов, возрастают доходы у авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда новой модели, выигрывают пассажиры, потому что теперь они получают возможность совершать полеты за меньшую цену с большим комфортом. Выигрывает дело технического прогресса, потому что каждая новая более совершенная модель самолета – ступенька к созданию еще более совершенной. В другом случае достигается более глубокое понимание законов природы, не приносящее непосредственной экономической выгоды. Результат деятельности ученого, который занимается фундаментальными исследованиями, – проникновение во все более глубокие тайны природы, раскрытие общих закономерностей строения материи. Ученый здесь выступает не как субъект, выражающий интересы конкретной (в приведенном примере самолетостроительной) корпорации, которая преследует свою частную цель, а как представитель человечества. Совершенное им открытие – вклад в духовную сокровищницу мировой цивилизации. И пусть разобраться в этом открытии могут лишь немногие специалисты, которые имеют достаточный уровень профессиональной подготовки, это ничего не меняет по существу. Новым знанием обогатилось все человечество – вот что главное. В случае фундаментальных исследований имеет место иной масштаб деяния, и потому требуется иной масштаб оценки. Наука раздвигает духовные горизонты человечества, избавляет от иллюзий и заблуждений, умножает его интеллектуальную мощь. Френсис Бэкон абсолютно прав: «Nam ipsa scientia potestas est». И именно в этом состоит гуманистическая сущность науки. Она заключается не в общественной пользе как таковой, а в том, что стоит выше всякой пользы. Наука, как и искусство, по самой глубокой своей природе неутилитарна. Научное знание обладает ценностью само по себе как важнейший элемент и фактор духовного прогресса человечества.
Практическое применение научного знания (которое, как нами отмечалось, тоже требует употребления научных методов) способно принести и реально приносит огромную пользу. Наука гигантски умножила производительные силы общества, создала прочную броню цивилизации, поборола эпидемии, от которых в прежние времена умирали миллионы людей, резко снизила детскую смертность, добилась колоссальных успехов в лечении многих болезней, перед которыми человечество ранее было бессильно.
Мы не намерены впадать в «новую ортодоксию» и петь гимны науке как источнику абсолютного блага, поскольку не собираемся закрывать глаза на широко распространенную практику использования науки в антигуманных и деструктивных целях. Однако, в отличие от многих сторонников антисциентизма, мы не желаем клеймить науку за причиненное ею зло. Необходимо отдавать себе отчет в том, что наука функционирует в реальном общественном контексте и ее практическое применение зависит от того, кем конкретно она используется.
Наша позиция по данному вопросу близка к той, что выражена в коллективной монографии «Сциентизм: новая ортодоксия»[37]. По удачному выражению Р. Вильямса, сциентизм есть «сверхдоверие» (overconfidence) к науке[38]. Мы согласны с общим пафосом книги: обожествление науки столь же контрпродуктивно, как и скептическое отношение к ее возможностям. Наука дает нам в руки мощные средства практического преобразования мира – как созидательные, так и разрушительные. И только от людей зависит, как эти средства будут использованы.
Что касается науки, занимающейся применением знания, то подходить к ней с экономическими критериями и можно, и нужно. В то же время мы хотели бы высказать решительное возражение против абсолютизации этих критериев. С нашей точки зрения, и прикладную науку нельзя оценивать только в аспекте соотношения затрат и выгод, но это вопрос, заслуживающий отдельного рассмотрения.
Наука, которая ставит своей целью понимание законов мироустройства, требует иного подхода. Она является ценностью сама по себе, благом безусловным и неоспоримым. Финансирование фундаментальной науки должно быть абсолютным приоритетом государства. В этой связи в порядке рабочей гипотезы выскажем следующий тезис: экономия на науке оборачивается дополнительными расходами на строительство тюрем.
При оценке социальной роли фундаментальной науки следует учитывать специфику научной деятельности как таковой. Это требует рассмотрения ее мотивационной сферы. Мы совершенно согласны с Б. И. Пружининым, который утверждает следующее:
«<…> Мотивация научно-познавательной деятельности – решающий момент социокультурной детерминации научного познания, ибо обусловливает саму возможность существования науки как исторически определенного культурного феномена»[39].
Современная наука настолько трудна и сложна, что для достижения в ней профессионального уровня требуются многие годы напряженного труда. Поэтому люди, не обладающие достаточным трудолюбием, учеными не становятся. Но одного трудолюбия мало. Нужно иметь как минимум еще три качества: способность к сложной интеллектуальной деятельности, неутолимая жажда знаний и целеустремленность. Сочетание всех этих черт характера встречается далеко не у каждого, поэтому сквозь сито профессионального отбора в науку проходят лишь немногие. Безусловная доминанта мотивации ученого – стремление к истине. Только оно, это стремление, дает молодому человеку силы и терпение, чтобы
«карабкаться по каменистым тропам науки и достигнуть ее сияющих вершин»[40].
Человеку с прагматической мотивацией занятия наукой не кажутся особенно привлекательными, потому что не обещают быстрого материального успеха. Наука влечет к себе тех людей, которые видят успех не в увеличении количества нулей на банковском счете, а в том, чтобы приоткрыть краешек завесы над тайнами природы. Предельный, лабораторно чистый образец такой мотивации – казус Григория Перельмана. Он мог бы извлечь немалые выгоды из достигнутых им крупнейших научных результатов. Но земные награды ему просто не нужны. Доказав гипотезу Пуанкаре, он решил труднейшую задачу, над которой бились лучшие математические умы мира, – и этой награды лично ему достаточно. Что ему звание академика и премия в миллион долларов? На фоне такого свершения и почести, и миллион выглядят мелочно и суетно.
Конечно, Перельман для нашего прагматичного времени очень нетипичен. Впрочем, он не типичен и для времен минувших. Это человек не от мира сего, и такие всегда были редчайшим исключением. Но это такое исключение, которое как рентгеном высвечивает общую природу науки как социального института. Наука – это, пожалуй, единственный социальный институт, в котором идеальная мотивация превалирует над прагматической. Науку можно уподобить острову бескорыстия посреди океана эгоистических страстей. Самим фактом своего существования она оказывает ни с чем не сравнимое облагораживающее воздействие на общество.
Оппоненты могут упрекнуть нас, что в своей характеристике научного этоса мы некритически воспроизводим известную концепцию Р. Мертона, изложенную в его классическом труде, который был опубликован много лет тому назад[41]. (Конечно, речь у нас идет не обо всей концепции, а только о ее ключевом элементе, т. е. о понимании науки как бескорыстном поиске истины.) Основные положения его теории широко известны, вошли практически во все учебники по философии науки и не нуждаются в специальных пояснениях. Взгляды Р. Мертона подвергались критике. Разбирая ее, Е. З. Мирская отметила[42], что его оппоненты указывали на следующие обстоятельства. Во-первых, утверждения Р. Мертона могут быть отнесены только к фундаментальной науке. Во-вторых, они справедливы по отношению к науке не на всем протяжении ее истории, а только на стадии классики. Согласно утверждениям критиков, на более поздних этапах эволюции науки дело обстоит иначе. В-третьих, и к науке классической концепция Р. Мертона применима лишь с известными оговорками, поскольку в ней описывается не столько реальность, сколько ее идеальный образец. В реальности же мы видим в науке то же самое, что в изобилии встречаем за ее пределами: «ярмарку тщеславия», столкновение амбиций, подсиживание, борьбу страстей. С первым аргументом можно, пожалуй, частично согласиться. Прикладную науку в определенных пределах допустимо трактовать как своеобразный бизнес, который отличается от бизнеса обыкновенного лишь тем, что требует высокой профессиональной подготовки. В бизнесе прагматическая смысложизненная ориентация решительно преобладает над нематериальной. Что касается второго аргумента, то он далеко не бесспорен. Если проанализировать генезис науки, то мы обнаружим, что она возникла на почве практики, но вовсе не из практической нужды. Измерение площади земельного участка – насущно необходимое дело, без которого в Древнем Египте невозможно было заниматься сельским хозяйством. И древние египтяне, осмыслив и обобщив имеющийся практический опыт, нашли способ решить эту задачу. Но построение геометрии как системы теорем, вытекающих из аксиом, – заслуга не египтян, а греков, которые вдохновлялись иной системой ценностей. Выведение теорем было для них увлекательной интеллектуальной игрой, полетом мысли, торжеством духа, свободного от пут практической нужды.
Бескорыстное стремление к истине не исчезло из науки и в наш прагматичный век. Та же Е. З. Мирская в упоминавшейся статье сообщает о результатах одного интересного социологического исследования. В ходе изучения мотивов, которыми в современных условиях руководствуются ученые Сибирского отделения РАН, был выявлен факт преобладания устремлений нематериального порядка.
«<…> Результаты эмпирического исследования российского академического сообщества, – констатирует Е. З. Мирская, – <…> представляются нам подтверждением сохранения классической модели человека науки и его профессионального поведения»[43].
И далее:
«Главная заслуга Р. Мертона – четкая экспликация основополагающих ценностей науки и соответствующих им идеальных принципов научной деятельности, а также непоколебимая уверенность в их действенности. Эта уверенность постепенно вошла в коллективное сознание научного сообщества и до сих пор составляет важную часть менталитета людей, искренне преданных науке, прежде всего – как творческому поиску нового знания»[44].
Хотелось бы обратить внимание на один нюанс в цитированном высказывании. Е. З. Мирская пишет, что уверенность в действенности идеальных принципов научной деятельности составляет важную часть менталитета ученых до сих пор. Так мы выражаемся в том случае, когда происходящее не соответствует объективной логике процесса. Что-то уже должно исчезнуть, прекратиться, но оно, вопреки всем обстоятельствам, продолжает существовать. Так, кто-то до сих пор пишет текст от руки, а не набирает его на компьютере. Есть люди, которые до сих пор верят астрологическим прогнозам. В констатациях такого типа есть элемент удивления. В самом деле, повсеместно происходящая коммерциализация науки, подобно серной кислоте, должна разъесть ее базовые принципы. Однако наука как поиск истины ради истины продолжает существовать, и остаются ученые, которые хранят ей верность.
Бессмысленно возражать против использования экономических критериев при оценке деятельности ученых. Любой труд имеет экономический аспект, и, если мы хотим оставаться на почве реальности, этот факт должен приниматься во внимание. Логика научно-технического прогресса неизбежно приводит к возрастанию объема прикладных исследований, для которых инструментальное отношение к истине является вполне закономерным и естественным. В прикладной науке и иная цель, и иные критерии оценки деятельности. Ученый, занимающийся прикладными исследованиями, мыслит не в категориях истина/заблуждение, а в понятиях успех/неудача. Универсальное мерило успеха – деньги. И потому прикладные исследования заключают в себе соблазн стать бизнесменом. Для отдельного ученого такое превращение может означать успех, но для науки такая эволюция связана с потерями.
Настал подходящий момент выполнить наше обещание и вернуться к вопросу о сосуществовании двух типов науки, который затронут в работах А. М. Аблажея. Как уже упоминалось, по его мнению, в ближайшей перспективе в отечественной науке будет иметь место «конкурентное сосуществование двух тенденций – “академической” (классической) и постакадемической (неолиберальной)». В ближайшей, возможно, и так. Но что произойдет потом, когда те поколения ученых, которые хранят традиции классической науки, сойдут со сцены? У какой из двух названных А. М. Аблажеем тенденций имеется конкурентное преимущество? На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. Понятно, что в обществе с безусловным доминированием прагматических ценностей (а мы живем в настоящее время именно в таком) победа будет на стороне тех, кто «умеет делать деньги». И это грозит науке тем, что она будет беспощадно утоплена в «ледяной воде эгоистического расчета» (Маркс и Энгельс). Конечно, перемена такого масштаба произойдет не сразу, поскольку социальные процессы (и в особенности в духовной сфере) обладают громадной инерцией. Сначала дойдет до конца процесс исчезновения научных школ. Научная школа возникает вокруг лидера, который помимо выдающегося ума обладает еще и таким важным качеством, как талант бескорыстия. Но бескорыстие в наши дни – это вредный атавизм, препятствующий успеху. Количество ученых, способных бескорыстно делиться своими идеями с учениками, будет неуклонно сокращаться, пока такой тип ученых вообще не исчезнет. Будет происходить переток исследователей из фундаментальной науки в прикладную как более привлекательную в коммерческом отношении. Логика процесса ведет к тому, что через некоторое время подхватить эстафету фундаментальных научных исследований, будет, в сущности, некому.
В настоящее время у части способных юношей и девушек есть мотив посвятить свою жизнь науке, поскольку этот нелегкий путь открывает возможность общественного признания и дарит шанс оставить свой след в вечности. Но эти идеальные мотивы все более отходят на второй план перед мотивами прагматическими, и коммерциализация науки тому весьма благоприятствует. Общественное признание и благодарная память потомков – награды высокие, но очень уж эфемерные. Другое дело – счет в банке на круглую сумму. Роскошный автомобиль, дорогая недвижимость… Все это ценности вполне реальные, осязаемые, чувственно-наглядные.
Однако преимущественное развитие прикладной науки возможно лишь до известных пределов. Она при всей ее важности и практической полезности все-таки вторична. Прикладная наука занимается разработкой способов практического применения знания, полученного фундаментальной наукой. Но если произойдет кадровое ослабление этой последней, кто будет добывать знание для прикладных исследований? Кроме того, упомянутое выше размывание института авторства, превращение ученого в «менеджера грантовых проектов» также значительно ослабляет для молодого человека привлекательность смысложизненного выбора в пользу науки.
Впечатляющие успехи фундаментальной науки, огромные достижения научно-технического прогресса настраивают нас на оптимистический лад. Кажется само собой разумеющимся, что так будет и впредь до скончания веков. Однако мы наблюдаем в реальности тенденции, которые заставляют снизить градус оптимизма. Коммерциализация науки, фетишизация рыночных методов как способов регулирования научной деятельности ведет к выхолащиванию сущности научного познания. Наука как форма духовного освоения действительности, в которой выражается и утверждается интеллектуальная мощь человечества, вырождается в деятельность по созданию новых технологий, нацеленную на обеспечение интересов корпораций.
Таким образом, органически присущий неолиберализму узко-прагматический подход к науке как к разновидности бизнеса таит в себе угрозу для самого существования института науки.
Возвращаясь к образу науки как реки, созданному З. А. Сокулер, можно сказать, что неолиберальное отношение к науке культивирует использование потока воды в целях ирригации. Орошение позволяет резко повысить эффективность сельского хозяйства, но лишь при соблюдении меры. Если эту меру нарушить, результаты оказываются катастрофическими.
Естественным образом возникает вопрос: какова альтернатива? Что можно противопоставить узкопрагматическому подходу к науке и в чем должен выражаться отказ от него? Эта проблематика требует специального анализа, но мы не имеем права уклониться от определения своей принципиальной позиции. С нашей точки зрения, альтернатива заключается в коренном изменении отношения к науке как со стороны политического руководства страны, так и со стороны широкой общественности. Необходимо осознать, что духовная самоценность науки и ее практическая полезность связаны нерасторжимо. Это требует решительного пересмотра принципов финансирования науки. Наука должна стать главным приоритетом государства, из чего следует, что средства на нее необходимо выделять в первую очередь, а не по остаточному принципу. Ученым должна быть предоставлена материальная независимость на уровне, достаточном для творческой работы. Это касается как естествоиспытателей, так и обществоведов, как тех, кто занимается фундаментальными исследованиями, так и тех, кто специализируется на прикладных разработках. Такой подход несовместим с системой образования, которая ставит своей целью выработать у человека умение приспосабливаться к наличным условиям. Значит, необходима иная система образования, нацеленная на формирование системного мышления, способная пробуждать в молодых умах жажду познания.
Нам могут сказать, что нарисованная картина – чистейшая утопия, беспочвенное прожектерство. В ответ мы могли бы воспроизвести известный лозунг: «Будьте реалистами – требуйте невозможного». Но мы не станем прибегать к такому способу аргументации, поскольку полагаем, что отказ от узкопрагматического подхода к науке не только возможен, но и необходим. В наше время понимание науки как, прежде всего, эффективного способа вложения капитала кажется естественным и даже единственно возможным. Но ведь и в феодальном обществе деление людей на «благородные» и «низкие» сословия казалось вечным божественным установлением. Изменились общественные отношения, и канула в лету идея установленного свыше неравенства людей. Станет достоянием прошлого и узкопрагматический подход к науке. Но это не произойдет само собой. Нужны сознательные усилия людей, осознающих свою ответственность за будущее.
21
См.: Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001. 240 с.
22
Там же. С. 6.
23
См.: Аблажей А. М. Неолиберальная трансформация современной науки: российская версия // Сибирский философский журнал. 2014. Т. 12, № 4. С. 40–46.
24
Его же. Концепция неолиберальной науки в западной социальной мысли // Вестник НГУ. Серия Философия. 2012. Т. 10, вып. 2. С. 76.
25
Его же. Неолиберальная трансформация современной науки: российская версия // Сибирский философский журнал. 2014. Т. 12, № 4. С. 45.
26
Там же.
27
См.: Борисюк В. Гранты, «бумагология» и договор подряда, или Что представляет собой сегодняшняя польская наука. URL: http://saint-juste.narod.ru/nauka_polska. html
28
Борисюк В. Указ. соч.
29
Там же.
30
Там же.
31
Павлов А. В. Специфика предметности в гуманитарном познании // Социум и власть. 2016. № 4 (60). С. 120.
32
Там же.
33
Там же.
34
Павлов А. В. Указ. соч. С. 121.
35
Ларин С. Н., Хрусталёв Ю. Е. Исследование современных подходов к финансированию фундаментальных научных исследований за рубежом и в России // Финансы и кредит. Международные финансы. 2014. № 17 (593). С. 14.
36
См.: Там же. С. 15.
37
Scientism: The New Orthodoxy / ed. by R. N. Williams and D. N. Robinson. Bloomberry: Bloomberry Academic, 2015. 200 p.
38
Ibid. P. 7.
39
Пружинин Б. И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки // Философия науки. 2005. Вып. 11. С. 110.
40
Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 25.
41
См.: Merton R. K. The sociology of science: theoretical and empirical investigations / ed. and with an introduction by N. W. Storer. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1973. 605 p.
42
Мирская Е. З. Р. К. Мертон и этос классической науки // Философия науки. 2005. Вып. 11. С. 11–27.
43
Там же. С. 26.
44
Мирская Е. З. Указ. соч. С. 26–27.