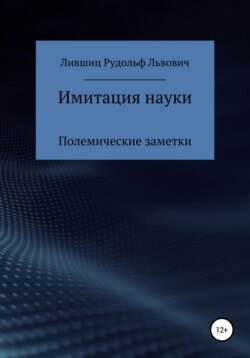Читать книгу Имитация науки. Полемические заметки - Рудольф Лившиц - Страница 5
Часть I. Лики науки
Пределы субъективности ученого[72]
ОглавлениеАнгажированность – это лишь один из аспектов субъективности. Поэтому вполне логичной представляется постановка более общей проблемы – каковы пределы субъективности в научном исследовании, на что ученый имеет право, а на что – нет. Иначе говоря: что ему позволительно делать, оставаясь в границах науки как способа духовного освоения действительности, а что нежелательно или даже категорически противопоказано. Ответ на этот вопрос представляет собой не только академический, но и практический интерес, поскольку наука в современном мире – влиятельный социальный институт, один из важнейших объектов государственного управления. Таким образом, актуальность поставленной проблемы связана с двумя обстоятельствами:
– во-первых, с широким распространением в современном обществе (не только российском) наукоподобных феноменов, претендующих на то, чтобы считаться аутентичной наукой;
– во-вторых, с необходимостью управления наукой как социальным институтом. В деятельность этого института вовлечены миллионы людей, и одно это лишает его возможности функционировать на началах самодеятельности.
Специально подчеркнем: в наши намерения не входит углубляться в классический философско-методологический вопрос о соотношении объективных и субъективных моментов в научном исследовании. Желающие ознакомиться с современными подходами к его решению могут обратиться к доступным источникам[73]. Такое понимание задачи связано с тем, что мы хотели бы рассмотреть проблему субъективности ученого не столько в гносеологическом, сколько в социально-философском плане.
В связи с амбивалентностью понятия субъективности необходимо выявить тот его смысл, который мы намерены в данной статье актуализировать. В обыденном словоупотреблении под субъективностью чаще всего понимают пристрастность, нежелание считаться с очевидностью, вкусовщину, неспособность признать правоту оппонента и т. п. В общем, это слово явным образом имеет отрицательные коннотации. Мы же склонны трактовать понятие субъективности в позитивном ключе, сближая его с понятием субъектности. Обладать субъективностью – значит иметь собственную позицию, быть способным приводить в ее пользу рациональные аргументы и подвергать критике иную точку зрения, делать осознанный выбор. Человек, наделенный качеством субъективности, – это тот, кто принимает решения сам, а не следует бездумно чужим решениям. Поэтому в нашем понимании субъективность ученого – это не его индивидуальные особенности, а способность принимать осознанные решения в сфере своей профессиональной компетенции.
Поставленная таким образом проблема имеет и метафизический, и непосредственно-практический смысл. В мировоззренческом плане она представляет собой частный случай проблемы свободы в сфере профессиональной деятельности. Любая профессия предоставляет человеку определенную возможность творческой самореализации. Некоторые – малую, некоторые – очень значительную. Общий закон состоит в том, что объем свободы в профессиональной деятельности коррелирует со степенью рутинности выполняемых функций. Рабочий на конвейере должен поставить определенную деталь в строго отведенное для нее место. Время на операцию выверено с точностью до десятых долей секунды. Медсестра, делая внутривенную инъекцию, имеет право выбирать, в какую именно вену вводить лекарство. Ее профессия предполагает уже существенно бо́льшую в сравнении с работой на конвейере свободу действий. Но диагноз все-таки ставит не она, а врач. Постановка диагноза – творческий процесс, который требует гибкости мышления, умения выбирать между разными вариантами тот, который в наибольшей степени соответствует подлинной природе патологического процесса. Но все эти варианты так или иначе исходят из объективной картины, создаваемой набором симптомов, данных анализов и т. п. Врач волен осмысливать эту картину различными способами, выдвигая самую правдоподобную гипотезу, но он не имеет права примысливать одни факты и игнорировать другие.
Профессия ученого имеет много общего с профессией врача. Суть научной деятельности – добывание фактов и их последующее обобщение. Конечно, не каждый конкретный исследователь проделывает всю необходимую работу ума – от обнаружения факта до создания завершенной теории. В науке существует разделение труда, специализация, кооперация усилий и т. д. Поэтому, произнося слово «ученый», мы имеем в виду не конкретно Кузнецова, Смита или Шмидта, а некий собирательный образ, работника науки как такового.
Итак, ученый как представитель творческой профессии имеет право на субъективность, более того, он не имеет права не быть субъективным. На это указывает, например, К. С. Пигров[74]. Он пишет:
«Всякая новизна, представая как отрицание уже существующего, общепризнанного, предстает в качестве нарушения существующего теоретического и социального порядка. Напротив, конформизм ученого, желание “соответствовать ожиданиям” влечет за собой так называемое “лукавство в науке”, т. е. попытки подогнать полученные результаты под теоретические ожидания научного сообщества»[75].
Как видим, недостаток субъективности К. С. Пигров характеризует как конформизм. Избыток субъективности названный автор связывает с безумием, антиобщественностью и дилетантизмом[76]. На наш взгляд, подход К. С. Пигрова применим к более широкому кругу проблем, чем тот, который является предметом нашего интереса. По существу, названный автор рассматривает не столько проблему свободы творчества в науке, сколько общую проблему творческой свободы. Выход за пределы норм мышления (безумие), как и социальных норм (антиобщественность), происходит тогда, когда свобода творчества отделяется от ответственности, когда у субъекта деятельности происходит дезориентация, сбивается стрелка морального компаса, указывающая на полюс добра. Этот сюжет исключительно интересен, однако в рамках данной работы мы не имеем возможности его рассматривать.
Конечно, ученый, будучи «в миру» простым смертным, имеет и тот уровень субъективности, который положен ему в качестве такового. «Когда не требует поэта к священной битве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен». Ученый может интересоваться футболом, а может считать его недостойной внимания забавой. Его право – увлекаться рыбалкой или проявлять к этому увлечению полное равнодушие. Никто не может потребовать от него, чтобы он любил стихи Маяковского, а поэзию Евтушенко считал плохо зарифмованной политической пропагандой. Бытовые предпочтения, эстетические вкусы, индивидуальные пристрастия – это все такие вещи, которые находятся вне профессиональной деятельности ученого, и здесь общество накладывает на него не больше ограничений, чем на человека любой другой профессии. Но всякая профессиональная деятельность предъявляет к человеку специфические требования, т. е. ставит пределы его субъективности. Так, врач не вправе действовать против интересов больного. Военнослужащий обязан беспрекословно повиноваться приказу командира. Профессия политика несовместима с простодушием, а работа юриста – с доверчивостью. Каковы же те «красные флажки», за которые нельзя переступать ученому? Или переформулируем вопрос: что должен совершить ученый, чтобы утратить право им быть?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уяснить, в чем состоит сущность науки как формы духовного освоения действительности. Без такого представления, без генеральной идеи, направляющей нашу мысль, невозможно разобраться в том многообразии феноменов, которые, обладая теми или иными чертами сходства с наукой, к ней в действительности не принадлежат.
Традиционно природу науки характеризуют путем выделения существенных специфических черт: объективности, предметности, системности, доказательности и некоторых других. Мы не намерены этот подход оспаривать, более того, вполне с ним солидарны. И в учебном курсе философии науки он не только удобен, но и, пожалуй, единственно возможен, ибо для понимания сложных материй нужно знать азбучные истины. Однако для целей настоящего исследования он не очень подходит, поскольку не дает возможности увидеть то, что в интересующем нас аспекте является главным, определяющим: не позволяет выделить свойство, утрата которого автоматически выводит духовную деятельность за пределы науки. Поэтому мы применим нестандартный ход рассуждений: попытаемся ответить на вопрос о том, какое (содержательно, а не формально) общее свойство науке заведомо НЕ присуще. Такая постановка вопроса неявно подразумевает наличие некоторого существенного общего признака, который имеется у всех других видов духовной деятельности, внешних по отношению к науке. Остается этот признак выявить.
Сначала рассмотрим исходный тип мировоззрения, первичную форму духовного освоения действительности, впрочем, вовсе не утратившую актуальность и в наши дни, – мифологию. Мифологическое мышление имеет своей целью упорядочить мир, сделать его близким человеку и понятным ему. Почему у бурундука на спине три полоски? Ответ мифа прост и ясен: в некое время о́но (сакральное время) некий медведь провел лапой по спине некоего бурундука. С тех пор эти полоски и сохраняются. Почему роды причиняют женщине боль? Библия дает на этот вопрос ответ ясный и недвусмысленный: так наказана праматерь Ева, склонившая Адама к нарушению божественного запрета на поедание плодов с древа познания добра и зла. Такова же природа политических мифов. Возьмем в качестве примера вполне современный миф – миф русофобии. Он призван внушить мысль об изначально порочной, злодейской природе России. Наша страна назначена на роль империи зла, цитадели тоталитаризма и перманентного носителя агрессивных устремлений. Крайне полезная идеологема для определенных политических кругов.
Религия. Ей тоже свойственна этиологическая функция, но не в качестве основной. Главное предназначение религии – облегчать человеческие страдания, примирять людей с несовершенствами мира, дарить надежду на спасение души. Благодаря этому религия защищена от успехов просвещения мощной броней. Невзирая на вопиющую нелогичность, религиозное мировоззрение продолжает сохранять влияние на широчайшие народные массы. Не изменяя мир, религия меняет отношение к нему. И для владельцев заводов, газет, пароходов религия приносит несомненную и весьма значительную пользу.
Искусство. Цель искусства – преобразить внутренний мир человека, заставить его облиться слезами над вымыслом, обогатить человека опытом жизни других людей. Для искусства, в том числе и реалистического, вопрос о том, каков мир в действительности, имеет второстепенное значение. Внешний мир для искусства – лишь материал, из которого творческим воображением художника создаются образы, воздействующие на человеческую душу. Мы приобщаемся к искусству не для того, чтобы узнать, каким законам подчиняются физические или химические процессы, а с целью погружения в иную человеческую реальность, ради обогащения своего личного опыта. В этом, несомненно, огромная польза искусства, и оно существует именно для того, чтобы приносить такую пользу.
Мифология, искусство, религия – эмоционально-образные формы духовного отражения действительности. От них отлично житейски-обыденное познание, которое, подобно науке, оперирует не эмоционально окрашенными образами, а абстракциями. (Конечно, в случае обыденного познания речь идет об абстракциях невысокого уровня. На этом тривиальном обстоятельстве мы не видим необходимости останавливаться.) Однако обыденное познание, как и эмоционально-образные формы духовного освоения действительности, ориентировано на пользу. Понимание объективных свойств предметов внешнего мира не является конечной целью обыденного познания, такое понимание требуется лишь для того, чтобы получить какой-нибудь практический результат. Изготовить порох, например, или вывести новую породу скота. Таким образом, все формы духовного освоения действительности за пределами науки устремлены к пользе.
И в том нет ничего удивительного. Было бы удивительно, если бы дело обстояло иначе. Как совершенно справедливо писал К. Маркс,
«общественная жизнь является по существу практической»[77].
Это означает, в частности, что общество вправе требовать от своих членов, чтобы они приносили пользу. Иная жизненная стратегия воспринимается общественным сознанием как неоправданная трата ресурсов, а то и как паразитирование.
И лишь одна наука устроена принципиально иначе.
Исторически наука возникла в античной Греции как интеллектуальная игра, смысл которой – не в практической полезности, а в том, что выше всякой пользы, – в истине, точнее, в ее достижении. Египетские жрецы сумели выведать некоторые тайны природы, но не для того, чтобы наслаждаться созерцанием добытой истины, а с вполне практическими целями – определять срок разлива Нила, строить храмы, мумифицировать трупы и т. п. А. П. Огурцов, определяя тот тип знания, который был создан великими древними цивилизациями, вполне правомерно относил их к сакрально-когнитивному комплексу[78], который образует преднауку, а не науку собственно. Усвоив интеллектуальные достижения своих предшественников, обеспеченные представители античной аристократии отринули утилитарную, прагматическую ориентацию добытых позитивных знаний, освободили их от какой-либо привязки к пользе, ибо видели назначение своей деятельности в том, чтобы возвыситься над плебсом, погруженным в повседневную заботу о хлебе насущном. Нужны были какие-то чрезвычайные обстоятельства (вроде осады Сиракуз в 214–212 гг. до н. э.), чтобы античные мыслители соблаговолили сойти с небесных высот теории на грешную землю практики.
Итак, наука – единственная форма духовного освоения действительности, ориентированная неутилитарно. Эта идея позволяет нам найти тот общий признак, который разграничивает науку и то, что ею не является. Отсюда следует такой вывод: если стрелка компаса, по которому ученый прокладывает курс своего исследования, отклоняется от направления «истина» в сторону направления «польза», то (рано или поздно) происходит выход за пределы науки.
В указанной связи выскажем три замечания.
Первое. Разумеется, в человеческой деятельности, как и в природе, нет резких граней. Существуют отклонения незначительные, не меняющие существа процесса. Но отсутствие резких граней не означает, что граней нет вообще. Многосложность действительности – не повод для капитулянтских выводов в духе идеи полипарадигмального подхода. Применительно к социологии этот подход подвергнут справедливой критике А. Н. Малинкиным[79]. Мы вполне солидарны с характеристикой указанного подхода как варианта эклектики[80]. Полагаем, что вывод А. Н. Малинкина правомерен по отношению не только к социологии, но и к любой дисциплине, в том числе и к философии науки. Чтобы не увязнуть в трясине эклектики, нужно иметь общую идею, которая станет для нас надежным ориентиром на пути познания.
Второе. Мы не можем согласиться с мыслью о том, что при обсуждении вопроса о демаркации науки и не-науки проблему истины необходимо вынести за скобки обсуждения. Такую мысль развивает в своей (в целом интересной и содержательной) статье А. Г. Сергеев[81]. Резонно указав на сложность определения понятия истины, он пришел к заключению, что
«<…> лучше не называть научные представления истинами. Вместо этого правильнее пользоваться понятием “научный мейнстрим”, означающим представления, которые на сегодняшний день являются наилучшими по мнению большинства специалистов»[82].
Но сложность определения истины – еще не повод для того, чтобы впадать в гносеологический пессимизм. А. Г. Сергеев не учитывает то кардинальное обстоятельство, что истина – краеугольный камень, на котором стоит грандиозное здание науки. Если его вынуть, оно завалится, разрушится, превратится в руины.
Третье. Противопоставление пользы и истины в современную эпоху кажется, мягко говоря, несколько странным. Общеизвестно, что наука принесла человечеству колоссальную пользу. Гигантский материальный и культурный прогресс по сравнению с прежними веками налицо, и невозможно оспорить тот факт, что он во многом является результатом развития науки. Наука открывает нам законы объективной действительности, а как ими пользуются люди – это уже другой вопрос. К сожалению, далеко не всегда эти цели созидательны и гуманны.
Действительное соотношение истины и пользы затемняется тем обстоятельством, что в настоящее время направление научных исследований определяется исходя из практических потребностей. Давно прошли те времена, когда наука была занятием лично свободных людей, не знающих материальной нужды и располагающих достаточным досугом, чтобы удовлетворять свою любознательность. В наши дни наука – важнейшая сфера общественной жизни, один из наиболее ответственных и сложных объектов государственного регулирования. Вкладывая немалые средства в науку, государство вправе ожидать от нее отдачи. Государство не может приказать науке совершить то или иное открытие, но оно в состоянии создать для ученых необходимые условия для движения в определенном направлении. Трудно сказать, как долог был бы путь от открытия цепной реакции деления атомного ядра до создания атомной бомбы, если бы процесс не взяло в свои руки государство. И в США, и в Советском Союзе события развивались по одному сценарию: постановка соответствующей задачи перед научным сообществом, создание ученым максимально благоприятных условий для творчества, концентрация гигантских финансовых, организационных и технологических ресурсов на выбранном направлении. В СССР, кроме того, был использован и такой специфический инструмент государства, как разведка.
В рассматриваемом случае мы видим классический пример расхождения сущности и видимости. По видимости наука – социальный институт, назначение которого – приносить обществу пользу. По сути – форма общественного сознания, ориентированная не на извлечение пользы, а на достижение истины.
На примере атомного проекта высвечивается еще одна грань проблемы. Как известно, из всех изотопов урана в самоподдерживающуюся цепную реакцию деления атомного ядра способен вступать лишь уран-235. В природе он встречается только в смеси с другим изотопом – ураном-238. Причем уран-235 в природе содержится лишь в количестве 0,7 % от общей массы урана. (Существует еще природный изотоп уран-234, его доля в общей массе урана составляет всего лишь 0,0055 %.) Необходимо было разработать метод разделения изотопов урана, что потребовало сложных теоретических и эмпирических исследований. Их цель вытекала не из внутренней логики развертывания науки, а из практической необходимости. Это был именно тот случай, когда цель диктуется внешним императивом. В прикладной науке дело всегда обстоит именно таким образом.
Казалось бы, факт существования прикладных разработок опрокидывает тезис о принципиальной ориентации науки на истину. Однако такой вывод был бы поспешным и оттого поверхностным. В действительности ситуация не так проста: в прикладных исследованиях польза выступает не в качестве цели, а в роли фактора, детерминирующего направление научного поиска. Перед ученым простирается океан непознанного. В принципе он волен исследовать ту частичку океана, которая по какой-то причине привлекла его внимание, вызвала познавательный интерес. Но внешняя инстанция (государство, корпорация или еще какая-нибудь) ставит перед ним задачу: изучить именно этот объект, а не иной, познать законы такого-то процесса, а не другого. В случае прикладной науки сущность научного исследования не меняется, меняется инстанция, задающая мотивацию. На смену внутреннему мотиву приходит мотив, диктуемый извне. Это можно трактовать как ограничение свободы, а можно и как ее мобилизацию в определенном направлении. Конечно, такая ситуация способна породить конфликты внутри личности ученого, но это вопрос, не имеющий отношения к сущности науки как формы духовного освоения действительности.
К сущности науки имеет отношение другой вопрос – о праве ученого на ошибку. Как явствует из всего нашего изложения, мы трактуем субъективность ученого как позитивное качество, естественное условие успеха. Но в силу диалектики реальной жизни любое достоинство заключает в себе возможность изъяна. Субъективность может привести к научному открытию, а может и породить заблуждения. Экстраординарная сложность процесса познания приводит порой ученого к ошибкам, к ложным воззрениям. Некоторые типичные ошибки ученых, обусловленные их субъективностью, рассмотрены, например, В. П. Поповым и И. В. Крайнюченко[83]. Назовем часть из этих ошибок:
«чрезмерное расширение моделей, “маломерность”, игнорирование влияния окружающей среды и экспериментатора; чрезмерное расширение зоны действия простых моделей, линейная экстраполяция каких-либо закономерностей в прошлое или будущее; использование некорректных аналогий; слепое доверие парадигмам, аксиомам, авторитетам, древним мыслителям, мнению большинства»[84].
Указанные ошибки досадны, но не фатальны. Они существуют в рамках научного познания как определенного вида деятельности. Само по себе совершение таких ошибок не выводит исследователя за пределы науки. В ходе критики или самокритики они преодолеваются, и прогресс науки продолжается. Добросовестные заблуждения в научном познании – обычное дело. Они происходят в рамках той субъективности, что положена ученому как профессионалу, цель деятельности которого – постижение истины. Иначе говоря, заблуждения в науке не связаны с превышением меры субъективности, естественной для ученого. Если же такое превышение происходит, интеллектуальная деятельность ученого приобретает иное качество: из творчества в рамках науки она превращается в деятельность за этими рамками.
Каковы причины такого нарушения меры? Конечно, наиболее очевидная, лежащая на поверхности причина – непонимание ученым природы науки, недомыслие, проще говоря. Ученый вполне искренне может считать, что задача науки – формирование каких-либо позитивных идеалов в обществе. Патриотизма, например. В советские времена это было особенно заметно на примере историков КПСС. Определенная их часть была убеждена в том, что они – идеологические бойцы партии, призванные воспитывать народ в духе преданности идеалам коммунизма. В нашу задачу не входит оценка этих идеалов. Единственное, что мы в данном случае хотели бы заявить: не следует путать идеологию и науку. Однако во все времена была тьма охотников смешивать два этих вида деятельности[85].
Наше рассуждение не имеет своей целью покуситься на честь идеологии. Идеология – важнейшая область деятельности, она выступает в роли идейной опоры классов и социальных групп. Идеология определяет стратегию их деятельности, цели, методы и пути их достижения. Далеко не каждый мыслитель в состоянии справиться с задачей выработать идеологическую доктрину, для этого требуются неординарные интеллектуальные качества. Однако у идеологии иная цель, чем у науки. Не следует ставить в вину идеологу его фактический статус. Но заслуживает порицания тот, кто идеологические построения путает (искренне ошибаясь или намеренно вводя в заблуждение – неважно) с научным исследованием.
В тех областях науки, которые далеки от социальных интересов, не существует (в обычных условиях) соблазна подменить науку идеологией. Правда, и в естествознании имеет место вторичная ангажированность, связанная с соперничеством научных школ, борьбой амбиций и т. п. Этот момент превосходно отражен в классическом труде Т. Куна «Структура научных революций», что избавляет нас от необходимости дальнейших пояснений. Однако в естествознании ангажированность носит поверхностный, несущественный характер; и влияние, которое она оказывает на научные исследования, выражено слабо.
Иное дело – социально-гуманитарные науки. Обществовед изучает реалии человеческого бытия, социальную действительность, в которую он сам погружен. Выводы, которые он делает, прямо и непосредственно затрагивают социально-классовые интересы. И не имеет значения, делается это сознательно или ненамеренно. Любая социально-гуманитарная наука имманентно ангажирована, и иначе просто не может быть. Этот вопрос нами рассмотрен, и мы не видим необходимости к нему возвращаться. Конечно, можно погрузиться в описание фактов и фактиков, заниматься их классификацией и систематизацией, чтобы избежать общих выводов, однако это не та позиция, которая соответствует духу науки. Задача науки – отыскание законов в хаосе случайностей, а не коллекционирование фактов. Ангажированность обществоведения не лишает исследователя возможности проявлять свою субъективность в пределах науки. Вопрос заключается в том, насколько строго он следует научной методологии, которая ориентирует ученого на поиск истины. На практике это означает, насколько точно и скрупулезно выполняются им те исследовательские процедуры, которые выработаны веками прогресса научного познания. Сбор фактов, их первичная интерпретация, анализ тенденций, выдвижение гипотез, сопоставление разных подходов, распутывание клубка причинно-следственных связей – все эти элементы входят в комплекс, который можно обозначить как ремесло ученого. И конечно же, в это ремесло входит критика альтернативных подходов, подразумевающая готовность дать ответ на критику в свой адрес. Ученый не может не критиковать других ученых, ибо только так можно снять с истины покров кажимости. Ученый не может не отвечать на критику, ибо в противном случае он оказывается вне круга людей, объединенных стремлением к познанию истины. Избегание критики, уход от нее, может быть, и свидетельствует о житейской осмотрительности человека, но не говорит в его пользу как ученого. Однако ничуть не лучше и противоположная крайность – агрессивная реакция на критику, переход на личности. Неадекватное отношение к научной критике – верный признак того, что человек не принадлежит к числу ученых. По сути он – обыватель, для которого наука является средством приобретения материальных благ. И дело не меняется от того, есть у него ученая степень или нет.
Другой вариант перехода за границы положенной ученому меры субъективности – псевдонаука. Она формируется не только на почве естественных наук, но и на почве обществознания. Подробно феномен псевдонауки будет рассмотрен далее[86], однако логика изложения требует от нас хотя бы эскизного определения данного явления. Для его обозначения используются ряд синонимов: лженаука, квазинаука, паранаука, поп-наука[87]. Не вдаваясь в анализ семантической стороны вопроса, сформулируем собственную точку зрения. Как уже было сказано ранее[88], мы предпочитаем использовать термин «псевдонаука», поскольку он по сравнению с другими синонимами эмоционально нагружен в минимальной степени. По объему он совпадает с термином «лженаука». А. Г. Сергеев дал такого рода деятельности блестящее определение: «паразитирование на мегабренде науки»[89]. Издаваемый с 2006 г. Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН бюллетень «В защиту науки» содержит богатый материал о деятельности псевдоученых. Особенно обильно чертополох псевдонауки произрастает на ниве целительства, ибо здоровье – это такая ценность, которая нужна всем. Энергоинформационная терапия, биорезонансная терапия, гомеопатия, лечение методом «обратной волны»[90] и многие иные шарлатанские методики лечения используются для того, чтобы очистить карманы доверчивых пациентов от излишка дензнаков.
Но не только обогащение манит слабые души. Есть и иное паразитическое использование бренда науки – удовлетворение тщеславия. В современной России наблюдается постыдное явление: многие люди, занимающие видное общественное положение, – политики, чиновники, бизнесмены, обладатели внушительных состояний – защищают кандидатские и даже докторские диссертации. Но всех превзошел бывший губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев. Его научная карьера поражает воображение: в 48 лет он еще не имел даже кандидатской степени, а в 60 стал полным академиком. И это без отрыва от основной деятельности, отнимающей массу времени и требующей предельного напряжения сил! Похоже, в настоящее время ученая степень воспринимается значительной частью политической элиты нашей страны как обязательное приложение к должности, как непременный аксессуар вроде часов ценой во много тысяч долларов. Месье Журден наивно полагал, что стоит ему научиться отличать прозу от стихов, как он тотчас же будет принят в круг французской аристократии. Отечественные мещане во власти проявляют такое же простодушие, когда думают, что кандидатский или докторский диплом автоматически открывает им путь в круг настоящих ученых.
Псевдонаука многолика. Она может паразитировать как на естественных науках, так и на обществознании. Для обозначения последней с легкой руки Д. М. Володихина принято использовать термин фолк-хистори[91]. Пожалуй, не менее удачен предложенный А. В. Павловым термин «аркаимистика»[92]. Трудно удержаться от желания процитировать следующее его высказывание:
«<…> Гуманитарно-научное знание подменяется сегодня в массовом сознании суеминутной политической идеологией и “исследованиями Аркаима как колыбели русского народа”, разработкой “новой хронологии”, “влиянием цивилизации с планеты Нибиру на древних шумеров”, “инопланетным происхождением египетских пирамид”, сочинениями типа “Тайной доктрины”, “Розы мира”, “Садов Мории” или “Суммы антропологии”, конспирологическими “учениями” о тайном масонском правительстве, бильдельбергском клубе и т. д.»[93].
Особенно выразителен окказионализм «суеминутный», созданный путем контаминации слов «суета» и «сиюминутный».
Как уже нами отмечено[94], наряду с псевдонаукой существует как бы наука. Здесь мы сталкиваемся с иным, по сравнению с псевдонаукой, превышением меры «естественной» субъективности ученого. Научная деятельность, как всякая человеческая деятельность, протекает не в социальном вакууме, а в конкретной профессиональной и макросоциальной среде. От ученого требуется демонстрировать определенные достижения: публикации, патенты, ссылки на свои работы, защищенных аспирантов и т. п. Работодатель судит о достоинствах ученого исходя из внешних критериев, и это обстоятельство несомненно влияет на сознание ученого. Реальный путь к достижениям в науке извилист, труден и тернист. И было бы ханжеством осуждать ученого за то, что он, например, торопится опубликовать результаты исследований, не доведя их проверки до конца, убедив себя в том, что плод достаточно зрел. Мотив такого поведения понятен и объясним: нежелание уступать приоритет. Но такой путь может привести к решению публиковать сырые, не прошедшие даже предварительной проверки результаты или вообще их фальсифицировать. А это уже нарушение меры «нормальной» субъективности ученого, перерождение науки в как бы науку. Отсюда не так уж далеко до откровенной халтуры, фабрикации наукоподобных сочинений, представляющих собой смесь банальностей и нелепостей, фабрикации диссертаций методом творческого плагиата и тому подобного безобразия.
И псевдоученые, и как бы ученые стремятся не к истине, но к пользе. (Причем не для общества, а для себя любимого.) Не будем останавливаться на «научном творчестве» депутатов, чиновников, нуворишей и прочих представителей властвующей элиты. Тут комментарии не требуются. Но какую пользу наукоподобные изыскания приносят тем, кто к этой элите не принадлежит? В определенных случаях – прямую коммерческую выгоду. Достаточно сравнить тиражи книг настоящих историков и «новых хроноложцев». В других польза выражается в умножении списка публикаций, получении ученого звания, обретении более высокого социального статуса и т. п. Общее правило состоит в том, что имитаторы науки продают не рукопись, а вдохновение.
* * *
До сих пор мы рассматривали науку, так сказать, изнутри, как сферу деятельности, направляемую определенным императивом. Необходимо, в связи с его острой актуальностью, коснуться еще одного аспекта проблемы. В настоящее время в сферу науки вовлечены миллионы людей, и уже в силу одного этого факта государство не может оставить ее без внимания. Оно должно брать на себя как создание общих условий, необходимых как для функционирования и развития науки, так и управления ею. Этот аспект проблемы основательно проанализирован Л. В. Шиповаловой[95]. Чиновник, коему поручено руководить наукой, имеет иной менталитет, чем ученый. Кроме того, чиновник, несущий ответственность за расходование государственных средств, не может не озаботиться проблемой эффективности научных исследований. Но как оценить (а лучше измерить) эту эффективность со стороны? Л. В. Шиповалова выдвигает ряд идей на этот счет: формирование отношения к науке как к
«свободной деятельности, к событию испытания сил с непредсказуемым итогом, предполагающему многообразие условий возможности развития, а также ответственность за результаты»[96];
к «незавершенному проекту, а не только как к объективированному, отчужденному и в силу этого управляемому и полностью контролируемому знанию»[97]; к «автономной деятельности»[98], что имеет следствием признание необходимости «следования за учеными и инженерами в управлении наукой»[99].
А это последнее
«предполагает предоставление права самим научным сообществам определять собственные критерии оценки эффективности научных исследований»[100] (явная описка исправлена. – Р. Л.).
Приходится с сожалением констатировать, что реально существующий в современной России государственный аппарат не следует и, похоже, не собирается следовать данным разумным рекомендациям. Это наглядно видно по реформе РАН. Итогом реформы стало фактическое отстранение научного сообщества как от принятия стратегических решений, так и (в значительной мере) от регулирования текущей деятельности. Фетиш эффективности побуждает чиновников, управляющих наукой, игнорировать субъективность ученых, действовать без учета специфики науки.
Итак, мы рассмотрели субъективность ученого в двух ракурсах: изнутри науки как определенной формы духовного освоения действительности и извне науки как социального института, функционирование и развитие которого регулируется государством. В своем анализе мы исходим из представления, согласно которому деятельность ученого как субъекта научного познания управляется и направляется неутилитарными устремлениями. В пределах этого императива ученый имеет полную свободу выбора методологических ориентиров. Подмена ориентации на истину стремлением к пользе (трактуемой достаточно широко) ведет к отклонению науки от ее подлинного пути в сторону иных форм духовной деятельности. Недостаток субъективности, боязнь или нежелание высказывать позицию, не согласную с мнением большинства, имеет своим следствием конформизм, творческое бессилие. Переориентация ученого на получение материальных или символических бонусов неминуемо заводит его в болото псевдонауки или как бы науки. В социально-гуманитарных исследованиях субъективность ученого неотделима от его идейной ангажированности. Намеренное или неосознанное сокрытие этой ангажированности означает перерождение науки, превращение в идеологию.
Недоверие чиновников к ученым, к их субъективности, нежелание с нею считаться – почва, на которой процветает управленческий произвол. Научная общественность должна сказать свое веское слово, чтобы оградить науку от некомпетентного вмешательства со стороны лиц, одержимых административным восторгом.
73
См.: Егоров Г. Объективность и научные объекты в современной эпистемологии // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2017. № 12 (28). Р. 58–64; Иванов С. Ю. О диалектике субъективного и объективного в научном познании // Альманах современной науки и образования. 2015. № 3 (3). С. 37–39; Тимофеев В. Л., Клевцова Р. С. О методологии научного исследования в классической науке // Вестник ИжГУ им. М. Т. Калашникова. 2017. Т. 20, № 3. С. 153–159; Черникова И. В. О диалектике субъективного и объективного в научном познании // Известия Том. политехн. ун-та. 2010. Т. 316, № 6. С. 82–87.
74
См.: Пигров К. С. Научные инновации в контексте аналитики субъективности (аспект негативного) // Мысль. Санкт-Петербургское философское общество. 2008. Вып. 7. С. 148–152.
75
Там же. С. 149.
76
Пигров К. С. Указ. соч. С. 150.
77
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 3.
78
См.: Огурцов А. П. Фундаментальный труд по индийской философии // Вопросы философии. 2010. № 6. С. 167–174; Его же. Дисциплинарная структура науки, ее генезис и обоснование. М.: Наука, 1988. 256 с.
79
См.: Малинкин А. Н. Полипарадигмальный подход: мнимый выход из мнимой дилеммы // Логос. 2005. № 2 (47). С. 101–116.
80
См.: Там же. С. 103.
81
См.: Сергеев А. Г. Проблема практической демаркации науки и лженауки на российском научном поле. URL: http://klnran.ru/2015/10/demarcation/
82
Там же. Эта позиция будет нами далее специально разобрана на с. 114–131 настоящей книги.
83
См.: Попов В. П., Крайнюченко И. В. Субъективность и типичные ошибки ученых // Вестник Пятигор. гос. лингв. ун-та. 2008. № 3. С. 366–368.
84
Там же. С. 368.
85
Вопрос о соотношении идеологии и науки рассмотрен нами на с. 309–328 настоящей книги.
86
См. с. 112–118, 131–145.
87
См.: Казаков М. А. Псевдонаука как превращенная форма научного знания: теоретический анализ // Философия науки и техники. 2016. Т. 21. С. 130–148; Кезин В. Е. Идеалы научности и паранаука // Научные и вненаучные формы мышления. М.: ИФ РАН, 1996. С. 153–168; Конопкин А. М. Псевдонаука как когнитивный феномен в контексте современной философии науки // Философия науки. 2014. № 1 (60). С. 3–15; Мартишина Н. И. Когнитивные основания паранауки. Омск: Изд-во ОмГУ, 1996. 187 с.; Ее же. Логические маркеры околонаучного знания // Идеи и идеалы. 2013. № 4 (18). Т. 1. С. 62–71; Сердюков Ю. М. Альтернатива паранауке. М.: Academia, 2005. 308 с.; Его же. Критический анализ паранауки. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. 130 с.
88
См. с. 13–14.
89
Сергеев А. Г. Проблема практической демаркации науки и лженауки на российском научном поле. URL: //http://klnran.ru/2015/10/demarcation/
90
Шевелев Г. Г. Институт перспективной медицины – или беспредельного обмана? // Бюллетень «В защиту науки». 2008. № 4. С. 154–160.
91
См.: Володихин Д. М. Феномен Фольк-хистори // Скепсис. Научно-просветительский журнал. URL: https://scepsis.net/library/id_148.html
92
См.: Павлов А. В. Специфика предметности в гуманитарном познании // Социум и власть. 2016. № 4 (60). C. 120.
93
Там же. С. 121.
94
См. с. 13–14.
95
См.: Шиповалова Л. В. Эффективность науки как философская проблема // Мысль. Санкт-Петербургское философское общество. 2015. Вып. 19. С. 7–18.
96
Там же. С. 16.
97
Там же.
98
Там же.
99
Там же.
100
Там же.