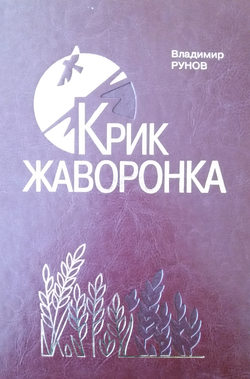Читать книгу Крик жаворонка. Жизнь и судьба Ивана Трубилина - Рунов Владимир Викторович - Страница 3
Вместо предисловия
ОглавлениеЯ думаю, на свете, окромя земледелия, нет другой формы продуктивной человеческой деятельности, где бы столь широко использовались народные приметы. В этом древнейшем промысле человек всегда пытался наладить диалог с природой (бил в бубен, сжигал чучело, ходил крестным ходом, стоял на коленях, резал жертвенный скот), часто без жалости опрокидывавшей усилия, направленные на добывание того, без чего в земных пространствах жизни вообще нет – пропитания.
В который раз повторю: вся история человечества – это борьба за два основополагающих фактора – еду и тепло. Так было, так есть и так, скорее всего, и будет. Хотя иногда набирались смелости и дерзили: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача!»
Так громогласно, на всю Россию из провинциального Козлова (ныне Мичуринска) заявил однажды народный естествоиспытатель, седобородый Иван Васильевич Мичурин, за что еще при жизни канонизирован и широко обласкан советской властью, которая часто в добывании питания как раз на чудесные превращения и рассчитывала. Ветвистая пшеница, например, которой в природе не было, да и быть не могло.
Тем не менее даже Мичурин, в сущности, один из первых, кто нащупывал пока лишь «тропки» в малоизведанной генетике, не гнушался ходить в православный храм и ставить свечку, например, в праздник Успения Богородицы, когда завершался сбор урожая и готовились к следующему. Тогда говорили: «Успенье провожай, осень встречай!» и звонили, сотрясая окрестности, во все церковные колокола. Иногда помогало…
Помнится, в шестидесятые годы прошлого столетия на экранах страны с успехом шел примечательный фильм «Свадьба с приданым». Этакая полукомедия с простеньким сюжетом о послевоенной деревне, где гармоничная киножизнь (в смысле под веселую гармошку) налаживалась на фоне довольно острых дискуссий по поводу отношения к методам повышения урожайности. В ту пору таким довольно оригинальным способом в народное сознание внедрялись знания о совокупности систем агрономических мероприятий, направленных на повышение плодородия земли, открытых еще великим почвоведом Василием Робертовичем Вильямсом.
Смешно сказать, но оказалось и это можно перевести на язык оперетты, где главная героиня, лучший бригадир передового колхоза (которую играла очаровательно-энергичная Вера Васильева), запальчиво упрекала своего жениха (тоже бригадира, но из колхоза похуже), что те, дескать, «который год у Черного бора сеют ячмень по ячменю». Можете представить, до разрушения брачных намерений дело дошло!
Оказывается, жених, вчерашний фронтовик-орденоносец, красавец писаный, считал, что в коллективном хозяйстве не столько травопольная система важна, сколько армейская дисциплина, и вместо научной агрономии отдавал предпочтение проверенным народным приметам.
Любопытно, но по этому поводу у него состоялся примечательный диалог с дедом Авдеем, этаким местным авторитетным вещуном, о сроках сева яровых. Сидя на мешках с семенным зерном на краю весеннего поля, бригадир (его играл молодой актер Московского театра сатиры Владимир Ушаков) спрашивает:
– А ты как, Авдей Спиридонович, мерекаешь – пора сеять?
Дед наморщил лоб и говорит парнишке-помощнику:
– А ну-ка, Миша, сгоняй, колупни землю. Только снизу, поглубже…
Парень пулей на пашню. Дед приложил к лысине ком, долго сопел, задумчиво пружиня бороду, а потом вынес окончательный вердикт:
– Нет! Рано!.. Холодна землица… Холодна…
Ученые люди, глядя ту кинокартину, улыбались наивной трактовке агрономических технологий, а между тем именно благодаря «Свадьбе с приданым» вся страна и узнала, в чем состоит плодотворность травопольной системы и как пагубно сеять ячмень по ячменю. Даже я, легкомысленный ученик седьмого класса, запомнил это на всю жизнь…
Поэтому, несмотря на стремительное, но, увы, нередко противоречивое развитие советской сельскохозяйственной науки, народные приметы мало кто игнорировал, и по этому поводу российское крестьянство издревле сложило свой собственный фольклорный календарь, где основной совет укладывался всего в несколько слов: «Жаворонок запел – пора выходить на пашню».
Однако это не мешало пониманию, что далеко не все зависело от молитвы. Поэтому в широком ходу были присказки: «Какое зерно, таков и сноп», «доброе семя – добрый и всход». Или еще точнее: «Мечи овес в грязь, будешь князь», «в пашне огрехи – не кафтане прорехи» и так далее.
Крестьянин (не только, кстати, русский) во веки веков был человеком крайне осторожным и по-хорошему консервативным: «Взошли хлеба – не дивись, налились хлеба – не хвались, хлеб на току – про урожай толкуй»; «хвали урожай, когда в сусек засыпаешь». И другие подобного рода вариации мудрых изречений, наработанные вековым опытом.
На Кубани, надо сказать, все эти присказки и прибаутки были в большущем ходу, хотя более немногословного человека, чем великий селекционер колосовых Павел Пантелеймонович Лукьяненко, словно по божьему проведению родившийся и умерший на пшеничном поле, трудно было даже представить.
Мы сегодня подзабыли это имя, а между тем именно Лукьяненко в самый трудный период выхода из послевоенной разрухи, когда даже в детских садах двухсотграммовую краюху делили на четыре рта, создал сорт пшеницы, названной по-научному безыскусно – «Безостая-1», хотя надо бы наименовать «Спасительницей». В условиях острой нехватки удобрений, средств защиты и прочих гарантов высоких урожаев она стойко выдерживала природные напасти, включая регулярно повторяющуюся засуху, и давала урожаи за 50, а при погодных удачах, даже больше центнеров с гектара.
Основной герой этого повествования Иван Трубилин лет в восемнадцать впервые увидел фильм «Кубанские казаки», и как большинство его сверстников пришел в полный восторг от сказочной жизни, что гудела могучими комбайновыми уступами где-то недалече, от людей работящих и песен звонких, что сразу запела вся страна.
Так где же она, эта яркая ярмарочная сказка, переполненная довольствием и счастьем мирной жизни? Да совсем рядом, почти в соседнем районе… Почему же тогда в своей станице все далеко не так празднично и совсем скудно, хотя ведь тоже и советская, и казачья?
Но уже в ту пору юноша понимал, что этой сказке еще предстояло стать былью. И не только понимал, был уверен, что так и будет. Поэтому и выбрал для дальнейшей жизни гул тракторных моторов, столь призывно зовущих в светлое будущее. Как-то много-много позже, будучи руководителем крупнейшего в стране Кубанского аграрного университета, спросил у студентов образца восьмидесятых годов:
– А на сколько килограммов, по-вашему, тянет пуд?
В аудитории повисла недоуменная тишина. Иван Тимофеевич понимающе рассмеялся:
– Пуд – это старинная русская мера весов. О ее первом упоминании можно узнать из уставной грамоты новгородского князя Всеволода Мстиславовича, данной общине купцов, в самом начале второго тысячелетия торговавших воском и медом. Княжеским указом им предписывалось отдавать святому великому Иоану «от своего великоимения на строение церкви и в векы вес вощаной, а в Торжку пуд вощаной». Пуд тот в соответствии с «Положением о мерах и весах 1899 года» попозже был приравнен к входящей в обиход международной системе измерения массы в количестве чуть более 16 килограммов…
Иван Тимофеевич любил оперировать категориями из прошлого, особенно связанными с впечатлениями ранней молодости:
– Если вы смотрели фильм «Кубанские казаки», то могли сделать вывод, что в 1949 году в Курганинском районе (там снималось это кино) получили рекордный урожай пшеницы – 140 пудов с гектара. Давайте переведем это в привычные нам измерения, и мы получим всего лишь 23 центнера. А я ведь помню, как Кубань еще боролась за стопудовые урожаи, а это всего-то 16 центнеров с того же гектара…
Трубилин, будучи руководителем крупнейшего сельскохозяйственного вуза страны, рассказывал юным слушателям, что в те пуды входили и колоски, что станичные школьники (в том числе и он) собирали в бережно пошитые торбочки с уже обмолоченных полей, как тщательно сгребали остатки соломы и везли ее подводами к животноводческим фермам. Ему, человеку из поколения, родившемуся практически в самое голодное время и сразу попавшему на все житейские лишения, кусок хлеба цены не имел. Часто этому ломтю стоимостью становилась сама жизнь.
Прорыв из хлебной, а значит и всеобщей продовольственной скудности, в которую была погружена послевоенная страна, совершил Павел Пантелеймонович Лукьяненко, великий селекционер и не менее великий труженик. Его «Безостая», при нехватках стимулирующих возможностей (удобрений, средств защиты, влаги), подняла урожайность важнейшей зерновой культуры практически вдвое. Однако за что в 1947–1948 годах удостаивали высоких орденов, спустя десяток лет давали выговоры по партийной линии.
Лукьяненко еще при жизни стали почтительно величать «хлебным батькой». Он и был похож на прародителя большого семейства: огромный, немногословный, часто хмурый, с большущими руками потомственного землепашца, в которых словно в живых жерновах перетирались созревающие семена. Осторожно сдувая остюги, подносил ладонь вплотную к лицу и видел что-то свое, понятное только ему и малопостижимое для других. Иногда даже специалистам. Смотрел, как Богом поцелованный, дальше, а значит, и видел глубже.
Я перебрал множество фотографий Лукьяненко и не нашел ни одной, где он снят в кабинетных интерьерах. Всякое утро начинал в поле. Часто, особенно перед жатвой, уходил в его глубины один, осторожно раздвигая колосящуюся массу, стараясь не повредить ни одного стебелька. Ступал неслышно, как настоящий следопыт, умевший только по легким признакам, мало уловимым приметам понять то, что может разглядеть только тот, кому это позволила сама природа. С ней, судя по всему, еще в крестьянской юности он заключил только им двоим понятное соглашение.
То июньское утро 1973 года выдалось на редкость погожее: тихое, свежее, наливавшееся урожайной надеждой. Озимые монолитно разливались, приобретая созревающую темноцветность высокопробного золота. Если уж предполагать какую-то житейскую тень, то, может быть, число было не очень хорошее – 13. Но кто о таком думает, когда все остальное сходится в двадцать одно, цифру абсолютной удачи.
Да вот ее-то, однако, никогда не бывает! А если и выпадает, то как предтеча последующих горестей. Именно в это, казалось бы, уютное утро (а для Лукьяненко утром было, когда солнце только восходит над горизонтом) и случилось самое большое горе для советской селекционной науки. Для Кубани тем более…
Белая «Волга» остановилась у ближайшего к городской окраине опытного поля, уходящего дальней границей к дачному поселку.
– Через пару часов вернешься за мной, – попросил Лукьяненко водителя и, погруженный в какие-то свои думы, надев старомодную соломенную шляпу, шагнул прямо в плотную среду, раздвигая руками наливающиеся тяжестью колосья. Солнце сулило жару, и, судя по первым признакам, обещания сбывались.
– Павел Пантелеймонович! – крикнул вослед шофер. – Может, я подожду?..
– Да нет! Езжай…
Это были последние слова, которые услышал водитель. Он и стал тем, кто видел Лукьяненко тоже последним. Когда вернулся к назначенному часу, над пшеничной поверхностью никого не было. Она стояла ровно и спокойнехонько, но что-то нехорошее почуяв, парень ускорил шаг по примятому следу, пока не наткнулся на лежащее тело. Показалось, что еще дышит. Схватил за руку – та отдала теплом…
– Господи! – пронеслось в сознании растерянной мыслью. – Может быть, солнечный удар? Воды бы…
До покосившихся дачных штакетников идти минут десять. Он пробежал за две. На окраине сухонькая старушка тяпкой рубила пырей.
– Бабуля, водички бы! Там, – растерянно махнул рукой куда-то за спину, – человеку плохо…
Старушка вскинулась и, отбросив мотыгу, поспешила к колонке. Два-три качка, и вот уже с леденеющим ведром оба бегут в глубину нивы. Пробившись сквозь хрустящую стену, бабка опустилась на колени, приподняла голову Лукьяненко, но, присмотревшись, бережно опустила обратно.
– Нет, милый! Вода ему уже не нужна, – прошептала чуть слышно. Поднявшись, развязала на голове платок, накрыла обескровленное лицо и, осенив покойного православным крестом, задумчиво сказала, словно сама себе:
– Я-то гадала, чего так жаворонок кричал? Словно звал кого-то… Прямо надрывался…
Павел Пантелеймонович Лукьяненко скончался в возрасте 72 лет, пережив день рождения всего на четверо суток, в двух десятках километров от того места, где появился на свет и тоже на пшеничном поле. Удивительная судьба, где все сошлось, как в сюжете, придуманном самой жизнью. Там ведь, в отличие от рукотворного романа, все правда. То есть так, как происходит на самом деле.
На проводах «пшеничного батьки», увенчанного двумя золотыми звездами Героя Социалистического Труда, всеми видами самых престижных премий, званием полного академика, молодой ректор Кубанского сельскохозяйственного института Иван Трубилин (Лукьяненко один из первых выпускников) звенящим в скорбной тишине голосом сказал те слова, что обычно произносят в таких случаях, совсем не предполагая, что пройдет некоторое количество лет, и он займет равное корифеям место в отечественном земледелии. Вот только жаворонок кричать не станет, когда придет последний час, поскольку выпадет она, та скорбь, на долгое зимнее ненастье…
Иван Тимофеевич Трубилин родился в феврале, в самом начале трагического 1931 года, отмеченного страшным голодом в Поволжье и особенно в южных краях Страны Советов. Как остался живым – удивительно. Но жить после всех этих встрясок будет долго, почти 84 года, создав личную судьбу, уникальную и неповторимую по насыщенности.
Эта книга о нем, о человеке, прочными узами связанного с кубанским краем, где родился, вырос и прожил на родной земле со всеми радостями и горестями, от которой не смогли оторвать никакими посулами. А ведь жизнь Ивана Трубилина пришлась на все потрясения, что обрушил на великую страну «век-волкодав».
Прежде всего, испепеляющую войну, на кою выпало детство, затем послевоенное возрождение, без остатка охватившее молодость его поколения, зрелость – на политические ухабы да хляби, через которые пришлось идти к жизненному успеху и общественному признанию, формируя и закаляя качества созидателя и мыслителя, нередко не столько благодаря, сколько вопреки.
Так было, поскольку каждый следующий советский вождь обещал полуголодной стране перепрыгнуть самую глубокую пропасть – продовольственную, но… в два прыжка. Однако, несмотря на жестокие столкновения эпох (сталинской, хрущевской, брежневской, горбачевско-ельцинской), волны житейских и политических бурь вознесли простого хлопчика из степной кубанской глубинки на самый высокий гребень народного признания, поставив вровень с великими кубанскими естествоиспытателями: Лукьяненко, Пустовойтом, Хаджиновым. В единый ряд с другими подвижниками в самом актуальном во все времена для России деле (для Кубани тем более) – создании продовольственного благополучия, основы основ устойчивости любой государственности.