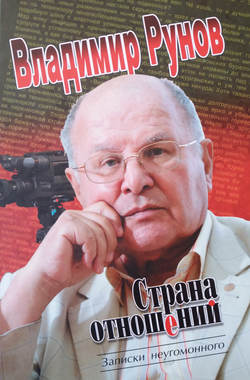Читать книгу Страна отношений. Записки неугомонного - Рунов Владимир Викторович - Страница 10
Глава 1. Парень в кепке и зуб золотой
Жужелица треклятая
ОглавлениеСегодня ясно, что Хазрет Меджидович не столько руководил, сколько правил. Как я понимаю, он взошёл на пост главы республики, не сильно представляя, как и чем будет заниматься. Одно дело прииск, где все на виду. Привычно громко скомандовал, и крепкие мужики за хорошие деньги тут же взялись за топоры и тачки. А здесь инвалиды, детсады, лазареты, аграрии, ЖКХ с вечно спущенными штанами, и все с глазами, полными слез:
– Отец родимый! Когда делиться будешь?
Он и делился – строил за свои кровные больницы, проводил дороги, покупал комбайны, скрежетал зубами от бессилия и, как ему казалось, вопиющей лености министров, не способных организовать народ на трудовой подъем. В поисках Конька-Горбунка новый президент нагонял на чиновничество страх и ужас, искренне считая, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать». Помните, у Чехова: «Человек от битья умнее бывает, так и тварь!»?
Вообще, страх – радикальное средство воздействия, особенно на тех, кому есть что терять (а министру наверняка всегда есть). Ещё Наполеон утверждал, что человеком управляют две страсти – страх и личная выгода. Правда, со своими чеканными формулировками на любой случай он плохо кончил, погибнув в изгнании, на пустом каменистом острове в возрасте всего 52 лет. Но кто это помнит?
Не знаю, насколько Совмен в управлении республикой руководствовался наполеоновскими наставлениями, но что своих министров (как Бонапарт маршалов) гонял нещадно – это точно. Наезжая в Майкоп из швейцарского далека и обнаружив, что дело стоит ровно на том месте, где было оставлено, он без раздумий снимал старого министра и назначал нового, нередко ещё хуже того, что снимал.
Министерский «конвейер» работал, что золотодобывающая драга, безостановочно. Одних руководителей министерства культуры сменилось штук десять. По старой сталинской традиции он бросал их на склоны судьбы без всяких парашютов. Не успевал один с оханьем подняться, как на голову уже летел следующий. Несмотря на празднично красочные ожидания, будничные реалии (как это часто бывает) оказались проще, жестче и радикально одноцветнее. Чуда преображения не произошло, решительные министерские отставки по принципу «упал – отжался» если и привели к оживлению, то лишь в чиновничьей среде, всегда озадаченной лишь двумя вопросами: «За что?» и «Кто следующий?».
Семидесятилетний Хазрет Совмен, к сожалению, не сумел повторить успех почти одногодка, семидесятитрехлетнего немецкого адвоката Конрада Аденауэра. В 1949 году тот, в ранге канцлера, пришёл к руководству только что созданной Федеративной Республики Германия, собранной из кусков трех оккупационных зон – США, Великобритании и Франции (четвертую Советский Союз преобразовал в Германскую Демократическую Республику и отделил ее от ФРГ «бетонной стеной» из четырех ударных армий Западной группы войск).
Аденауэр, вошедший в мировую историю как величайший мудрец, изображал из себя согбенного старца, седого, как лунь, и молчаливого, как полярная сова. Советская пропаганда, не жалея красок, поносила его, «вдохновителя реваншистского курса, направленного на ревизию основ послевоенного устройства Европы».
Штатный карикатурист «Правды» Борис Ефимов, самоучка, но энергичный, как стиральная доска, сточил сотни карандашей, изображая германского канцлера в образе старой вороны с выдранным хвостом. Господь сподобил Ефимова при ясной голове (страшно сказать, родился в 1900 году, а Ельцина пережил) дотянуть аж до 108 лет. Наверное, длинную жизнь Бог дал, чтобы убедить лихого карикатуриста в большой ошибке – не того клеймил! Совсем и не немец, а вон тот молодой соотечественник, ушлый комсомолец из Ставрополя, что в аденауэровские времена, как петух с хуторского плетня, страстно звал к коммунизму, клялся в верности идеалам. Вот его надо было вязать! Так ведь если б Господь надоумил, как и куда оно на самом деле повернет! Но даже в страшном сне не могло привидеться, поэтому и грешили привычно на неприятного «фрица»…
Аденауэр, придя на послевоенные развалины (не хуже, чем у нас), сумел сплотить немцев идеей восстановления страны, твёрдо пообещав, что жить в ней будет комфортно всем. И что странно, в частности для нас – обещание выполнил! Договорился даже с непредсказуемым Хрущёвым об установлении дипломатических отношений и возвращении в Германию военнопленных, а их у нас находилось больше миллиона.
– Че дармоедов кормить! – махнул рукавом Никита и отпустил даже без выкупа.
Показной кротостью и уважительным послушанием Конрад «доил» страны-победительницы, но убедил соотечественников, что кредиты проедать нельзя (а уж тем более – разворовывать), подчеркивая, что путь к успеху лежит только через организованный по всем направлениям совместный труд и усердие каждого.
Совмен, к сожалению, этого сделать не смог (да и не захотел), пойдя привычным «совдеповским» путем, который предшественник Лужкова на посту мэра Москвы, Гаврила Попов, назвал «командной экономикой победившего социализма». Это когда надо бояться начальника до холодной испарины, при этом тащить все, что плохо лежит, а благодетеля, по возможности, обирать до нитки. Ну, в последнем Совмен сразу разобрался и «лавочку раздачи подарков низшим чинам» быстро закрыл, после чего столь же быстро стал терять популярность.
Вообще-то, в этом ничего удивительного нет! Одно из наших распространенных качеств – это что-то слезно выпросить, а потом быстро съесть или лучше – выпить.
Я помню, как в конце девяностых годов тогдашний губернатор края Николай Игнатович Кондратенко, только вступивший в должность, объезжал северные районы Кубани. Картина была кошмарная, некогда процветавшие хозяйства пугали остовами разгромленных ферм, голодный скот с предсмертным стоном тонул в навозе. По запущенным до всесильного пырея пашням сновали мышиные полчища. На Кондратенко, отдавшего сельскому хозяйству края всю жизнь и вкусившего плоды его процветания, страшно было смотреть.
– Что, жидовские прихвостни, смотрите?! – кричал он, потрясая пудовыми кулаками перед понуро стоящими руководителями района. – Да вас ревтрибуналом надо!..
Вечером, после забойного телерепортажа на эту тему звонит мне многолетний приятель Паша Майоров и говорит:
– Я думал, ты мне друг, но, к сожалению, в очередной раз ошибся. Ты ведь знаешь, Володя, что я еврей, но жена у меня русская, и что самое ужасное – теща русская. Так вот после твоего репортажа, ты бы послушал, как они на меня орали: «Из-за вас, жидов, у нас все неприятности». С твоей подачи на меня повесили и мышей, и черепашку, и колорадского жука, и даже американскую белую бабочку. Единственное, от чего мне удалось отмазаться, – это от жужелицы, поскольку ни они, ни я не знаем, что это такое!..
Особенно безрадостная картина ожидала нас в кущевском совхозе «Степнянский». Он был построен в голой степи по целинной программе, объявленной ещё Хрущёвым, и сразу приковал внимание краевой прессы. Сколько по этому поводу было сказано и написано громких слов, сколько снято передач! В том хоре был и мой звонкий молодой голос…
Я помню, как у кромки ну просто бескрайнего пшеничного поля брал интервью у первого секретаря Кущевского райкома партии Ивана Радченко, этакого широкого, пырьевского колхозного персонажа. Сверкая лысиной и энергично жестикулируя, он рассказывал о фантастических урожаях, увесистых надоях, об агрогородках, населенных дружелюбными трудолюбивыми селянами, при этом с нескрываемой любовью перетирая в ладонях горячие зерна и целуя тучный колос.
По итогам той жатвы Радченко стал Героем Социалистического Труда и тем самым окончательно завершил портрет любимых Пырьевым сельских киногероев – радушных, умелых, настоящих кубанцев, что радовали всю страну бессмертным фильмом под названием «Кубанские казаки»…
И вот сейчас, жарким летним зноем, бредем улицей того самого агрогородка, яркие фотографии которого ещё недавно украшали самые читаемые в стране газеты и журналы, опустевшего, как перед вражеским нашествием. Жуть берет! Огромная автобаза, построенная по современному проекту из прочного железобетона, с боксами для машин, ремзоной, смотровыми площадками, помещениями для отдыха водителей, удобным административным корпусом, разбита в прах прямым попаданием человеческого безумия.
На территории с оторванными воротами (и всем, что можно оторвать) вольно разбросаны скелеты машин – без колес, с выбитыми стеклами, вырванными внутренностями, а вокруг ни одной живой души. Подумалось: вот в каких декорациях Тарковскому надо снимать свои удручающие мировой безысходностью фильмы. Ни один съехавший умом фантаст ярче не придумает…
У Кондратенко лицо багровое, желваки ходуном, губы шепчут слова, которые ни одна телекамера не выдержит. Я его понимаю! Он – крестьянский сын эпохи военной голодухи, когда любую краюху делили на четыре части: армии, заводам, детям и последнюю, самую малую – себе… Делили и надеялись! Надеялись на лучшее, тем и жили.
Я-то помню, как массово горели глаза, когда открывали эти поселения, символ новой крестьянской жизни, о которой мечтали поколения, десятилетиями недоедавшие и недосыпавшие. Под духовой восторг колхозных оркестров, лихой каблучный перестук и песни агитбригад, под восторженные крики: «Вот она – наша новая Кущевская, славная что в труде, что в бою!».
Ведь где-то рядом, на таких же полях, летом сорок второго года опрокинула немецкие танки казачья лава генерала Кириченко. Увы, сегодня Кущевская на всех языках звучит как пугающий символ бесчеловечной жестокости и неукротимой алчности…
Идем дальше. Дальше ещё краше! Возле разбитой в дым совхозной бани в зековской позе, касаясь задницами дорожной пыли, сидят на корточках четыре хорошо поддатых мужика, расхристанные, небритые, в опорках на грязных ногах, слюнявят цигарки беззубыми ртами.
Кондратенко справился с собой, настроен мирно поговорить:
– Ну что, хлопцы, так и будем жить?
– А че, нам хорошо! – пересмеиваясь, отвечают, не отрывая задниц от земли.
– Чего ж хорошего?! – ещё очень даже мирно спрашивает Николай Игнатович. – Баню вот зачем порушили?
И тут самый наглый, швыркающий носом, этакий самодовольный заводила-подстрекатель, подымает нечесаную башку и, пуская сквозь ноздри вонючий дым, говорит:
– Мужик, ты, кажут, с края? А че нам привез – выпить, закусить? Баню? Да она нам без надобности. Мы, если приспичит, в ставке скупаемся, на травке обсохнем. Лучше скажи, чем народ порадуешь, че привез?
– Ты куда котлы дел, сукин сын? – в голосе губернатора послышались раскаты приближающейся грозы.
– А ты не гони! – ещё больше наглеет заводила. – Ты меня прихмели сначала, а потом спрашивай! А котлы мы вчера, хе-хе… цыганам спроворили. Сейчас вот отмечаем… Хе-хе, присаживайся!
Хлопцы противно заржали, им разговор явно нравился – во Павло дает!
– Котлы… цыганам! – голосом шолоховского Нагульнова прорычал Кондратенко. – Да я тебя… мать твою! Юрка, выключи камеру!.. – это Архангельскому.
Помните, как в «Поднятой целине» краснознаменец Макар Нагульнов «учил» кулака Банника, пригрозившего стравить семенное зерно свиньям, лишь бы не сдавать колхозу, – рукояткой нагана по морде. Я видел «Кондрата» во гневе, но таким – никогда!
Заводила, уловив, что сейчас его втопчут в пыль, стартанув прямо с карачек, разбрасывая костлявые ноги, побежал за ближние плетни, впереди «хлопцев», тоже убегавших изо всех сил в разные стороны.
– Что же это творится?! Какой же бес в них вселился? – ни к кому не обращаясь, удрученно бормотал губернатор, возвращаясь к притихшему вертолету.
Мне казалось тогда, что нет силы, способной вернуть этой земле созидательные стимулы. Но я ошибся! Сила пришла, и пришла с самой неожиданной стороны. Была она свирепа до степеней невозможного, представлений, не укладывающихся в рамки нормального общества. Кто мог подумать, что рядовая колхозная кладовщица, этакая нахальная, наетая до телесной бесформенности тетка, выросшая тут же, среди кизяков, подсолнухов, вареников и мешкотары, скупит все окрест и станет олицетворением новоявленного плантаторства. Любая промашка в батрачестве на неё, настоящую Салтычиху, будет караться радикальным способом – «монтировкой по башке». Сам видел по TV такую надпись на дверях современной кубанской помещицы, разъезжавшей по запуганным хуторам в бронированном «Мерседесе», в окружении «цепных псов». Они и «взяли за глотку» отважную некогда станицу Кущевскую, местные «цапки-цаповязы», доморощенные идолы, с размаху выбивая кистенем по черепам, вжатым в плечи, репутацию «образцового фермерского хозяйства», опоры «нового порядка», очень схожего с тем, что пытались установить здесь оккупанты трагическим летом 1942 года…