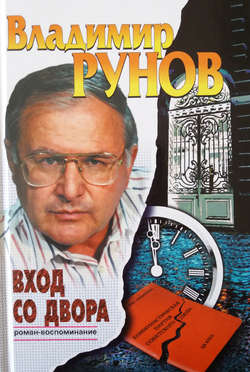Читать книгу Вход со двора. Роман-воспоминание - Рунов Владимир Викторович - Страница 6
К нам «Кикила» приходила… (из журналистской частушки)
ОглавлениеВообще, сучья эта профессия – журналистика. Ну, спрашивается, по какому такому праву ты лезешь в душу к человеку, выпытываешь у него самое сокровенное, а потом еще и разносишь это сокровенное по всему свету.
Честно говоря, я почти никогда не использовал эту свою профессиональную возможность, чтобы обидеть, а тем более унизить человека. В разговоре, особенно запальчивом, могу, к сожалению, позволить более чем лишнее, а публично – никогда. Хотя, откровенно скажу, иногда очень хотелось видеть некоторых людишек висящими на осине. Но уже с возрастом я пересмотрел многое и понял, что к осине в России чаще всего волокут не тех людей. Поэтому давайте оставим в покое осину. Пусть все живут и радуются жизни. Однако нет правил без исключений, поэтому я хочу остановить ваше внимание на одном из них.
По молодости, да и впоследствии, длинный и ядовитый язык мне сильно вредил. Замечая у людей какие-то недостатки, я так изобретательно их высмеивал, что очень скоро и очень многих превратил в своих недругов и стойких врагов.
Как я сейчас понимаю, особенно опасными были мои упражнения на партийные темы. Время от времени нас, журналистов (их тогда было не так много, как сейчас), собирали в крайкоме партии для того, чтобы дать руководящие указания в свете текущих задач и времени.
Я и сейчас отчетливо вижу, как это было. Непривычно притихшие, мы движемся (не идем, а именно неслышно передвигаемся) по ковровым дорожкам крайкома КПСС, пока не попадаем в просторную залу с огромным овальным столом.
По каким-то неписаным правилам, а может быть, негласной традиции, при рассадке происходит этакая сортировка в соответствии с местом издания в партийной партитуре. На самых видных местах, ближе к креслу, где будет сидеть секретарь крайкома. устраиваются журналисты партийной газеты. Почти все они находятся в серьезном возрасте, увесисты телом, преисполнены достоинства и сосредоточенно насуплены.
Далее идут газетчики калибром помельче – молодежной газеты. Те тоже старательно изображают на челе серьезность, ибо знают, что «молодежка» – кадровый резерв в партийную газету, а то, гляди, куда повыше, в отдел агитации и пропаганды, например. А здесь, в крайкоме, исподтишка могут состояться и заключительные «смотрины».
В самом конце стола робко усаживаемся мы, телевизионщики и радисты. Мы тише воды и ниже травы, поскольку знаем, что от таких встреч ничего хорошего лично для нас не ожидается. Мы как бы считаемся журналистским отстоем, и должности наши тупиковые для кадрового роста. Прошлый раз на такой же встрече секретарь крайкома Иван Павлович Кикило, скосив щучий взгляд в сторону Бориса Яковлевича Верткина, нашего главного редактора, холодно спросил:
– А что, у краевого телевидения появилась своя точка зрения на культ личности? Вы что, хотите подвергнуть ревизии решения партии по этому вопросу?
Борис Яковлевич мгновенно потеет и нервно стучит зубным протезом: – Иван Павлович! Это была трагическая случайность… Мы приняли исчерпывающие меры… Люди наказаны, в том числе и в партийном порядке…
– Ну-ну! – недобро хмыкает Кикило.
Дело в том, что накануне, по краевому телевидению, по какому-то праздничному поводу, выступал не первый, но достаточно высокий милицейский чин (а тогда никакой видеозаписи еще не было и в помине, и все выступления шли, как сейчас говорят, в прямом эфире, то есть живьем). А если учесть, что государственный цензор визировал даже сообщения о погоде, то можете себе представить, как дрожал редактор, когда смотрел передачу, над которой он уже был не властен, и не мог ничего сделать, кроме как рвать на себе волосы, если выступающий говорил совсем не то, что должен был сказать.
В том случае милицейский полковник, добросовестно отговорив по бумажке все, что ему написали, вдруг поднял голову и в конце выступления сказал следующее:
– Краснодарская милиция всегда следовала и будет следовать заветам партии Ленина-Сталина!
Я понимаю, что заклинание это он произносил в течение всей своей сознательной жизни и от большого напряжения перед телевизионной камерой мог вполне забыть, что имя Сталина уже давно предано анафеме.
Но слово, как говорится, не воробей… И когда бледный, трясущийся редактор сообщил выступающему о его политическом «ляпе», милиционер готов был пустить себе пулю в лоб тут же в студии. Его отпаивали валерианкой, которую запасливый редактор всегда держал в кармане.
Время было суровое, и Сталина искореняли всеми доступными методами. У нас, на студии телевидения, например, сидел специальный человек, который просматривал все старые фильмы и когда замечал в кадре даже портрет Сталина, тотчас кидался в проекционную с ножницами наперевес и отхватывал из киноленты изрядный кусок. Надо сказать, что под эту «гильотину» нередко попадали и иные персонажи, но более других Михаил Васильевич Фрунзе, которого нередко путали со Сталиным…
И вот, наконец, появляется Иван Павлович Кикило. Полуприщурив один глаз и выкатив из орбиты другой, он критически осматривает собравшуюся компанию, коротко останавливая свой взгляд на каком-нибудь из присутствующих, иногда при этом как бы удивленно хмыкая, вроде: «Ба! А этот-то откуда здесь взялся?» Это считалось дурным признаком. Все знали, что Кикило коварен, как камышовый кот, и если он многозначительно и долго смотрел на человека, при этом неопределенно хмыкая, то значит этому человеку лучше самому принять решение в отношении себя, Сейчас иногда я вижу скособоченного дедушку в жеваных штанах и нечищенной обуви, сильно похожего на быстро спущенный футбольный мяч. А тогда это был сущий ястреб, с цепким и недобрым взглядом. Воспарив над идеологическим пространством, он зорко высматривал добычу, чтобы потом обрушиться и задолбить ее своим медным клювом. А если уж Кикило долбил кого-то, то обязательно до самого конца.
Мне всегда казалось, что его объемный живот (а живот у него был просто огромен) наполнен непереваренными останками этих самых жертв.
Кикило среди опекаемой им «паствы» (журналистов, писателей, артистов, режиссеров, преподавателей вузов) сеял такой душевный страх, что и через много лет, когда он исчез со своей устрашающей должности, его продолжали бояться. Я несколько раз видел, как какой-нибудь его бывший подчиненный, уже старенький и давно на пенсии, подбегал к нему на улице и униженно кланялся в пояс, на что Кикило отвечал снисходительно кивком. А можете себе представить, как это все выглядело, когда он был при силе. На таких совещаниях очень многим хотелось залечь под стол, чтобы Иван Павлович тебя не заметил. Слава Богу, я тогда относился к числу малозначительных персонажей (скромный, рядовой редактор каких-то там передач Краснодарской студии телевидения), и по мне его око скользило не останавливаясь.
Зато люди покрупнее, руководители районных газет, например, сидели, как говорится, поджав хвост. Они-то знали, что в их изданиях ошибки шли широко и густо, а работники сектора печати крайкома эти нелепости вылавливали и самые нелепистые приносили на кикилин суд. «Что же они там на этот раз натаскали?» – читалось на лицах редакторов, пока Кикило неторопливо умещал свой объемный зад в просторное председательское кресло.
Редакторская тревога была не напрасной. Ну, на всякие там двусмысленные благоглупости, типа заголовков газетных статей «В руках – твердость» или «Место коммуниста – в лесу!», или крупное фото на первой полосе мордатого дяденьки с лентой через плечо, на которой красовалась надпись «Лучший осеменатор Кущевского района», Кикило иод робкие смешки неупомянутых презрительно плевался уже в конце совещания.
Но в самом начале он впер неподвижный взгляд в редактора армавирской газеты и после тяжелой паузы спросил:
– Как вы относитесь к первой русской революции?
Посеревший редактор заметался взглядом по соседям и счел за благо пробормотать невразумительное.
– Я не слышу ответа! – настаивал Кикило. – Как лично вы, – он сделал особый упор именно на «вы», – относитесь к первой русской революции?
– Хо-хо-хорошо! – пробормотал редактор. – Очень даже хорошо, Иван Павлович. А как же иначе?
– А вот в возглавляемой вами газете я этого не уловил, – сказал Кикило. – Более того, я увидел вопиющую политическую нелепость, если не сказать больше – идеологическую глупость, которая заставляет думать: читает ли редактор свою газету, а если читает, то какими глазами!
Он развернул газету и показал собравшимся заголовок, набранный крупным шрифтом: «Черносотенный погром», а чуть ниже, в скобках и мелко, значилось: «К 50-летию первой русской революции». Уже потом мы узнали, что в статье описывалась демонстрация армавирских рабочих в поддержку революционных беспорядков в Петербурге, которую разогнала полиция вместе с местными лавочниками. Сделав стартовую выволочку и доведя армавирского редактора до прединсультного состояния, Кикило при гробовой тишине перешел к общей оценке положения в краевой прессе, которая, как всегда, по мнению краевого комитета партии, то есть его – Кикилы, была «в большом долгу перед трудящимися». Мы, как я понимаю, по мнению Кикилы, к трудящимся не относились.
Я упоминаю Ивана Павловича Кикило не потому, что он достоен каких-то воспоминаний (как раз наоборот), а главным образом потому, что он первым и практически открыто выступил против Медунова, написав в ЦК КПСС длинное письмо с перечислением известных ему безобразий, происходивших в крае…
Много лет спустя я задал Медунову вопрос по этому поводу. Тому Медунову, который уже был растоптанным изгоем, исключенным из партии, одиноким больным стариком, доживавшим свой век в Москве, в просторной, но какой-то грустной квартире, где каждая деталь, каждая фотография на стене вызывала печаль, все блестящее, шумное и активное было в безвозвратном прошлом. На комоде стоял большой портрет жены, Варвары Васильевны, рядом, в вазе, букетик тощих тюльпанов. Оказывается, я пришел накануне очередной годовщины ее смерти.
– Он, действительно, написал тогда большое письмо, в котором изложил свою точку зрения на то, что делалось в крае. Медунов произнес это, как бы раздумывая, стоит ли вообще углубляться в эту тему. Потом помолчал и, видимо, решил, что стоит:
– Видите ли, Володя, люди, подобные Ивану Павловичу Кикило, всегда играют свою игру, и с одной целью, чтобы было хорошо только им. Он ведь написал это письмо не потому, что искренне хотел исправить недостатки… Они, безусловно, были. А потому, что я не пожелал мириться с его личными недостатками, с его трактовкой идеологической работы, стремлением душить все сущее и живое, а самое главное – с наплевательским высокомерным отношением к людям, ведь он выматывал людей до такой степени, что они падали в обморок, а подчас умирали прямо на работе. Ночами писали никому не нужные доклады, справки, отчеты… Потом эти доклады вкладывались в уста руководителей. Все должны были смотреть на происходящее сквозь кикиловские очки. Живая воспитательная работа подменялась махровым начетничеством, системой двойных стандартов, интригами, доносами… Я это чувствовал, до меня не только доходили слухи, но я имел и достаточно объективную информацию, что Кикило сковал духовную жизнь в крае жесткими рамками своего понимания духовности, отсекая все лучшее… Роптали писатели, ученые, университетские преподаватели, многие яркие люди из края уезжали, не выдержав кикиловского прессинга. И когда я принял решение, что с «кикиловщиной» надо кончать, он пошел в атаку: написал письмо в ЦК… Я думаю, что он готовился к этому давно, сразу, как я начал ставить его на место.
– Но ведь там, говорят, было много правды? – осторожно прерываю я монолог Сергея Федоровича.
– Скажем так, там немало было правдоподобного… Рассуждения о приписках, о лихоимстве и прочем. Кикило это все накапливал и держал до поры – до времени не для того, чтобы их исправить, а скорее как устрашающие аргументы в защиту самого себя… Впоследствии он ведь нигде себя не проявил, хотя ему и была предоставлена работа, предлагалось даже поехать в Москву, возглавить крупное издательство…
…Не поехал. Видимо, испугался. Там же надо работать на зримый результат. Вообще, как я понимаю сейчас, идеологическая работа была самым слабым местом в партии. Именно там концентрировалась воинствующая и, если хотите, злобная серость, которая отслеживала ярких, нестандартно мыслящих людей, нацеливала на них удары партийных органов, лишала их творческой и жизненной реализации, сковывала, а то и душила инициативу… Эти люди глухо роптали, подталкиваемые кикилами, сопротивляясь произволу, уходили в десидентствующие структуры…
В взамен что мы получали? Демагогов! В результате один из них, Горбачев, возглавил в конце концов страну…
Медунов замолчал, видимо, что-то вспомнил. Лицо его приняло жесткое выражение. В годы его правления такое выражение не предвещало ничего хорошего…
Наверное, надо рассказать, как я попал к Сергею Федоровичу на этот разговор, чего здесь было больше вначале: журналистской настырности или простого желания понять не только масштаб личности, но и причины той катастрофы, которая в конце концов постигла эту, безусловно, яркую и незаурядную личность. Чего в этой катастрофе было больше, – причин собственного характера или неотвратимых обстоятельств, которые диктует эпоха? Все мы живем в предложенное судьбой время, которое определяет наши поведенческие правила.
Куда денешься! Приходится приспосабливаться к обстоятельствам, искать пути реализации самого себя, разделять чьи-то убеждения, подчиняться законам, действующим на том этапе.
Так я рассуждал, когда пытался проанализировать свою первую встречу с Медуновым, у него дома, в московской квартире.
Попал я туда с большим трудом.
Медунов на первый телефонный звонок ответил резко:
– Я с журналистами, тем более с Кубани, разговаривать не желаю!
Как потом выяснилось – причин для такого ответа было две. Первая – незадолго до этого у него побывало некое юное дарование из «Комсомольца Кубани». Старик его радушно принял, а в итоге статья в газете вышла грязная, с выдумками. Вторая причина – более серьезная. Мы хотели попасть к Медунову вдвоем с Вячеславом Смеюхой. Услышав эту фамилию, Медунов разразился возмущенной тирадой:
Как вы осмелились вообще мне звонить!..
Секрет медуновского гнева был прост. Дело в том, что Смеюха, в прошлом заведующий сектором печати крайкома партии, где-то в конце восьмидесятых годов вернулся на газетную работу и стал первым заместителем редактора газеты «Советская Кубань». А главным редактором этой газеты была Светлана Шипунова, известная журналистка, тоже прошедшая школу крайкома КПСС, где она занимала достаточно высокую должность. Но ее красили не только партийная должность, а и женское обаяние, ум, способности. Она быстро попала в поле зрения самого Сергея Федоровича. Он ее выделял среди других, нередко лично беседовал, советовался и даже попросил написать за него книгу, что и было сделано. Наверное, это приятно, когда большой человек тебе благоволит, оказывает знаки внимания, с многообещающим продолжением служебной карьеры. Я думаю, что у Медунова были все основания считать Светлану Шипунову, выражаясь современным языком, «игроком» своей команды.
Во всяком случае, в разговоре со мной он с наибольшей горечью упоминал именно это имя, полагая, что его отеческое отношение к молодой и как он, не без основания, считал, талантливой журналистке, само по себе должно было защитить его от вероломного нападения хотя бы с этой стороны…
Медунов развернул старый газетный лист и показал огромную, в полосу, статью под рубрикой «За чистоту в партийном доме», которая называлась «Человек из нашего прошлого». Статья была о Медунове, а точнее о «медуновщине» и всякого рода безобразиях, которые так или иначе связывались с деятельностью Сергея Федоровича на посту первого секретаря Краснодарского крайкома партии…
Вот как заканчивалась эта статья, опубликованная 29 марта 1989 года:
«…Внимательно изучив все материалы, бюро Гагаринского райкома КПСС г. Москвы 2 марта 1989 года в присутствии С. Ф. Медунова приняло постановление: «За серьезные отступления в бытность первым секретарем Краснодарского крайкома КПСС от требований партии об усилении борьбы со взяточничеством и другими корыстными злоупотреблениями, выгораживание руководящих кадров, уличенных во взяточничестве, неискренность перед партией т. Медунова С. Ф. из рядов КПСС исключить».
Таков бесславный итог.
Иногда можно услышать: в то время по-другому было нельзя. Все так делали. Наверное, с таким объяснением жить легче. Но ведь неправда и это. Можно было по-другому. И не все так делали. В партии работали сотни и тысячи честных, порядочных, не поступавшихся ни законом, ни совестью людей. Потому и стало возможным в апреле 85-го очнуться от застоя. Потому и нашлись в партии здоровые силы, чтобы возглавить перестройку.
Краевая партийная организация тоже нашла в себе силы и резервы для самоочищения. Трудно, болезненно, но восстанавливаются иные – истинно партийные методы руководства.
Что ж, можно ставить точку? Ведь конкретный носитель той психологии наказан, отторгнут от партии. Но нередко еще встречаем на страницах газет такое нелестное определение: медуновщина. Это уже не отдельный человек, а явление. Корни его до конца не выкорчеваны в крае. Приходится и сегодня, в бурное время перестройки, то тут, то там натыкаться на них. И, значит, успокаиваться рано.
Не для сенсации решили мы написать о С. Ф. Meдунове. Для того, чтобы каждый еще раз оглянулся на себя и вокруг себя. Не должно быть больше у нас медуновщины – то есть показухи, парадности, лести, круговой поруки и всего того, что отличало время застоя от того времени, в котором живем сегодня».
И подпись – Вячеслав Смеюха.
– Знаешь! – сказал Медунов с глубоким вздохом. – Обидно не то, что Смеюха написал такую статью. В конце концов, это его ремесло, а то, что инициативу в отношении меня проявила Светлана Шипунова, которую я, можно сказать, опекал, двигал по жизни, а к тому времени она уже была главным редактором «Советской Кубани». Ну, помчались вы в Гагаринский райком, чтобы первыми оповестить всех – Медунова из партии выгнали, наконец! Ну, почему со мной-то не встретились, не поговорили, не выслушали моих доводов…
Он склонил на руки голову, задумался, а потом поднял на меня глаза полные слез. Боже мой! Умирать буду, но не забуду – я видел, как плакал Медунов, тот самый Медунов, от взора которого холодели тысячные толпы – активы, пленумы, сессии, всякого рода высокие собрания, взгляда которого искали, одобрительного слова добивались.
И в то же время я не мог ничего сказать в поддержку жалкого плачущего старика, ибо хорошо знал, что в той среде поступали так всегда и не только с ним. Пришел новый хозяин и все присные, которые вчера ловили улыбку, бросались к его ногам, уже ловили другие взгляды и искали одобрения у другого. В 1989 году хозяином в крае был Иван Полозков, лютый враг Медунова. Ему статья тогда, говорят, сильно понравилась. Наверное, снял он трубку и сказал:
– Молодцы! Выступили по-партийному, остро, принципиально…
А у Светы Шипуновой от такой оценки, естественно, зарозовело лицо от удовольствия! Она тогда прекрасно выглядела. Ведь это замечательно, когда ты нравишься начальнику.
Но вернемся в тот летний день 1992 года, когда мы со Смеюхой все-таки не теряли надежды на встречу с Медуновым. Звонили еще раз и еще раз получили резкий отказ. Я понимал, что без ходатая здесь вряд ли обойдемся, и вспомнил о своем добром знакомом – Федоре Павловиче Зырянове, профессоре истории, к которому Медунов относился с уважением и большим доверием. Начались долгие телефонные перезвоны: Москва-Краснодар, Краснодар-Москва. Наконец Федор Павлович выступил гарантом, что никаких фортелей мы не выкинем и напишем так, как оно на самом деле есть. И на этих условиях Медунов согласился нас принять.
То, что журналистика, дело малосовестное, говорено уже много раз.
Увы, но это было, есть и, я думаю, будет. Во всех общественных процессах, а тем более в политической борьбе, журналисты «рубят просеку» для тех, кто идет во главе сражений: классовых, межпартийных, гражданских, социальных и особенно – за власть. А в такой борьбе, да в нынешних, демократических условиях, когда пиаровские специалисты творят буквально цирковые номера, понятие «честь» и «совесть» столь же противоестественны, как пение жаворонка в полярную ночь.
Я не раз имел возможность видеть проявление властного и, как мне тогда казалось, несокрушимого могущества Медунова. На разного рода публичных собраниях он появлялся уверенный, громогласный, бескомпромиссный, убедительный, особенно, когда настаивал на чем-то. Мне казалось в те минуты, что одним движением пальца он мог привести в действие механизм, способный возвысить или угробить любого человека. Так оно и было! Все знали, что всякое кадровое перемещение в крае – это сугубо его прерогатива, и без одобрительного кивка Медунова никогда и никого, даже председателем захудалого колхоза где-нибудь в Отрадненском предгорье, не выбирут.
Я вспоминаю случай, когда на довольно длительный срок оказалось вакантным место заместителя председателя крайисполкома по вопросам культуры, образования, здравоохранения и другим, как сейчас говорят, гуманитарным проблемам. Должность по тем временам очень солидная и поэтому, естественно, многими вожделенная. Молва с разной степенью достоверности перемывала по этому поводу различные фамилии и имена, и называемые кандидаты время от времени погружались в состояние величия и недоступности, как и следовало быть человеку, которого завтра, вполне возможно, поднимут на высокую властную ступень. Но время шло, слухи оставались слухами, а должность – вакантной. Так продолжалось до тех пир, пока на одной из сессий краевого совета Медунов не решил представить нового заместителя председателя крайисполкома. Сделал он это весьма оригинальным способом. Мне рассказывал об этом Костя Дроздов, помощник Разумовского, который оказался в какой-то степени причастным к этому действию. Когда началась сессия, Медунов, посидев какое-то время в президиуме, удалился в кабинет Разумовского, председателя крайисполкома, Костя находился в тот момент в приемной. Вдруг Медунов открывает дверь и просит:
– Позовите-ка мне Солодухина!
Солодухин Леонтий Алексеевич долгие годы возглавлял краевой отдел народного образования и слыл, как бы это помягче сказать, достаточно бесперспективным руководителем. Уж, в любом случае, его имя ни разу не мелькало в «слуховых галлюцинациях» на вышеуказанную должность, а если бы и мелькнуло, то тут же вызвало кислую мину: «Ну, старик, ты даешь!»
Костя скоренько, как и положено помощнику, помчался в зал и не сразу увидел Солодухина, затаившегося где-то в глубине и перебирающего на коленях листочки бумаги: он готовился к выступлению. Зал сразу заметил чуть взъерошенного от спешки Дроздова и стал пристально следить за его действиями, поскольку внеурочное появление помощника председателя крайисполкома и его торопливое рыскание глазами по рядам, могло означать только одно: кого-то ищет? Кого? И зачем?
Наконец Костя увидел Солодухина, подобрался к нему поближе и, вытянув через три кресла шею, шепотом, но так, что ближайшее окружение все равно услышало, сказал:
– Вас! Да-да! Именно Вас, Леонтий Алексеевич! Срочно! Да-да, Сергей Федорович! В кабинет к Георгию Петровичу! Только, пожалуйста, побыстрей!
Леонтий Алексеевич тут же уронил свои бумажки на пол и покрылся холодной испариной.
– Господи! – читалось на его лице. – Зачем? Что стряслось?
Наша средняя школа, как известно, явление неожиданное, где может произойти все, что, угодно и в любой момент, от массового поноса до взрыва гранаты во время урока географии, что однажды и произошло в Горячем Ключе.
Пока, отдавливая ноги соседям и падая им на колени, тучный Солодухин протискивался меж кресел и выбирался на простор, Дроздов успел вернуться в приемную и занял свое рабочее место. Дверь в председательский кабинет была закрыта неплотно, и он услышал фрагмент окончания разговора, который Сергей Федорович вел по телефону правительственной связи:
– …Мы его сейчас выберем, а потом вам дошлем «объективку» и все остальное… Будем считать, что согласовали…
Не столько опытный, сколько сообразительный, Дроздов понял, что речь идет именно о Солодухине и его назначении на какую-то высокую должность. Логика рассуждений была проста: правительственный телефон, уважительный тон Медунова, «объективка». Словом, пока мучимый сомнениями и спотыкающийся Солодухин пару раз роняя свои бумажки в коридоре, наконец ввалился в приемную, Костя уже понял, что речь скорее всего идет о вожделенной должности зампреда крайисполкома.
– Прошу! – Дроздов с подчеркнутой учтивостью указал на тяжелую дверь председательского кабинета, куда сбитый с толку и насмерть перепуганный Солодухин вошел с видом человека, которому сейчас будут рвать коренные зубы самым изуверским способом.
Но вышел он оттуда уже совсем другим, пунцово зардевшимся и смущенным, как деревенская девушка, которой принц датский вдруг предложил руку и сердце.
Его очи покрылись счастливой поволокой. Они видели впереди только могучую спину Медунова. Бросив через плечо:
– Я – на сессию! – он, как ледокол сквозь льды, затопал по коридору.
Через минуту назначение состоялось. Обескураженные депутаты долго хлопали счастливцу, которого тут же усадили в президиум, и он столь же долго не мог справиться со счастливым смятением на лице, но потом, сделав видимое усилие над собой, полуидиотскую улыбку все-таки убрал, опустил углы рта и начальственно набычился, так сказать, вошел в необходимый образ. В президиумах ведь не принято было улыбаться. Там надо было сидеть с каменно-непроницаемым лицом и если как-то менять его выражение, то в зависимости от поведения самого главного человека, то есть Сергея Федоровича Медунова: он смеется и ты смейся, он молчит и ты молчи.
Надо сказать, что счастливый старт Леонтия Алексеевича Солодухина во власть на этом не закончился. Примерно через год его возвысили до уровня секретаря крайкома партии, прогнав с этой должности надоевшего всем Кикилу, которому Солодухин, как оказалось, был враг смертный еще с давних времен их совместной партийной молодости. Очевидно, в этом назначении-смещении была особая аппаратная тонкость, чтобы ненавистный многим Кикило, а прежде всего Медунову, изысканно и подольше помучился.
Правда, через какое-то время Леонтия Алексеевича, выполнявшего возложенную на него задачу, так же бесцеремонно с поста секретаря крайкома партии изгнали, обвинив, если мне память не изменяет, в плагиате (вроде, он что-то присвоил себе из интеллектуального наследия кубанских писателей). Хотя что там можно присваивать, – я до сих пор не пойму!
Вот такая, почти трагикомичная история, отражающая нравы и повадки ушедшего времени.
Для более полной характеристики нравов той эпохи я хочу рассказать еще одну подобную историю, но уже с сюжетом более трагичным, свидетелем которой я был сам (и даже в какой-то мере ее участником), но об этом позже, а прежде хочу предложить вниманию ту самую статью, которая появилась в прессе после моей первой встречи с Медуновым и стала предметом довольно острого обсуждения. Ее напечатала тогда даже «Российская газета». Это было в конце августа 1993 года.