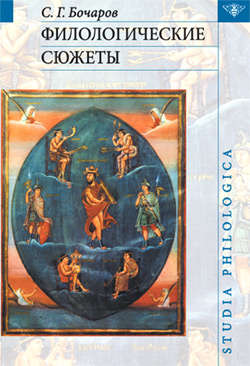Читать книгу Филологические сюжеты - С. Г. Бочаров - Страница 2
Пушкин
«Заклинатель и властелин многообразных стихий»
ОглавлениеЭто слово о Пушкине Аполлона Григорьева было сказано ровно 140 лет назад (в 1859 г.),[2] и мне оно кажется лучшим, что было о Пушкине сказано за полтора столетия.
В эти полтора столетия соперничали и сменяли друг друга два взгляда на Пушкина и два стиля суждений о нём – то, что названо пушкинским мифом, и научное пушкиноведение. Пушкиноведение стало на ноги поздно, уже в нашем веке, а до этого царило вольное размышление над Пушкиным с неизбежной склонностью к сотворению мифа. Начиная с Гоголя, при живом ещё Пушкине: «…явление чрезвычайное… единственное явление русского духа».[3] Формула Аполлона Григорьева, возникшая на пути от Гоголя к Достоевскому, – открыто мифологическая: она наделяет поэта магической властью творца миропорядка, демиурга, культурного героя и возводит Пушкина к древнему архетипу абсолютного поэта – Орфею.
Новая наука о Пушкине в 20–е годы вступила в борьбу с этим пушкинским мифом. Она подвергла ревизии этот самый пафос – «явление единственное, чрезвычайное»: пора покончить с обожествлением Пушкина и подвергнуть его историко—литературному изучению, поставить в общий ряд. В обобщающей книге 1925 г. Б. В. Томашевский так и писал – пора: «Пора вдвинуть Пушкина в исторический процесс и изучать его так же, как и всякого рядового деятеля литературы».[4] Выразительное слово – «вдвинуть» – как втиснуть. Тогда же Юрий Тынянов выступил против известного пафоса – «Пушкин – наше всё» (вновь Аполлон Григорьев!) – и заявил, что ценность Пушкина велика, но «вовсе не исключительна», и с историко—литературной точки зрения Пушкин «был только одним из многих» в своей эпохе.[5]
Так новое пушкиноведение начало с того, что объявило деса—крализацию и демифологизацию образа Пушкина и заявило недоверие к философской тенденции в пушкинознании; Томашев—ский её называл тенденцией к углублению Пушкина, произнося это слово иронически и скептически, – т. е. когда мы ему приписываем за наш собственный счёт нужное нам миросозерцание; примером для Томашевского была речь Достоевского («Речь эта характерна для Достоевского – и идёт вся мимо Пушкина»[6]). Новое пушкиноведение в лице самых сильных своих основоположников объявило как бы научную секуляризацию образа Пушкина.
Да, секуляризацию, потому что насчёт природы этого нашего представления о пушкинской исключительности через полвека после Томашевского высказался С. С. Аверинцев, когда в статье «Филология» в КЛЭ сказал, что есть в больших национальных культурах центральные имена поэтов, чьи тексты приобрели в народном сознании статус sui generis священных текстов, «универсальных жизненных символов» – Данте, Гёте, Пушкин.[7] То—машевский и объявил, в самом деле, что пора сдать в архив писания «новейших толковников, комментирующих Пушкина по методе конфессиональных толкователей библии». Тот абсолютный статус, что был придан поэту Пушкину его «толковниками», начиная с Гоголя, только мешает – так хотел сказать Томашевский – его нормальному трезвому изучению.[8]
Наверное, и в самом деле мешает – тем не менее этого статуса никакая научная позитивность поколебать не могла. Мифологизированное представление о пушкинской исключительности остаётся с нами. Это словно в нашей культуре неоспоримый мифологический факт. И, однако, он тоже нуждается в более рациональном филологическом обосновании. И оно, оказывается, возможно, если только взглянуть на Пушкина шире, из большого европейского времени. Формулу такого обоснования предложил недавно тот же Аверинцев, контрольным же пунктом обоснования он как филолог—классик взял отношение к античности. Его устное суждение записал за ним другой филолог—классик, М. Л. Гаспаров, и недавно опубликовал; вот оно:
«Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда – его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика».[9]
Почему мгновенная исключительность (прекрасная формула, её ещё надо будет продумывать)? Потому что Пушкин здесь представляется, как и веймарская классика, т. е. Гёте, на гребне большой культурной волны европейского размаха, в её критической точке. А пребывание в этой точке, на гребне может быть только мгновенным. Культурология, продуманная в последние два десятилетия Аверинцевым и покойным А. В. Михайловым, рассматривает рубеж XVIII–XIX веков как такой критический момент и решающий поворот на всём пути европейской культуры. Поворот от двухтысячелетней риторической культуры «готового слова» к новому состоянию слова, которое отрывается от вековой традиции. В обход привычных определений – романтизма и реализма – Михайлов вводит своё понятие европейской классики (и просит его не смешивать с классицизмом XVII–XVIII веков) – как особое неповторимое и скоропреходящее состояние равновесия древнего и нового, традиционного, риторического, «готового» слова и слова, прямо направленного на жизнь, «равновесия слова и жизни», – и высшими проявлениями этого состояния европейской классики на рубеже столетий и эр он называет Гёте и Пушкина. Пушкин – «в центральной, фокусной точке европейского развития в исторически единственный, неповторимый момент».[10] В центральной, фокусной европейской точке, а не только в историко—литературном ряду своей литературы, хотя бы и на самом почётном месте; в точке, а не в ряду. Пребывание в точке этого равновесия может быть только мгновенным.
Обычный вопрос, возникающий в разговорах о Пушкине, – он завершитель или родоначальник? Очевидно, и тот и другой, но по—разному, в разных диапазонах. Родоначальник всё же в русской литературе – например, инициатор многих будущих тем и сюжетов у Достоевского, и не только у Достоевского. Если же говорить о Пушкине завершающем, а лучше, наверное, о наследующем, то эта его работа совершалась в кругозоре, большем русской литературы. «Живой художественный университет европейской культуры» – цитируем Л. В. Пумпянского, хорошо об этом писавшего более полувека назад, – Пушкин творил в убеждении, «что русская культура слагается не на провинциальных тропинках, а на больших путях общеевропейской культуры, не в глухом углу, а на свободном просторе международного умственного взаимодействия». Пумпянский заметил, что в четырёх строках о Вольтере в послании «К вельможе» дано «сокращение целых пластов мысли» и по силе сокращающей мысли эти строки равны целому исследованию.[11] Способность к таким завершающим resume обширных пластов европейской истории, и духовной и политической, породила на стилистическом микроуровне явление пушкинской поэтической – и исторической, поэтически—исторической – афористики, хорошо недавно описанное; она заставляет ум читателя двигаться по культурной истории «кратчайшим воздушным путём вместо извилистого на—земного».[12]
С этой способностью резюмирующей – по отношению к европейской культуре – совмещается наследование ключевых конфликтов этой культуры,[13] развёрнутое на большую глубину её истории и открыто сказывающееся в «Сцене из Фауста» и бол—динских трагедиях, – с переводом при этом европейского содержания на родную почву, – как, например, в известной стихотворной формуле «современного человека» в 7–й главе «Онегина» он перевёл психологическое содержание новейшего европейского романа, перед этим выставив его в оригинале – в европейском оригинале – в виде французского эпиграфа (разумеется, прозаического) ко всему роману в стихах – перевёл это содержание европейского романа и на русского современного героя, и на живой русский стих.
Кажется, при возрастающем внимании к Пушкину в мировой филологии всё же она ещё недостаточно отдает себе отчёт в том факте, что Пушкину принадлежит вот такое центральное положение в европейской культурной истории, а не только почётное место в русской литературе.
Для веймарской классики и для Пушкина античность была живой – так сказано у Михайлова: она «ещё и не кончилась к этому времени» – к началу XIX столетия, – она, конечно, далёкое прошлое, но лишь чисто хронологически, по существу же она – «всегда рядом». Но так – «всегда рядом» – она в последний раз. Когда Блок в иную эру будет говорить о Пушкине, он после уже достоевского посвящения поэта в пророки (а Достоевский хотел покончить с античным образом Пушкина, и он начал строить о Пушкине миф христианский[14]) вернётся к гоголевскому: Пушкин – «сам поэт»:[15] всё это – Пушкин друг монархии, друг декабристов – «бледнеет перед одним: Пушкин – поэт. Поэт – величина неизменная».[16] И Блок примет от Пушкина руководящее имя Аполлона и будет от имени Аполлона описывать дело поэта – освобождение гармонии из «безначальной стихии»; но по отношению к пушкинской античности это будет уже неизбежная и напряжённая стилизация. В 1921 г. в устах Блока это имя одновременно и архаично, и злободневно, злободневно—архаично (но скоро своим последним предсмертным жестом он разобьёт кочергой со злобой свой домашний бюст Аполлона, и это будет полубезумным и символическим жестом самоубийства поэта – «гротескный эпилог классической драмы», по слову Г. С. Кнабе; и невозможно не связывать этот предсмертный эпизод с той ролью, какую имя Аполлона играло в блоковской пушкинской речи).
И ещё – есть соблазн заметить, как аверинцевская формула мгновенной исключительности Пушкина сближается по эпитету с пушкинским определением случая как «мощного, мгновенного орудия Провидения». В самом деле, ещё раз – что значит и почему – мгновенная исключительность? Это значит, что сам Пушкин хоть и явился, конечно, результатом какой—то литературной эволюции, но не простым «закономерным» её результатом, а вспышкой, солнечным взрывом, т. е., по—пушкински, в ходе литературных закономерностей он возник как счастливый случай. Это можно обосновать научно, филологически, а не оставить риторическим восклицанием; замечание Аверинцева и есть такое кратчайшее обоснование по близкому ему как филологу—классику признаку отношения к античности.
Есть стихотворение, в котором пушкинский европейский размах нагляден, и оно же, это стихотворение, даёт почувствовать, что такое Пушкин – заклинатель и властелин стихий. В начале жизни школу помню я…
Стихотворение живописует «начало жизни» – вероятно, лицейскую юность – как борьбу могучих духовных сил за душу отрока—поэта. Эти силы представлены такими символами, как школа и сад, за которыми – универсальные принципы: христианская школа и антично—языческий или же ренессансный сад. Сюжетный вектор пьесы таков, что отрок—герой убегает из школы в сад и там замирает перед кумирами античных богов. И там, в саду, пробуждается вдохновенье, рождается в нём поэт. Но и школа стоит за его спиной со своей незыблемой правдой. И полные святыни словеса…
Стихотворение это – один из камней преткновения в пушкинистской критике и выразительнейший пример удобопрев—ратности интерпретаций, оказывающихся полярно обратными, в каждом случае с известными основаниями. Оно толкуется либо как чисто историческое – картинка из раннего Возрождения – и тогда локализуется в Италии, хотя никаких прямых итальянских реалий там нет, есть только терцины; было даже предположение, поддержанное как будто некоторыми черновыми строчками, что это стихотворение о молодом Данте.[17] Либо как автобиографическое – и тогда оно локализуется в Царском Селе. Это во—первых, а во—вторых, выраженный в нем духовный конфликт обязательно разрешается в ту или эту сторону. Либо движение сюжета стихотворения это исторически прогрессивное движение от средневековой церковной «школы» как исторически старого к освобождающейся античности как новому (Ренессанс), либо тот же сюжет, напротив, это духовное движение вспять от православной иконы (с которой отождествляется аллегория—символ величавой жены) к языческим идолам как олицетворению эстетического соблазна, и всё стихотворение это воспоминание о таком пережитом в отрочестве и сказавшемся далее на всём пути поэта могучем соблазне.[18] Второе толкование пушкиниста—священника примыкает к традиции пастырских толкований, открытых ещё в 1899 г. митрополитом Антонием Храповицким; что касается двух кумиров, составляющих фокус и точку высокого напряжения в тексте пьесы, то в понимании митрополита Антония собственно древнего, собственно античного в них ничего уже не осталось; они полностью переводятся без остатка на язык православного понимания как бесы – «демон гордыни и демон разврата».[19]
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Уже замечено, что это у Пушкина формула творческого состояния: И быстрый холод вдохновенья / Власы подъемлет на челе– в стихотворении из той самой здесь описанной юности.
Да, но не прямо ли в тексте сказано: То были двух бесов изображенья? Пушкин внес этот резкий акцент в последний момент работы над текстом; вначале там стояло: То были двух богов изображенья (3, 866[20]). Тем самым он сделал подарок нынешнему благочестивому пушкиноведению, которое принимает прямо от Пушкина это сильное слово как пушкинскую оценку языческой красоты. Это действительно сильное и ударное слово в тексте, но Пушкин свой голос с ним не сливает. «Бесы» здесь названы как христианский псевдоним античных богов, и Пушкин эту ортодоксальную точку зрения, можно сказать, цитирует. Этим сильным словом два кумира здесь припечатаны, но ведь никак не исчерпаны – и, вопреки митрополиту Антонию, собственное их эллинское качество сияет из—под этой печати. И, припечатав, это слово здесь ничего не решает – не разрешает напряжения, а его создаёт. Неразрешённое напряжение между двумя мировыми силами и составляет стихотворение. Во внешней форме это выражено незамкнутостью повисшей рифмы в безостановочном беге терцин. Как очень часто у Пушкина, считать ли стихотворение незавершённым – это вопрос. Формальный признак незаконченности – отсутствие отдельно стоящего замыкающего стиха, как в заключении каждой песни «Комедии» Данте. У Пушкина в двух его «Подражаниях Данту» (пародийных) такой завершающий стих присутствует; но он отсутствует в нашем стихотворении, словно повисшем вместе с незамкнутой рифмой на открытом противоречии—напряжении. Но тем самым оно и кажется если не завершённым, то самодостаточным в соответствии со своим огромным смыслом.
Смысл же тот, что «в начале жизни» – не только жизни поэта, но и его поэзии – стояли универсальные впечатления, и переходы из школы в сад и обратно были для отрока путешествием по духовной истории европейского человечества. Из его христианской истории отрок—герой убегал в его античное прошлое, но исторически старое в свежем опыте нового человека являлось ему как живое и новое – та самая ещё живая античность, о которой писал Михайлов; древние статуи, замечал о стихотворении Гоголь, говорят ему «живей науки».[21] Но и эта странная живость недвижных кумиров является как демоническое их свойство – это магическое присутствие языческой древности в христианском мире. И православное отношение к статуе как к языческой прелести в самом деле с силой звучит в этом самом – «бесов изображенья». Тема оживающей статуи подробно рассмотрена в пушкинистской критике, в отношении же к этому стихотворению – ужасно—прекрасный пушкинский Пётр из «Полтавы» ведь есть не что иное, как наша метаморфоза дельфийского идола – это было замечено Г. П. Федотовым.[22] «Кумир» недвижный и оживающий как обозначение языческой государственности – и как причина царского запрещения «Медного Всадника». Ужасно—прекрасный эллинский бог совершает свои превращения в русской истории – и вот оказывается, что вся противоречивая полнота Петра у Пушкина восходит к детскому впечатлению от кумиров сада.[23]
В общем, стихотворение это – объём – непримирённых огромных сил. Христианская школа и языческо—ренессансный сад. Если, в самом деле, это лицейская юность, то это о том, как историческим объёмом уже тогда наполнилась биография. И – по примеру стихотворения этого – и сам феномен Пушкина доступен только такому – объёмному пониманию. Поэтому несовместимые определения могут дать иногда такое объёмное понимание. Как, например, Константин Леонтьев возражал на речь Достоевского. Против Пушкина пушкинской речи Леонтьев выставил образ, совсем на него не похожий: проповедь Достоевского, так он сказал, неприложима «к многообразному – чувственному, воинственному, демонически—пышному гению Пушкина».[24] К такому Пушкину просто не имеет отношения пушкинская утопия Достоевского.
Речь Достоевского открыла путь христианской пушкинистике уже нашего века, Леонтьев ему отвечал четырьмя языческими эпитетами. И нечто такое в них подчеркнул, от чего нам в Пушкине не уйти и что погашено в лике, выписанном Достоевским.
И вот такое резкое раздвоение обнаружилось в этом споре: пророческое явление русского духа – и демонически—пышный гений. Раздвоение, видимо, не беспочвенное настолько, что и сейчас, век спустя, два эти контрастные образа оспаривают друг друга в нынешних спорах, в таких контрастных, к примеру, и по тому же, в общем, типу событиях нынешней пушкинистики, как, скажем, деятельность В. Непомнящего и книга Абрама Терца.
Гениальная формула Аполлона Григорьева, к которой надо теперь возвратиться, гениальна именно этим – своей объёмностью.
Стихии – вот важное слово, которое он этой формулой ввёл в национальную пушкинологию и от которой она никак не может потом отделаться – оно станет, например, лейтмотивным словом в выступлениях Блока и Цветаевой. Стихии как органические силы жизни, которым даёт язык поэзия. Два слова у Григорьева определяют отношение поэта к этим затопляющим и питающим его стихиям: сочувствия и борьба. Без «отзывчивости» (слово потом перейдёт от Григорьева к Достоевскому) к стихийным началам жизни (а они, по определению, – силы донравственного порядка или нравственно—непросветлённого, смешанного) и поэтических к ним «сочувствий» – творчества нет; равно его нет без поэтической же борьбы.
Эти стихии творчества представляют у Пушкина диапазон от первобытных природных в собственном смысле стихий до исторических и духовных сил и целых культурных миров, также требующих борьбы и одоления, заклинания, каковы в особенности сложившиеся блестящие, как говорит о них Григорьев, европейские идеалы, с которыми «мерялся силами» наш поэт (Байрон, Фауст и т. д.) – но и родные начала тоже: Пугачёв и Белкин как полюсы русской жизни – тоже стихии творчества.
За драматизацией картины следует её мифологизация. Когда теоретики символизма станут в начале нашего века выкликать Орфея как имя, благословляющее их движение, Вячеслав Иванов даст ему в статье 1912 г. определение, почти повторяющее григорьевское о Пушкине: «заклинатель хаоса и его освободитель в строе».[25] Как для Вячеслава Иванова, так и для Аполлона Григорьева, как в Орфее, так и в Пушкине, определение говорит о магической силе поэта, покоряющей и цивилизующей в случае первопоэта древнего прежде всего стихии природные и хтонические (Аид), в случае первопоэта русского как «культурного героя Нового времени»[26] – прежде всего исторические и культурные. Но и первоначальные также в их причастности к человеческой истории и вечной с нею борьбе: как Орфей в походе аргонавтов усмирял волны, так Пушкин в «Медном Всаднике» их заклинал, а в двух строках:
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной
– дал весь объём своего стихийно—культурного космоса и своей поэтической личности, в том числе и как «певца империи и свободы», по Г. П. Федотову. Две пейзажные строки в завязке «Медного Всадника» заключают в себе всю драму поэмы, потому что живой человек (Евгений) гибнет, как между этими двумя строками, между стихиями волны и камня – державного города. Но та же пушкинская парадигма стихии и порядка, «натиска» (оппозиции по—европейски, бунта по—русски) и «отпора» работает у него на другом материале и в ином оценочном освещении – там, где он заинтересованно наблюдает чуждые русской жизни пружины европейской парламентской демократии:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.
Помянутый уже Леонтьев любил цитировать это – но не как определение английского парламентаризма, а как формулу пушкинской гармонии, которую он видел как гармонию гераклитова типа – гармонию поэтической борьбы, а не мирного унисона; приписывание такой гармонии мирного унисона Пушкину он и оспаривал в речи Достоевского.
Аполлон Григорьев описывал пушкинские стихии, ведущие за поэта и с ним борьбу, как «силы страшные, дикие, необузданные», готовые растерзать.[27] В точности так, как был растерзан Орфей вакханками.
Если теперь вернуться к стихотворению «В начале жизни школу помню я…», то можно и его рассматривать как парадигму к григорьевской формуле. «Пушкин выносил в себе всё», – писал Григорьев.[28] Он выносил в себе со времён лицейской юности и кумиров сада, «двух бесов изображенья», чтобы болдинской осенью их заклясть как творческую стихию своей поэзии. Но как заклясть? В стихотворении вопрос не решён и выбор не сделан, отрок смущён и как бы раздвоен. Отрок – меж двух огней, на растерзании, он заклял их как бесов, но только создал тем напряжение, остающееся неразрешённым. Как заклясть поэтически? Это в силах не отрока, а поэта. В его силах подняться над ярким чувственным впечатлением и ввести его в духовный горизонт; организовать во внутреннем мире встречу миров исторических – двух культурных эонов – и взвесить спор, не решая его.
Так он в болдинском стихотворении заклинал мировые духовные силы. И тогда же в болдинской поэме – грозные силы родной истории, пробуждающиеся в самом поэте. Это у Пушкина редкое место, где внутренний механизм овладения и заклятия обнажён – XI–XII строфы «Домика в Коломне».
Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредём
Одни или с товарищем вдвоём.
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию…
Высокий каменный дом вырос на месте сметённого цивилизацией домика в Коломне, и вот какое мстительное чувство давить приходится. О связи этого места с разбойно—пожарно—революционными мотивами русской литературы мне случалось писать:[29] непосредственно вспыхнувшее переживание автора сродни пугачёвской стихии русского бунта и способно смыкаться с ней; в движении литературы оно отзовётся пожарными сценами «Бесов» (уже не Пушкина – Достоевского), а в потенции поведёт к «мировому пожару» Блока, отдавшегося, по его признанию, стихии в своей поэме. Запирайте етажи… – обращено ведь как раз к высоким каменным домам. Так что странное и внезапное грозное место в шутливой поэме уводит к большому контексту – не только пушкинскому, но русскому историческому, и обнажает те самые, по Григорьеву, «сочувствия» и «борьбу». Как писал об этом месте «Домика в Коломне» Роман Якобсон, огонь, который тушит здесь в своей душе поэт, – это «огонь, с которым жила поэзия Пушкина».[30]
Заклинатель и властелин многообразных стихий – это определение кажется слишком эффектным чуть ли даже не какой—то эстрадной эффектностью, но оно же кажется конгениальным Пушкину. Конгениальным тем динамизмом и драматизмом, с какими в нём передаются не гладкие свойства поэзии Пушкина, а та борьба, какая её составляла.
1999
2
Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., 1967. С. 173.
3
Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч.: В 14 т. Изд. АН СССР. 1937–1952. Т. VIII. С. 50. (Далее в ссылках на это издание в настоящей книге: Гоголь, том и страница.)
4
Б. В. Томашевский. Пушкин. Современные проблемы историко—литературного изучения. Л., 1925. См.: Б. В. Томашевский. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 54.
5
Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 78; Он же. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 167.
6
Б. В. Томашевский. Пушкин. Работы разных лет. С. 64–65.
7
Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. Стлб. 975.
8
Эти тезисы Томашевского определяли главное направление развивавшейся пушкинистской науки; но в её же границах и в те же годы было высказано и радикально иное понимание целей и методов изучения Пушкина: в книге 1926 г. П. М. Бицилли, не вступая в спор с Томашевским, противоречит ему по всем главным пунктам: «Пушкина можно ценить и изучать его по—разному (…) Достойнейшим предмета подходом был бы подход не био—или библиографический, не школьно—философский, не историко—литературный, а эстетический (…) Пушкина же приличествует изучать вне времени, сопоставляя его – если сопоставления, вообще, нужны – с такими же великанами поэтического творчества, а не с поэтами „его“ школы и „его“ стиля» (П. М. Бицилли. Избранные труды по филологии. М., 1996. С. 384). Противотомашевский и противотыняновский (говоря объективно) пафос заявлен здесь откровенно.
9
М. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 165.
10
А. В. Михайлов. Языки культуры. М., 1997. С. 509, 578.
11
Л. В. Пумпянский. Тургенев и Запад // И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Орёл, 1940. С. 97.
12
Ирина Роднянская. Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней // Ирина Роднянская. Движение литературы. М., 212006. Т. I. С. 30.
13
Н. В. Беляк, М. Н. Вирорайлен. Маленькие трагедии как культурный эпос новоевропейской истории // Мария Виролайнен. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003.
14
Почему—то ещё не отмечено, что он произнёс свою речь в самый Троицын день (8 июня 1889; Пасха в этом году пришлась на 20 апреля; можно произвести несложный подсчёт), и, несомненно, он проецировал событие Пятидесятницы на «почти даже чудесную» пушкинскую способность «перевоплощения своего духа в дух чужих народов» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 26. С. 146. Далее в ссылках на это издание в настоящей книге: Достоевский, том и страница).
15
«Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше…» (Гоголь. Т. VIII. С. 381).
16
А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 160.
17
Д. Д. Благой. II Gran Padre (Пушкин и Данте) // Д. Д. Благой. Душа в заветной лире. М., 1979. С. 164.
18
Б. А. Васильев. Духовный путь Пушкина. М., 1994. С. 177–190.
19
Митрополит Антоний. О Пушкине. М., 1991. C. 7.
20
Здесь и всюду далее в этой книге отсылки к пушкинским текстам даются непосредственно в тексте статей с указанием тома и страницы Большого академического Полного собрания сочинений Пушкина в 17 т. (Изд—во АН СССР, 1935–1959).
21
Гоголь. Т. VIII. С. 384.
22
«Пусть ужасный лик Петра в „Полтаве“ божествен (…) Но что это за божество? (…) Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока—поэта?» (Георгий Федотов. Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике. М.; СПб., 1999. С. 382).
23
Имя второго беса характерно двоится для двух направлений пушкинистской мысли. Более академическому пушкиноведению проще видеть в нём Афродиту—Венеру (впрочем, и православному пониманию тоже: «демон разврата» митрополита Антония). Пушкинознанию мифологизирующему хочется видеть здесь Диониса—Вакха, на что наводит, кажется, эпитет «женообразный», мифологически и мистически точный, поскольку женственные черты Диониса (именно – «женообразные») – его характернейший мифологический признак (см.: Ф. Ф. Зелинский. Древне—греческая религия. Пг., 1918. С. 51; А. Ф. Лосев. Античная мифология. М., 1957. С. 151). Мережковский первый в 1896 г., наверное, не без Ницше, опознал Аполлона и Диониса в пушкинской паре («Пушкин в русской философской критике», с. 121). Если это так, то это значит, что Пушкин здесь в двуединой паре прямо, можно сказать, увидел будущую проблему европейской мысли задолго до Ницше и Вячеслава Иванова, увидел этот пластический парный образ в его «двуипостасном, нераздельном и неслиянном единстве» (Вяч. Иванов. Дионис и прадионисий—ство. СПб., 1994. С. 217), увидел его как жгучий вопрос; этот факт ещё не оценен. Таким опознанием «двух бесов» проблемное напряжение пьесы ещё повышается. Но, наверное, опознание это навсегда остаётся открытым.
24
К.Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 313.
25
Вяч. Иванов. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 706.
26
М. Н. Виролайнен. Культурный герой Нового времени // М. Ви—ролайнен. Речь и молчание. С. 111.
27
Аполлон Григорьев. Литературная критика. С. 172.
28
Там же. С. 168.
29
С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 187–190.
30
Роман Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987. С. 240.