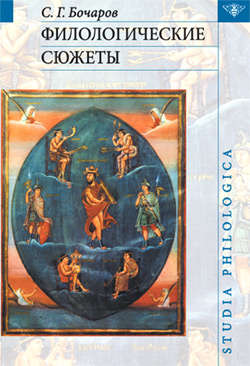Читать книгу Филологические сюжеты - С. Г. Бочаров - Страница 3
Пушкин
«Форма плана»
ОглавлениеПримечание 2003 г. к статье 1965–го. Эта статья была написана в 1965 г. для будущей книги «Поэтика Пушкина» (1974), но почему—то потом в неё не вошла. Почему—то потом она вообще никуда не вошла: дважды, в 1985 и 1999, я собирал свои книги работ за разные годы и мог включить «Форму плана», но почему—то, опять же, не захотелось. Так статья и осталась единственный раз напечатанной в 1967–м в «Вопросах литературы», № 12. Мне казалась потом она сухо и жёстко написанной – «форма плана» словно голый сухой чертёж. В том, что я пробовал писать об «Онегине» после, мне хотелось этот теоретический остов одеть стилистической плотью, и эти онегинские этюды более поздние («Стилистический мир романа», «О возможном сюжете») отодвинули старый текст как черновой набросок. Но недавно, получив предложение от петербургской «Азбуки» перепечатать его в томе разных работ о романе в стихах (проект, очевидно, не состоявшийся), я согласился охотно. Всё же он что—то выразил тогда, в те 60–е, которые были ведь поворотом не только политическим в нашей истории. Всё совершалось синхронно вместе в истории и в филологии. Помню, как вышла статья, и вскоре я побежал в библиотеку искать статью неизвестного мне тогда Ю. Н. Чумакова о составе текста «Евгения Онегина» в журнале «Русский язык в киргизской школе» за 1969 г.; в статье были понимающие ссылки на мою «Форму плана», и я почувствовал отклик и что, наверное, это было не зря. И вот теперь, десятилетия спустя, Юрий Николаевич Чумаков пишет очерк истории интерпретации «Е. О.» от Белинского до наших дней и там говорит про 60–е годы как про эпоху особую именно в пушкинознании и в онегиноведении прежде всего (см.: Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999) – и ссылается в подтверждение на онегинские статьи И. М. Семенко, первые онегинские работы Ю. М. Лотмана тех лет и на мою «Форму плана»; надо, конечно, восполнить этот ряд выступлением самого Чумакова на исходе десятилетия. Время нового взгляда на Пушкина, поворота внимания открывалось тогда, в середине 60–х. А именно: на смену социологической эпохе и разрозненным сопоставлениям кусков романа с внешней действительностью приходила поэтика, и с ней – имманентное понимание пушкинского романа как организма. Наверное, этот поворот к имманентному узрению внутреннего устройства романа как организма сказался и в той моей статье. Надо было начать рассматривать онегинский мир изнутри, чем всё—таки пушкинознание неохотно занималось. Попытка была сродни тогда же начавшимся поискам структуральной поэтики, но сразу же рядом с нею наметились и иные, соседние, параллельные русла исканий – поэтики исторической и, скажем самонадеянно, феноменологической. Исторической поэтикой в «Форме плана» пока и не пахнет, но влечение к чему—то вроде феноменологического анализа, сработанного достаточно кустарными и топорными средствами, вероятно, имело здесь место. Хотелось вместе филологического и бытийного чтения пушкинского романа. Хотелось увидеть его не только как поэтический текст, но и как некий онтологический универсум, «модель мироустройства» (как скажет позже о нём уже упомянутый Чумаков). Вот то, что я могу сегодня сказать в оправдание повторной публикации давней статьи.
7 февраля 2003
Пушкин писал: «единый плод Ада есть уже плод высокого гения» (11, 42).
Пушкин заметил это, когда в Михайловском строил дальше начатый на юге роман в стихах. Я думал уж о форме плана / И как героя назову… – тогда ещё, в Одессе, было сказано в завершение первой главы. Буквально это относилось как будто к другому замыслу, ироническому, классической поэмы песен в двадцать пять, мимо которого и вместо которого поэт сейчас начинает свой неклассический роман. Но, конечно, именно о его форме плана он и думал, а как назвать героя и героиню, прямо в тексте и размышлял. Посылая из Михайловского в печать ту же первую главу, он говорил в предисловии к ней: «Всякой волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного» (6, 638). План целого романа строился постепенно в ходе его рождения на протяжении лет – и в то же время в каком—то виде он роману предшествовал как предварительная стратегическая задача. Завершало же весь роман, уже в Болдине, знаменитое ретроспективное признание о дали свободного романа когда—то в начале пути. В беловой рукописи знаменитой строки, однако, был вариант: И план свободного романа / Я сквозь магический кристал / Ещё неясно различал (6, 636). Пушкин зачеркнул «план» и поставил «даль». Замена, можно сказать, интересная теоретически. Названы на месте одна другой две творческие силы, которые одновременно и непрерывно действовали при многолетнем формировании сво—свободного романа. Даль – это его открытый сюжет, в дали не видно конца. План – это целостный образ, предусматривающий завершение, план предварительно охватывает как бы контур будущего романа и предусматривает известную цель сюжетного движения; план телеологичен как предварительная программа и стратегическая концепция. Ещё неясно, но автор в начале романа уже его различал.
Единый план пушкинского романа в стихах есть уже плод высокого гения. Это, можно сказать, наиболее общая мысль романа. И что здесь важно: он не только осуществлён в романе, но и рассмотрен автором прямо в тексте его. Перед нами самосознание литературы в начале её большого пути, притом самосознание литературы в её собственной форме, пластически воплощённое как архитектоника, план. Поэтическая постройка «Онегина» содержит своего рода теорию романа (и пушкинскую теорию литературы вообще) – не как отвлечённую систему, а как живое созерцание. Это «теория» в изначальном греческом понятии (зрелище, созерцание, умозрение). Попробуем же предаться и мы подобному созерцанию «формы плана» пушкинского романа.
1
В заключительных стихах первой главы «Евгения Онегина» поэт изображает себя проверяющим свою работу:
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу…
Это признание напоминает об эпизоде, пересказанном в воспоминаниях Катенина о Пушкине. Катенин, когда Пушкин ему читал «Руслана и Людмилу», нашёл в поэме много «несообразностей» и, удивляясь, спрашивал поэта, «над кем он шутит?». «Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не сказывать».[31] Этот эпизод теперь словно изображён в «Онегине»; но Пушкин играл в разговоре с Катениным, и теперь он вводит эту игру в роман. Он изображает нам самокритику автора, который почему—то не хочет исправить противоречия своего труда, хотя видит их хорошо. Наивного автора изображает автор отнюдь не наивный и в высшей мере самосознательный как художник; и этот автор романа сам таким способом указывает нам противоречия в собственном тексте, обращает наше внимание, почти демонстрирует их. Отказываясь «исправить», он внушает нам взгляд на эти противоречия как на что—то более серьёзное и неустранимое, чем только ошибки авторской субъективности. Автор знает, что дело здесь не решить «исправлением недостатков».[32]
В тексте первой главы, если его прочитать «критически», пересмотреть всё это строго, вслед за поэтом, мы в самом деле заметим противоречия. Определения и характеристики в разных местах главы как будто друг с другом не согласованы. Вот строфа, рассказывающая о дружбе условного «я» с Онегиным: Я был озлоблен, он угрюм. Два эти образа очевидно «не вяжутся» с образами «я» и Онегина, какие очерчены по соседству. После лёгкого и как бы поверхностного в самой интонации описания молодого повесы, философа в осьмнадцать лет и почётного гражданина кулис немотивированно и неожиданно возникают «черты» Онегина, которые «нравились» другу—автору: Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлаждённый ум. Онегин противоречит себе, и он не только не равен себе, но, кажется, не имеет связи с самим собой. Ряд определений в эпизоде «дружбы» – обратное отражение первоначальных определений Онегина: роковое Страстей игру мы знали оба соответствует контрастно и несовместимо науке страсти нежной, строка И злости мрачных эпиграмм – строке Огнём нежданных эпиграмм. Это Онегин «с разных сторон», аспекты Онегина, наблюдаемые с различных позиций. Определения «с разных сторон» ощутимо не сведены воедино; их нельзя сложить, присоединить друг к другу, «дополнить» одно другим и так составить единое представление об Онегине: например, положить рядом в единой рамке и совместить науку страсти нежной и страстей игру; логика противоречия, по которой они соотносятся, отрицает формальную логику соединения «черт». Единство пушкинского героя другого порядка, чем единство «статического героя», против которого в свое время хорошо писал Ю. Тынянов.
Я – партнёр Онегина в сцене дружбы – тоже не представляет статического единства. Я, который озлоблен, открыто не равен тому, кто воскликнул: Прелестны, милые друзья! Я, который «озлоблен», замкнут в своей озлобленности и полностью слит с партнёром, который угрюм и замкнут в своей угрюмости; эта тонкая дифференциация оттенков только подчёркивает единство тона. Томила жизнь обоих нас; / В обоих сердца жар угас; / Обоих ожидала злоба… – в этой картине совсем забыта, исключена та разность между Онегиным и мной, которую, как оказывается в конце главы, всегда рад заметить я.
В первой главе «Онегина» парадоксально даны и герой, и образ я, и их взаимное отношение. Но отношение я и Онегина ещё по—особому парадоксально: отношение то ли двух персонажей – «приятелей» (как в строфах о «дружбе»), то ли автора и героя романа. Эмпирически замечаемые в тексте первой главы «противоречия» («замеченные» самим поэтом, будто бы необдуманно их допустившим, а не сознательно их построившим) ведут нас к такому противоречию, которое проникает весь план романа «Евгений Онегин» и представляет в его композиции «узел».
2
Узел завязан уже во второй строфе, где Онегина представляют читателю. С героем моего романа / Без предисловий, сей же час / Позвольте познакомить вас: / Онегин, добрый мой приятель, / Родился на брегах Невы… Инерция гладкого восприятия пушкинского стиха маскирует противоречие этих строк; однако посмотрим: здесь дважды рядом автор ориентируется по отношению к герою совсем не одинаковым образом. Здесь же и непременный третий член отношения – читатель, к которому это обращено и который в следующих строках является так же двойственно – как читатель романа и вместе с тем на общей с героем романа почве: Где, может быть, родились вы, / Или блистали, мой читатель; / Там некогда гулял и я.
Онегин родился, читатель блистал, я (автор) гулял – все трое сошлись в той же самой действительности, в одном измерении, рядом. Мой приятель – герой моего романа: «в то же время» и «в том же месте». Связующее все элементы картины местоимение «мой» устанавливает это единое измерение, строит общую плоскость; но то же местоимение разводит по разным плоскостям и мирам. Ведь мой герой никак не то же, что мой приятель. Это общее «мой» относит к одному источнику эти два отношения и одновременно распределяет их в разных сферах. Онегин для Пушкина существует как мой герой, мой Евгений: он принадлежит поэту как творение принадлежит творцу, произведение автору, он неразрывен с поэтом как образ его сознания, его духовное порождение. Мой приятель – это другая фигура рядом со «мной» в окружающем материальном мире.
Если исследователи «Онегина» справедливо считают, что я романа, приятель Онегина – это лицо, не равное автору, образ романа, и его не следует смешивать с Пушкиным, то, с другой стороны, противоречие именно заключается в том, что этот же я отождествлён, совмещён и смешан, представлен как автор романа. Отношение «автор – герой» отождествляется с отношением я – приятель: словно четыре лица из двух, мир в квадрате, два ряда, парадоксально совпавшие в один. В самом деле, действительность, в которой встречаются автор, герой и читатель, – действительность фантастическая, хотя и географически точно помечена на брегах Невы и о ней рассказано в бытовом разговорном тоне. Действительность эта – гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с «миром» романа; исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью.
Но не забудем: Противоречий очень много, – и среди них, едва мы откроем «Онегина», впечатление от второй строфы. Этот отождествлённый сдвоенный мир являет противоречие, источник которого – подобие романа действительности, «художественный мир» в романе. По—видимому, в «мире» романа мы можем найти всё то, что в мире, «с которого пишут» роман, он расположен на тех же брегах Невы. По—видимому, можно поэтому их совместить, эти два плана, наложить друг на друга до их совпадения в каждой точке. Естественная мотивировка такого отождествления – единство личности я, человека и автора вместе, который может равно сказать: мой приятель, мой герой, мой читатель. Именно личность художника сама по себе и сама в себе совмещает два мира, два опыта, которые всякий другой человек – читатель – переживает уже совершенно раздельно: литературу и жизнь. Единство романа «Евгений Онегин» – это единство автора; это, можно сказать, «роман автора», уже внутри которого заключён «роман героев», Онегина и Татьяны. Этот первый в русской литературе сознательный, «настоящий» роман – ещё не обычный роман героев «в третьем лице»; речь о героях «в третьем лице» здесь окружена и словно бы предопределена речью «в первом лице», исходящей из я; эта лирическая предпосылка сразу заявлена композицией притяжательных местоимений первого лица, регулирующих внутренние отношения романа как «мои» отношения. Лирика пушкинского романа – не в «лирических отступлениях» (во всяком случае, не главным образом в них), не на периферии или в отдельных участках, но прежде всего в основании целого, в этой универсальной роли местоимения мой, в том, как охвачен эпос героев образом авторского сознания. «Евгений Онегин» – «не роман, а роман в стихах – дьявольская разница»: вот чрезвычайно важное уточнение, имеющее в виду не только факт стихотворной речи, но принципиальное структурное отличие от прозаического романа «в третьем лице». «Роман в стихах» – «дополнительная» характеристика, органически отвечающая «дополнительному» качеству «Евгения Онегина» как романа; форма романа в стихах отвечает лирической предпосылке эпоса третьих лиц, тому «первичному» отношению в первом лице, которое опосредует отношения изображённого «мира» романа героев.
В «Онегине» нам не дано забыть об авторе за героями, и объективность романа обращена постоянно в образ сознания, воображаемую реальность. Прости ж и ты, мой спутник странный, – Онегин, которого автор вдруг решает оставить в минуту, злую для него, хотя и не умер в сюжете романа, лишь остановленном в этой решительной точке, на наших глазах обращается в поэтическую тень и в самом деле прекращает своё существование вместе с концом романа, о начале которого, «рождении», столь же духовном, когда—то, поэт вспоминает тут же: С тех пор, как юная Татьяна / И с ней Онегин в смутном сне / Явилися впервые мне. Опять противоречий очень много (уже в итоге всего): спутника странного с житейским добрым приятелем, моего идеального с моим бытовым.
«Евгений Онегин» изображает сознание автора, универсальную сферу, объединяющую миры действительности и «второй действительности» – романа. Сознание я – человеческое созна—ние, со множеством эмпирических и случайных черт, как у всякого человека; и оно же – сознание необычное, сознание—демиург, обладающее особой силой словно удваивать жизнь и творить её заново. Сознание автора отражает тот внешний мир, в котором пребывает «моё» человеческое «я», и в то же время воображает повторно мир, изобретает роман. Этот процесс «удвоения» жизни и переживания той и другой как моей для поэта – на наших глазах в «Онегине». Пушкин, можно сказать, изображает теоретическую проблему в живом человеческом виде, строя роман как образ сознания автора; эта проблема – отношение романа и мира. Сознание романиста в своей непосредственности является живым таким отношением.
Пушкин изображает сознание «поэта действительности», как он определил себя сам:[33] роман как будто бы совпадает с действительностью, повторяя её. «Мир» романа как будто бы то же, что мир вокруг, они двойники, и эти две плоскости проецируются одна на другую и совмещаются. Свои два опыта автор неразличимо даёт как мои, единым планом в единстве я рисуя два отношения к миру. И вот герой моего романа и мой приятель – одно лицо. Но этот мир совмещает несовместимое: он фантастичен, хотя он кажется натуральным. В несовместимых позициях оказываются автор романа и я – двойник, лицо из романа, приятель, который озлоблен, и пр. Такую картину являет отождествление «мира» и мира, романа и жизни, естественно мотивированное единством личности я – человека и автора вместе. Но это единство – живое противоречие (живое не фигурально, а прямо в виде живого я), и оно плодит противоречия в тексте, те самые, что «замечает» поэт в заключение первой главы. Композиция Пушкина изображает единство и противоречие романа и жизни как внутреннее единство и противоречие особой личности – автора. «Поэзия действительности» отождествляет себя с действительностью на страницах «Онегина», роман, подобный жизни, будто бы сознаёт себя прямо жизнью, поэт существует уже в двух мирах как в одном, но неожиданно для наивного реализма совмещённая эта реальность показывает себя нереальной и невозможной; смешанный мир на брегах Невы – фантастический «мир в квадрате», и он раздваивается в наших глазах; разделяются как «две вещи несовместные», как два нетождественных отношения – герой моего романа и добрый мой приятель. Миры разделяются внутри единого я поэта: отождествляя своё сознание автора и своё бытиё человека, он сам с собой оказался в несовместимом противоречии, он должен физически раздвоиться, чтобы быть верным этому тождеству. Смешение миров, отождествление романа и жизни (изображённое сознание автора – наивного реалиста) становится сознательным разграничением у настоящего автора романа «Евгений Онегин», Пушкина, «поэта действительности».
Роман открывается внутренним монологом: Так думал молодой повеса. Сразу, без предисловий, мы в его мире и вместе с ним, в его «внутреннем мире» даже. Но тотчас же во второй строфе заплетается узел противоречий, и нам представлен герой моего романа – как будто бы в той же плоскости то же лицо, однако он явлен нам по—другому. Уже мы не вместе с ним и видим его из другой действительности как героя романа. Автор снова объединяет и смешивает, но через это как раз разделяет и раздвигает, строит дистанцию именно там, где, кажется, совсем потерял её. Мы в независимом мире «внутри», вместе с его людьми, не знающими о творении и творце, и даже автор «гуляет» по этому миру его персонажем, и мы вне этого мира вместе с его создателем, на космической позиции по отношению к этому миру. Замкнутый образ мира в романе плюс образ романа: эти два плана вместе – единый план романа в стихах. Роман героев изображает их жизнь, и он же изображён как роман. Мы прочитываем подряд:
В начале нашего романа,
В глухой, далёкой стороне…
Где имело место событие, о котором здесь вспоминают? Нам отвечают два параллельных стиха, лишь совокупно дающих пушкинский образ пространства в «Онегине». В глухой стороне, в начале романа – одно событие, точно локализованное в одном—единст—венном месте, однако в разных мирах. В глухой, далёкой стороне взято в рамку первым стихом; мы их читаем следом один за другим, а «видим» один в другом, один сквозь другой. И так «Евгений Онегин» в целом: мы видим роман сквозь образ романа.
Итак, роман героев не равен роману Пушкина, их границы не совпадают. Роман Пушкина «больше» (или «шире») романа героев: образ мира в романе «в третьем лице» объемлется образом сознания автора «в первом лице». Этот «плюс» к роману героев именуют обычно «отступлениями», следом за словом автора в тексте (5, XL); между тем, мы видели, это в известном смысле первоэлемент романа Пушкина, первичная реальность его. Речь «от автора», образ «в первом лице» не отступает от главного в сторону, но обступает со всех сторон. Роман Онегина сразу показан как мой роман, Онегин – как мой герой. Это универсальное мой – предпосылка всего, чем наполнен «Евгений Онегин»; всё, что сюда из мира вошло, вовлечено этим личным моим отношением, помечено первым лицом, является с этим знаком. Мои богини! что вы? где вы? Я шлюсь на вас, мои поэты, Весна моих промчалась дней, Нет, не пошла Москва моя: все первые лица из одного источника и ведут к одному центру и этим равны друг другу. Но в то же время они не равны: герой моего романа – добрый мой приятель. От единого центра эти мои отношения разно направлены в окружающий человеческий мир или же в «мир» романа. Переходами первого лица и строится разноплановая композиция романа в стихах. Г. О. Винокур писал, вспоминая формулу об «энциклопедии русской жизни» Белинского: «Но в этой энциклопедии все отделы подписаны одним и тем же именем, и потому для неё понадобилась необычная и специфическая форма. Эта форма должна была позволить автору не только вместить весь его материал в одну общую раму, но также совместить различные пласты этого материала и разместить его надлежащим образом в соответствии с замыслом».[34]
Нам надо ближе теперь рассмотреть, как материал совмещён и размещён «в одной общей раме». Парадоксальный смешанный мир, который сложился уже во второй строфе и тут же стал разделяться, и в целом плане романа членится и распадается, чтобы снова отождествляться, объединяться в целое; членится сплошное повествование, бегущее непрерывно. Сложность пушкинской композиции – в одновременности чувства единства и несовместности; несовпадающие реальности скрываются в том, что можно на материале романа определить однозначно как «мир», «действительность», «я»; структура их образов неоднородна, разноречива. В сплошной действительности, представленной Пушкиным, нам различается не одна, а, пожалуй, несколько неоднородных «действительностей» (и им соответствующих повествовательных рядов в одном непрерывном повествовании), переходящих одна в другую, парадоксально соотнесённых. Их можно было бы условно определить как «действительность Онегина» (роман героев, в собственном смысле роман), «действительность я» (человеческий опыт я, его лирика, «отступления»), наконец, «действительность автора», пишущего роман. Эти действительности «продолжают» одна другую, так что человеческий опыт я совмещается с действительностью Онегина, а в свою очередь я естественно совмещается с автором. Результат, однако, парадоксален: образовавшийся из этого совмещения планов единый план и есть тот несовместимый мир, который мы созерцаем уже во второй строфе. Мир, где живут герои романа и здесь же пишется этот роман, – в той же самой одной общей плоскости.
В давней статье В. Шкловский писал об идее «одного остроумного художника» иллюстрировать в романе Пушкина не сюжет Онегина и Татьяны, а главным образом «отступления»: «…с точки зрения композиционной это будет правильно».[35] Однако именно с точки зрения композиционной это будет так же односторонне (вероятно, всё—таки более односторонне), как иллюстрировать только сюжет героев. Для В. Шкловского в той статье собственно композиционная роль принадлежит у Пушкина «отступлениям», перебивающим роман героя с Татьяной и показывающим конструкцию вместо наивного переживания «жизни», показывающим эту изображённую жизнь как лишь «материал для сюжетного оформления». Но «жизнь» романа сама по себе уже есть композиция и как таковая участвует в более общей у Пушкина композиции целого; она соотносится с областью «отступлений», а они ведь тоже являются «жизнью»; целая композиция возникает из этого отношения планов. Мысленно зримый эквивалент композиции этой – как будто двустворчатая развёрнутая картина, диптих, дающий нам обозреть «расщеплённую двойную действительность»[36] в параллельном созерцании и взаимосравнении планов. Так что читающее сознание «смотрит» на две стороны от композиционной оси – мы видим героев в их ситуациях, а рядом параллельной серией кадров: я бродит у моря и ждёт погоды, сходится при разъезде на крыльце с семинаристом в жёлтой шале иль с академиком в чепце, пишет в уездной барышни альбом, душит трагедией в углу, доволен, въезжая в Москву, и пр. «С точки зрения композиционной» интересно и важно, как переходят одна в другую эта действительность я и изображённая «жизнь» романа героев – продолжает одна другую в едином мире или они взаимно относятся как—то иначе и их не соединить в одном измерении.
Кажется по всему, что Онегин и я измерены одними предметами, присутствуют вместе в мире; действительность я и роман героев приравнены, совмещены в одной общей плоскости.
Вот, например, из множества случаев такого приравнивания масштабов: Так люди (первый каюсь я) / От делать нечего друзья – заключение из рассказа о том, как сошлись Онегин и Ленский. Всё время это сугубо частное я меряется с действительностью героев, оказываясь «внутри». Я по разным разрозненным случаям является нам своими отдельными эмпирическими состояниями: Я помню море пред грозою, Я знал красавиц недоступных, Я русской речи не люблю, Ах, братцы! как я был доволен; среди них моментальное «фотографическое» отражение жизненных обстоятельств поэта в то самое время, когда это пишется, синхронность строки и жизни, совпадение образа я и Пушкина 1823 года, в Одессе, с его будущей жизнью, такой же открытой и неизвестной, свободной в возможностях, как неизвестна, открыта и впереди туманна даль свободного романа, только что начатого:
Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Эта лирика я в романе куда эмпиричнее, необобщённее, чем собственно лирика Пушкина. Читатели из близкого личного круга склонны были, особенно поначалу, именно так эмпирически воспринимать роман в стихах как личное отражение автора, звук его голоса: «Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Милионной» (Катенин Пушкину 9 мая 1825: 13, 169). Вяземский писал А. Тургеневу уже в 1828 году: «„Онегин“ хорош Пушки—ным, но, как создание, оно слабо».[37] Приятели—литераторы читают роман, словно слишком близко смотрят картину. В самом деле «Онегину» свойственна «живописность» – в том смысле, что мы будем иначе воспринимать его, «то приближаясь, то отходя», и эмпирические «мазки», «движения кисти» обратятся в «создание» на дистанции. В плане «создания» именно так огромной дистанцией обусловлена лирика я, личное отражение самого Александра Пушкина. Личное эмпирическое далеко не тождественно творческому сознанию автора, и непосредственность я весьма опосредована дистанцией.
Итак, опыт я как будто укладывается с опытом персонажей в одной действительности. Я рассказывает «историю» по личным воспоминаниям и общим впечатлениям; но, собственно говоря, лишь в первой главе это так. Уже начиная с главы второй тон рассказчика не может быть оправдан положением свидетеля, очевидца; но тон присутствующего продолжается и вне этой мотивировки: Но Ленский, не имев конечно / Охоты узы брака несть… По—прежнему и до конца «автор присутствует в романе среди своих героев»,[38] но человеческое присутствие обращается в идеальное соприсутствие автора. Рассказчик, который видит и слышит, становится автором, который знает, но автор в себе сохраняет того же рассказчика. Словом, не прекращается до конца колебание, удвоение мира, его пространства и всех его отношений. Колеблется непрестанно позиция я, и амплитуда её колебаний заключена между эмпирическим первым лицом – приятелем и рассказчиком в одном масштабе и в рост с персонажами, или частным человеческим Пушкиным – и Пушкиным—духовидцем, творцом, сознанием автора, всё объявшим, и в том числе это малое я.
Автор противоречит приятелю, мы помним, уже во второй строфе. Модификации я все представлены сразу в первой главе, все переходы и превращения в этой широкой рамке: приятель, лицо при герое – самостоятельная жизнь, «отступления» – автор, пишущий эту книгу. Изображу ль в картине верной / Уединенный кабинет…, Описывать моё же дело… – вот явления автора на месте другой ипостаси. Он не только описывает, но обсуждает здесь же свою работу: Что уж и так мой бедный слог / Пестреть гораздо б меньше мог., Противоречий очень много. Эти обсуждения профессиональных забот выглядят столь же случайными, эмпирическими, мгновенными, дневниковыми, как человеческая лирика я. И это всё как будто в том же ряду, что дружба с Онегиным, ибо поддерживается единство я. В самом деле, поэт продолжает естественно человека, «действительность автора» продолжает «действительность я»: воспоминание женских ножек или трудности с рифмой идут рядом и смешиваются в опыте я. Дела поэтические и профессиональные даны нарочно в общем ряду моей жизни: вместе служенье муз и «отрасль честной промышленности». Поэт «окружён» человеком, определяется в человеческой среде, и настоящему автору для сложной композиции целого нужна именно эта композиция я: нужны переходы жизни с поэзией и человека с поэтом.
На переходах этих основана композиция Пушкина. Как мы видим, для Пушкина была задачей не внешнего упорядочения, но внутренней организации смысла та задача распределения материала, о которой писал Г. Винокур: как совместить и как разместить материал романа в планах его композиции. Область я, человеческий опыт я продолжает роман героев, совмещается с ним как та же действительность; в свою очередь, автор естественно продолжает я—человека. Но это распространение мира в одной общей плоскости даёт неожиданный («нелогический») результат: жизнь и работа автора не могут лечь в одной плоскости с жизнью героев романа этого автора.
Но, значит, и человеческая действительность я, его общие впечатления с героем романа, его отступления – это тоже другой порядок, несовместный с порядком Онегина, раз тождественны я и автор романа. Я вместе с Онегиным в том же ряду и я – автор Онегина: самопротиворечивое, парадоксальное я. Но тогда противоречивы и двойственны все предметы, которые здесь обусловлены как мои: все эти общие вещи, из которых построен единый у автора и героя мир, – театр, деревня, красавицы, аи и бордо и пр. «Расщеплённая двойная действительность» возникает не просто из разного отношения ко всему этому я и Онегина; эти простые вещи сами по себе являют «расщеплённую двойную действительность», поскольку отношения к ним героя и автора не помещаются рядом в одном измерении, и скреплённый общностью этих предметов мир двоится на человеческий мир, в котором присутствует автор, и «мир» романа героев. Автор не из той же действительности вспоминает аи и бордо, когда описывает обед Онегина с Ленским. Общий предметный мир вокруг Онегина и в отступлениях я – это предметы – «прототи—пы» и их двойники в романе. Автор пересаживает предметы из своего житейского опыта в роман, помещает их в новую композицию, строит из этой предметности новый подобный мир. Предметность «Онегина» – одновременно жизненная среда и строительный материал. Вещи как будто совсем не меняются, переходя из окружения автора в окружение героя романа, и эта тождественность многих отдельных предметов возбуждает вопрос о тождественности, однородности либо несовместимости, разнородности этих миров в их целом. В композиции «Евгения Онегина» роман героев, особый замкнутый мир, охвачен сознанием автора, в котором роман незамкнут, открыт, его границы подвижны, он возобновляется и возрастает из жизни, и материал превращается в новую «жизнь» – то ли двойник настоящей, то ли действительно новое, духовное прибавление к ней.
Одно из очень интересных мест «перехода действительно—стей» в композиции «Евгения Онегина» – знаменитое заявление (неожиданное после картины слияния в «дружбе») про разность между Онегиным и мной:
Чтобы насмешливый читатель
Или какой—нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
По первой видимости, здесь речь идёт о психологическом различии между приятелями, их разном взгляде на деревенскую жизнь: повод для этого размышления. Но постепенно, строка за строкой, оно смещается из плоскости жизни в плоскость отношения литературы и жизни, автора и героя: Писать поэмы о другом.
В этом ином повороте понятия о разности и о другом имеют уже иное значение. Речь идет об особой проблеме «другого» – о собственно литературной проблеме. Имя Байрона – это отметка об эволюции Пушкина, столь стремительной, после романтических первых поэм, где автор не мог помыслить другого иначе, как только другое «я»: было именно невозможно писать поэмы о другом.
В строках о разности этот другой уже не рядом со «мной», но я обратился в другого. Два субъекта эти нельзя уже сопоставить как двух людей, нельзя их сличить. Поэтическое я переходит в объективность романа, обращается, становится ею и пребывает в этом другом объективном мире уже совершенно иначе, в качестве автора, нежели в практическом мире это я присутствует человеком. Позиция автора в мире романа принципиально несопоставима с какой угодно человеческой позицией в мире практическом; позиция автора истинно объективная, позиция целого. Автор равен целому созданного им мира, но не может быть равен целому мира, кто бы он ни был, один человек и, соответственно, не равен целому мира романа какой угодно его герой, Онегин не равен автору. В этом смысл размышления о разности, в процессе которого отношение двух друзей переходит в отношение автора с самим собой как с другим, не равным ему субъектом, бесплотным, рождённым в его голове другим человеком. И в этом смысл называния Байрона, ибо, в отличие от романа, в байронической поэме автор был равен герою, а герой был равен целому всей поэмы.
Об объективности и «протеизме» Пушкина писали множество раз, начиная с Киреевского и Гнедича; позже, в 40–е годы уже, об объективности Пушкина особенно ясно сказал Гоголь: «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина её нет. Что схватишь из его сочинений о нём самом? Поди, улови его характер, как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика». Для Гоголя объективность Пушкина – уникальная, идеальное поэтическое сознание: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше.».[39]
Как заметно расходятся эти характеристики с оценками близких друзей—литераторов в 20–е годы, в ходе возникновения «Онегина», по прочтении той или иной главы! Катенин и Вяземский, мы помним, замечали прежде всего самого Пушкина, «его характер, как человека», его разговор и весёлость. Они были близко и к Пушкину самому, и к его на глазах возникающему «созданию»: они ещё не имели целого и видели отдельные стихи или, самое большее, главы. Гоголь судит о Пушкине в целом с большой дистанции и временной и личной, ибо и личное его отношение совершенно другое, нет для него эмпирического житейского Пушкина, а есть «русской человек в его развитии» и есть «сам поэт».
Так роман в стихах по—разному воспринимается «слишком близко» и «на расстоянии», подобно тому как смотрится живописное полотно. Необходима дистанция, чтобы мазки превратились в формы, и необходима дистанция (чувство дистанции, которая есть объективно в романе, распределяет его отношения в плане), чтобы в полном объёме раскрылся основной в композиции всеобъемлющий образ я, который ступенями переходит от приятеля или частного Пушкина к сознанию автора, ставшему объективным миром романа, равному целой жизни. Этими переходами нам представлено удивительное явление – объективность поэтического сознания, его особая человеческая природа: ибо оно громадно перерастает и превосходит отдельное я поэта.
Поэтому в «Онегине» – разные измерения я. То и дело является частное я, единица большого мира: В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!; Иль просто будет добрый малый, / Как вы да я, как целый свет? Своего рода масштабом может служить фигура в нескольких строфах первой главы – мы уже говорили о ней. Сам Александр Сергеич Пушкин / C мосьё Онегиным стоит. Здесь образ я наиболее воплощён, вошёл в сюжет Онегина действующим лицом, из голоса обратился в тело. Здесь я вполне в той же самой действительности и в одном размере с героем романа; но этот я, наиболее воплощённый, наиболее отчуждён, ограничен, связан, условен, фиктивен. Он только озлоблен и всеми чертами Онегину равен; их разность начисто в строфах о «дружбе» забыта. Он даже «меньше» чуть—чуть своего приятеля, смотрит несколько, как ученик, снизу вверх: Сперва Онегина язык / Меня смущал; но я привык… Этим я—персонажем, словно масштабом, можно измерить соотношения планов в композиции романа в стихах. Сам Александр Сергеич Пушкин в широких границах я всего более далёк от настоящего Пушкина.[40] Вот почему нам кажется лишь относительно верным следующее замечание Г. Гуковского: «автор в „Евгении Онегине“ – не демиург мира, а лишь наблюдатель и комментатор событий, стоящий рядом с героями и не поглощающий их. Он равен им в качестве такого же объективного лица.».[41] Но это лишь малое я, и видеть в качестве «образа автора» только его – значит рассматривать слишком близко «живопись» пушкинского романа.
Пушкин наполнил роман в стихах отражениями своей биографии; но он в то же время советовал не жалеть о потере записок Байрона (в письме Вяземскому): «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». В знаменитых стихах он показал поэта как житейское существо:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Л. Гинзбург замечает об этом стихотворении, что, напечатанное в «Московском Вестнике», журнале русских шеллингианцев—романтиков, оно расходилось принципиально с их образом поэта, их представлением о тождестве жизни поэта с его поэзией и непричастности бытовой эмпирической жизни. «В своем „Поэте“ Пушкин, напротив того, изобразил человека двойного бы—тия.».[42]
Замечу кстати: все поэты – / Любви мечтательной друзья, – автор в «Онегине» рассказывает о своей поэтической эволюции. Он был прежде таким поэтом, как «все поэты», и сейчас вступил в другую эпоху. Бывало, милые предметы снились ему, их после Муза оживила: Так я, беспечен, воспевал / И деву гор, мой идеал, / И пленниц берегов Салгира. Опыты жизни (любовь) и поэзия слиты и представляют нечто тождественное: воспеваются под девой гор свои сугубо личные впечатления, переодетые и непосредственно возведённые в идеал воспоминания о милых предметах. Таковы все поэты: это в романе героев Ленский.
Теперь отношение личных опытов с творчеством совершенно иное. Они разделяются и даже противоречат друг другу. Но я, любя, был глуп и нем. Поэзия – не сублимация личных эмоций, и поэт свободен, не замкнутый в «человеке»:
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился тёмный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.
В другое время русской литературы и жизни Блок скажет в докладе о кризисе русского символизма: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком».[43] Это кредо поэта восходит в традиции нашей литературы к Пушкину как к началу.
В «Онегине» художник дан в жизни простым человеком. Сознанию я это собственное простое «я» представляется на дистанции, в ряду персонажей романа и с ними встречается, даже смешивается в этой сфере сознания. Образ я ступенями переходит от простого человека в непростое сознание, способное обратиться и стать другим, другим объективным миром, воссозданным в творческой композиции из эмпирических материалов этого мира, в котором «я» эмпирически существует.
Итак, композиция пушкинского романа – это противоречие автора с человеком в единстве я: живое противоречие, как мы говорили. Субъективное «я» человека переходит в объективность сознания автора, «жизнь» романа героев; но роман и герои – мои: в объективности сохраняется субъективная предпосылка, в авторе не угасает живой человек. В «Онегине» удивительный автор: в нем естественно и синкретно соединяются качества, какие в дальнейшем развитии русской повествовательной литературы уже, как правило, вытесняют друг друга. В повествовательной прозе растёт конфликт эпического автора и рассказчика: либо всезнающий автор присутствует идеально, безлично, либо потребность в мотивировке рассказа человеческим личным присутствием и свидетельством ведёт к замещению идеального автора реальным лицом рассказчика с неизбежно относительным и ограниченным «человеческим» кругозором. Если искать примеры, то, вероятно, Толстой тяготел к абсолютному автору, Тургенев – к рассказчику – «человеку» (близкому человеческой личности самого автора). Б. Эйхенбаум, исследуя раннего Толстого, показал, как Толстой находил постепенно «свою» позицию автора, как после «Набега» и «Рубки леса» с рассказчиком – действующим лицом, но сторонним наблюдателем и комментатором, в «Севастополе в мае» на место рассказчика явился автор и его голос, «голос уже не постороннего, а потустороннего существа»,[44] автор всезнающий и всевластный.
В «Онегине» подлинный, полноценный автор, сознание объективное, не замкнутое относительным «человеческим» кругозором. Это Пророк, в котором чудесно преобразованы человеческие способности:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Всё внял он, ни одного недоступного, тёмного уголка, по лестнице бытия от самого верха до самого низа, буквально от «А» до «Я»: теперь мы вспомним слово Белинского об «энциклопедии русской жизни», и мы почувствуем, сколь отвечает оно универсальной поэтической позиции Пушкина—автора. Также и Гоголь, чтобы сказать о Пушкине, обратился к понятию «лексикона».[45]
Но, по замечанию Г. Винокура, в энциклопедии «Евгения Онегина» все отделы подписаны одним именем. Идеальный автор присутствует не безлично, он не «потустороннее существо», как автор Толстого. Формы его присутствия – местоимения я и мой: Пророк с его сверхъестественным даром сохранил, однако, естественный грешный язык, и празднословный, и лукавый: «Роман требует болтовни», как наставлял Пушкин Бестужева, – но только роман в стихах осуществит это требование, не послепуш—кинский прозаический роман с эпическим автором. В «Онегине» настоящий всеведущий автор, однако всегда в себе сохраняющий человеческого рассказчика; но этому рассказчику не присуща предельность, ограниченность позднейших рассказчиков в прозе; рассказчик – и он же творец, демиург; но творец—профессионал, к творчеству своему относящийся как к честному ремеслу; Пророк, по слову Гоголя, «сам поэт», сама объективность, и вместе с тем эмпирический человек с биографией: противоречий очень много, но они не обособились пока, не разрушили органического живого единства. Живое противоречие я, живая и субъективная объективность повествования – «со всею свободою разговора или письма» – этого тоже хотел от романа Пушкин. После в литературе подобный автор уже невозможен – Пушкин «неповторим».
3
По мысли М. Бахтина, роман отличает «особая (новая) зона построения художественного образа, зона контакта с незавершённой современностью (осознанный отказ от эпической и трагической дистанции). Эпическая память и предание начинают уступать место личному опыту (даже своеобразному эксперименту) и вымыслу».[46] Эта характеристика освещает особенность плана пушкинского «Онегина», самосознательного романа.
«Онегин» именно построен в «зоне контакта с незавершённой современностью» и поэтому построен как отождествлённый мир романа и жизни. Этот смешанный мир демонстрирует отказ от эпической дистанции, о чём говорит М. Бахтин. В творческой эволюции Пушкина это отказ от дистанции, которая содержалась в самом материале романтических южных поэм. Тема «Кавказского пленника» была целиком современной, но материал отодвигал её на дистанцию. В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» автор предвидел, что «станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника». Современный этот характер в романе дан «без дистанции», создававшейся обстановкой Кавказа или цыганского табора.
Однако в этом изображении «без дистанции» заключена особая трудность искусства и его новое противоречие и проблема. Можно даже сказать, что с отказом от выраженной наглядно в самом материале дистанции и возникает проблема дистанции как осознанная задача искусства. Если современный характер – «антипоэтический», то дистанция, создававшаяся материалом Кавказа, делала его «поэтическим». В этом своём качестве герой становился равен поэтическому сознанию автора, речи его не изображались, но прямо произносились поэтом, объективность предмета сливалась с субъектом автора, или, что то же, объективная позиция автора была равна субъективной позиции героя поэмы. Обсуждая «Цыганов», Рылеев и Вяземский хотели большей дистанции для Алеко в его цыганской профессии, недовольные тем, что он ходит по сёлам с медведем: занятие Алеко само по себе должно было быть поэтическим. Такого рода дистанция от случайного, частного опыта, «прозы» сближала, до совпадения, тождества, всё частное и отдельное непосредственно с общим и целым. Специально поэтическая дистанция оборачивалась очень слабым её различением во внутреннем однородном пространстве поэмы.
Иная поэтика – внутренняя дистанция, выражающая отношение (всегда нетождественное) частного и отдельного к целому и всеобщему в мире произведения. А. Бестужев укорял Пушкина: «дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?» (13, 149). Это критика с точки зрения «поэтической дистанции». С этой точки зрения Онегин дан без дистанции, эмпирически. Пушкин отвечал: «Твоё письмо очень умно, но всё—таки ты неправ, всё—таки ты смотришь на Онегина не с той точки, всё—таки он лучшее произведение моё» (13, 155). Пушкин осознанно созидает роман, «как мир», подобно целому миру, и этим определяется его новый образ дистанции.
У Пушкина роман представлен копией, калькой мира. Копию приводят к оригиналу и получают парадоксальную композицию мира. Пушкин извлекает эффект своей композиции из подобия «мира» миру; он изображает отношение реальности и картины, предмета и образа предмета; он сопоставляет, сближает и переходит границу, снимает дистанцию, отождествляет, сливает изображение и предмет. Что из этого получается, мы уже знаем. Именно смелость нарушить границу и снять дистанцию показывает сознательного художника, показывает понимание проблемы дистанции. Когда, по рассказу поэта в «Онегине», он воспевал деву гор, мой идеал, то дистанция этого образа с бытовыми милыми предметами была куда как огромна; однако как раз поэт наивно, без всякой дистанции, субъективно, возводил непосредственно в «идеал» биографические впечатления, «любовь»: таковы все поэты. Иное дело – «поэт действительности», как наименовал себя Пушкин: он работает на близкой дистанции и должен не утерять её. Он должен совладать с новой трудностью, которая позже в Европе перед Флобером встанет в наиболее острой форме как необходимость вчувствовать себя в другую и чуждую человеческую натуру, максимально близко к ней подойти и в неё войти и при этом остаться вне, сохранить дистанцию. «Очень трудно, – пишет Флобер, – как следует выразить то, чего сам не перечувствовал; нужна длительная подготовка, приходится чертовски ломать голову, чтобы не перейти границы и в то же время приблизиться к ней вплотную».[47] Так «поэт действительности» у себя и в читателе развивает чувство дистанции при «наибольшем сопротивлении». Его дистанция, не выраженная непосредственно в материале, должна быть в большей степени отношением к материалу; близкая дистанция должна быть наиболее сознательной и активной дистанцией. Такую и строит в «Онегине» Пушкин.
По мысли М. Бахтина, существенную роль в подготовке романа как жанра сыграли в европейской литературе пародии и травестии эпических жанров; пародийно—травестирующее творчество поздней античности и средних веков разрушало эпическую дистанцию и вовлекало традиционные образы в контакт с «незавершённой современностью». В творческой эволюции Пушкина аналогичную роль в подготовке романа в стихах, несомненно, играли такие поэмы, как «Руслан и Людмила» и «Гавриилиада».
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты право, обманулась:
Я не тебя, – Марию описал.
Но она обманулась недаром: в описание прелестей Девы еврейка может смотреться как в зеркало. Мария изображена «без дистанции»; одна еврейка перед другой – портрет и живая модель за рамой, перед картиной. Автор в этих строках показывает дистанцию между настоящей вдохновляющей его реальностью и переодетым повествованием. В самом деле, мадонна срисована с этой еврейки, что глядится сейчас в поэму; между ними нет традиционной дистанции, а есть дистанция образа и предмета, портрета и живой натуры, существующей вне обрамления.
Итак, дистанция между романом и миром изображена в композиции «Евгения Онегина». Роман героев охвачен миром как более общим контекстом; но поэтому нам дано почувствовать также более общую связь и за пределами пушкинского романа. В превосходной статье о «Менинах» Веласкеса М. Алпатов говорит об этом полотне: «Глядя на то, как в картине Веласкес пишет портрет Филиппа, мы можем догадаться, что Веласкеса, который пишет Филиппа, писал Веласкес настоящий. Мы как бы восходим ко все более высокой степени реальности, но никогда не достигаем абсолютного».[48] Подобным образом в «Онегине», наблюдая различные превращения я от приятеля и самого Александра Сергеича Пушкина до автора, который пишет этот роман, мы знаем, что этого автора, этого Пушкина писал настоящий Пушкин. Дистанция между изображением и реальностью входит в роман как образ. Роман – лишь с живой картины список бледный, говорит нам это чувство дистанции.
Но такова лишь относительная истина для Пушкина; дистанция между романом и жизнью не абсолютная, она относительна, и это также показано в композиции. Её смысл поэтому так искажает популярное объяснение в духе «обнажения приёма», демонстрации художественной условности, «технологии», «лаборатории творчества» и т. п. Таким объяснением обесценен роман героев, повествование об Онегине и Татьяне, он превра—щён в подопытный материал, литературную игру, развенчанную иллюзию, разобранную игрушку. Но Пушкин серьёзен к художественной иллюзии, он только хочет поставить её в объективное отношение с миром. Пушкин со стороны рассматривает роман, но не из литературной лаборатории только, а из большего целого, чем роман и чем действительность, которая в нем «отразилась». Что до лаборатории, она сама изображена внутри действительности романа вместе с сидящим в ней и сочиняющим рифму поэтом. Формалистское объяснение не охватывает как раз всей конструкции, всего здания пушкинского романа. «Роман о романе» – этот титул не совсем лишён оснований, только определяет он не специально «технологическую», но объективную, художественно—космическую пушкинскую позицию.
Мы помним: автор, герой, читатель рядом сошлись в несовместимой действительности. Несовместимость, однако, бросается нам в глаза, когда мы исходим из отношения «жизнь – роман». Но отношение это не абсолютно, и Пушкин не замкнут в нём. За границами этого отношения в изменившейся перспективе оправдан построенный Пушкиным смешанный мир. Недаром он так естествен для единого я романа – человека и автора вместе. Противоречие и единство романа и жизни одновременно даны в единстве сознания я. В этом духовном космосе Евгений Онегин имеет свою несомненную реальность, соизмеримую с реальностью «настоящих» живых существ. В самом деле роман продолжает жизнь, является прибавлением к ней. Онегин не повторяет никого из людей, этой личности в мире нет, Онегин, хотя и духовно, рождён. В отношении к любому возможному прототипу Онегин – другой. Он не тень реального человека, он ещё один человек, реальный по—своему. Пушкин предусмотрел популярную литературоведческую методологию, когда написал: Сличая здесь мои черты. Сличая черты, нельзя Онегина перевести целиком в какого—нибудь человека – «натуру»; литературный герой с как угодно «похожим» действительным типом помещается рядом, как прибавление к бытию. Поэтому совмещённая композиция пушкинского романа, где Онегин и сам Александр Сергеич Пушкин гуляют рядом в общем пространстве, изображает единство романа и жизни в составе целого бытия.
Так наивность отождествления мира и «мира», романа и жизни делается оправдана как универсальная перспектива, всеобъемлющее воззрение Пушкина, тот энциклопедизм его, который был угадан Белинским. В энциклопедии в общем ряду помещаются вещи из разных сфер, и, например, Дон Кихоту может быть посвящена отдельная статья, наравне с Сервантесом. В энциклопедическом пушкинском мире свободно встречаются не только автор с героем, но герой с бытовыми знакомыми Пушкина и даже с героем другого произведения другого поэта, другого Пушкина: мой брат двоюродный, Буянов из Василия Львовича Пушкина. В «Онегине» мы читаем: …уверен, / Что там уж ждёт его Каверин; К ней как—то Вяземский подсел. Современному глазу в этих строках заметно внедрение непретворённого, «голого» факта, реальной сырой детали в «художественную ткань»; это станет потом интересной и острой проблемой искусства и его особенной трудностью: «Нос „реальный“, а картина—то испорчена», – как скажет Чехов о том, что случится, если в лице на картине Крамского вырезать нос и вставить живой. Вторжение сырого материала из мира разрушительно для замкнутого «другого мира» картины. В XX веке её размыкают, в самом деле вставляя живые носы или хронику в кинофильм, таким образом организуя напряженный контакт «реальностей». Но то, что становится после так напряжённо, у Пушкина существует как будто бы без усилия, не составляя как будто проблемы, являясь первоначальной целостью взгляда. Замкнутый мир романа героев не замкнут в изображённом сознании автора, и сам роман Пушкина одновременно завершён и не замкнут, открыт. Смешанная реальность Пушкина содержит в себе противоречивые истины, по отдельности каждая лишь относительна и предполагает истину более полную. Относительно подобие романа и жизни; но относительно также и их различие: то и другое нам говорит синкретическая композиция Пушкина.
Мы говорили об образе пространства в «Онегине»; несколько слов о другом всеобщем измерении – времени. Оно так же неоднородно и двойственно. Пушкин писал в «Примечаниях»: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Исследователи составили календарь событий романа Онегина (1819–1825). Пушкин сочинял роман с 1823 по 1830 г.[49] Примерно столько же времени пишется роман, сколько он длится. В «Евгении Онегине» есть время романа героев и есть время написания романа (время автора), также изображённое здесь, включённое в пушкинский роман вместе со временем героев. В построенном Пушкиным совмещённом, сдвоенном мире время автора «продолжает» время героев: история рассказывается с близкой дистанции в несколько лет, идёт по следам. Но мир двоится, и времена соотносятся иначе. Они, как ни странно, «одновременны». Герои живут, их роман продолжается, пока он пишется автором, и столько же времени, сколько он пишется. Так как автор дан человеком, и время написания романа дано «человеческим» временем – биографическим временем я. Я, пока пишет, меняется, обретает зрелость, познаёт глас иных желаний, влечётся к суровой прозе и пр. Перемена личного тона в последних главах мотивируется летами: так объясняется в пятой главе решение очищаться от отступлений, и, таким образом, расстояние от первой до пятой главы (три года жизни Пушкина) измерено эволюцией «я» – человека. В финале веха, отмеряющая личное, прожитое писавшим автором время, – воспоминание о тех, кому он строфы первые читал… / Иных уж нет, а те далече… Так в роман включено и время автора в промежутках между писанием строф. Герои в рамках романа живут такое же время, как автор, пока он пишет о них, и автор живёт и «вместе с ними» меняется «на столько же времени» самым естественным образом.
Ужель и впрям, и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
Так образ времени тоже являет в романе «незавершённую современность».[50]
Итак, «роман» в «Онегине» совсем не только лишь специально литературное дело, проблема романа гораздо больше литературной проблемы. Вспомним сюжет Онегина и Татьяны: проблема «романа и действительности» является жизненным делом их. Мы можем теперь, представив себе композицию «Евгения Онегина» на всех её этажах, заметить, что на разных уровнях повторяется, воспроизводится то же самое отношение.
Роман героев – «роман в романе», охвачен сознанием автора, действительностью автора, миром. Но если мы вступим в роман героев как в замкнутый мир, мы найдем, что здесь, в свою очередь, люди жизнью своей решают проблему «романа и жизни». В романе героев не только читают романы, но их «живут». Так живет Татьяна, и так она любит Онегина. Для нее Онегин – отождествлённый образ живого человека с милым героем. Реальность Онегина за романическими оболочками остаётся проблемой до самых последних страниц: проблемой не только сознания Татьяны, но жизни самого Онегина. Люди жизнью разбираются в себе и других как в действительных существах или же «персонажах». Проблема реальности выясняется во взаимосопоставлении замкнутых образов мира – сознаний, своего рода «романов», которые люди сооружают себе для жизни.
Отношение «жизнь – роман», таким образом, это внутреннее отношение и собственная проблема романа Онегина, мира героев. В свою очередь, этот последний представлен романом в романе, «миром» в реальном авторском мире. Но и этот авторский, настоящий мир оказывается ещё не последним целым в пушкинской композиции; в завершающих строках «Онегина» неожиданно ещё изменяется перспектива, и этот мир автора и людей рядом с ним, его друзей, которых иных уж нет в этом мире, – этот мир вдруг тоже оправлен в раму и созерцается тоже «романом»:
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл Её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Такова завершающая ступень в ступенчатом построении романа «Евгений Онегин».
1965
31
Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934. С. 636.
32
В недавней статье «Художественная структура „Евгения Онегина“» Ю. Лотман рассматривает «противоречия» в тексте романа как «художественно значимый структурный элемент» (Учён. зап. Тартуского ун—та. 1966. Вып. 184. С. 7).
33
В статье без подписи об альманахе «Денница», перелагая отзыв И. Киреевского (11, 104).
34
Г. Винокур. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин: Сб. ст. ГИХЛ. М., 1941. С. 172; Он же. Филологические исследования. М.: Наука, 1990. С. 160.
35
В. Шкловский. О теории прозы. М.; Л.: Круг, 1925. С. 161.
36
А. В. Чичерин. Идеи и стиль. М.: Советский писатель, 1965. С. 110.
37
Архив братьев Тургеневых. Вып. VI. СПб., 1921. С. 65.
38
М. А. Рыбникова. Автор в «Евгении Онегине» // М. А. Рыбникова. По вопросам композиции. М., 1924. С. 22.
39
Гоголь. Т. VIII. С. 382, 381.
40
«Пушкин также не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин» (П. А. Вяземский. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина // Полн. собр. соч. Т. II. СПб., 1879. С. 349; Он же. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 305–306).
41
Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. С. 144.
42
Лидия Гинзбург. О лирике. Л., 1964. С. 197.
43
А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 436.
44
Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. Л.:Прибой, 1928. С. 175.
45
«В нём, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка» (Гоголь. Т. VIII. С. 50).
46
М. М. Бахтин в контексте русской культуры ХХ века. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 135.
47
Г. Флобер. Собр. соч. Письма 1831–1854. М.; Л.: ГИХЛ, 1933.С. 281
48
М. Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.: Изд—во Академии художеств СССР, 1963. С. 251.
49
Годом позже отдельно написано письмо Онегина Татьяне.
50
Ср. замечание Америко Кастро в статье «Воплощение в „Дон Кихоте“»: до романа Сервантеса «нереальное время повествования и современное время писателя были несовместимы» (Americo Castro. Incarnation in «Don Quixote» // Cervantes across the centuries… N. Y., 1947. Р. 138). «Дон Кихот» и «Евгений Онегин», при очевидных конкретных различиях, связаны через века «перекличкой» как два романа, стоящие в начале литературного цикла, поэтому романы структурно самосознательные, с особым синкретным художественно—теоретическим характером, обширным, «космическим» планом и сложно расчленённым составом; эти «первые» романы «больше» («шире») следующих за ними более «типичных» романов. Очень остро чувствовал это различие Флобер, который писал о Рабле и Сервантесе: «Эти книги буквально подавляют. По мере того как всматриваешься в них, они вырастают подобно пирамидам и в конце концов начинают пугать. Какими карликами кажутся в сравнении с Сервантесом другие. Господи, каким чувствуешь себя маленьким! Каким маленьким!» (Г. Флобер. Собр. соч. Письма 1831–1854. С. 281).
Пушкинский роман в стихах вырастает тоже, по мере того как всматриваешься в него.