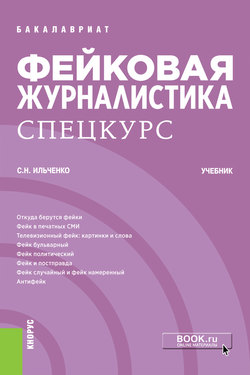Читать книгу Фейковая журналистика. Спецкурс - С. Н. Ильченко - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Где и когда родился фейк
ОглавлениеПублика предпочитает верить скорее дурным слухам, чем хорошим.
Сара Бернар
Термин «фейк» – это понятие, характерное для современной шоу-цивилизации. Последняя, по нашему мнению, проявилась в хронологических параметрах, связанных со сменой столетий. Что соответствует и тотальному внедрению в практику нынешних СМИ комплекса технических и технологических новшеств: от сетевых сообществ до новых способов сбора, обработки и распространения цифровой информации. В доцифровую эпоху в журналистских профессиональных кругах были приняты иные термины, обозначающие недостоверную, непроверенную, лживую информацию, доставленную до аудитории с помощью медиа. Проще говоря, слухи, сплетни, лживые сенсации. В доэлектронную эпоху подобное явление имело прямую коннотацию с печатными СМИ (газетами и журналами) и называлось газетной уткой. Это устоявшееся сочетание слов означает вранье, специально сгенерированную средством массовой информации сенсацию для привлечения к своему печатному органу интереса, увеличения популярности[7].
Мы определяем его как исторический синоним уже знакомого нам слова «фейк». Поэтому обратимся к опыту медиа прошлого, обращая внимание на то обстоятельство, что термин сохранил свое значение и тогда, когда протоформы фейковой журналистики получили развитие и распространение не только в прессе, но и в других видах СМИ. Обратимся к прошлому журналистики и вспомним, какие наличествуют версии об онтологических корнях столь звучного термина.
Существует несколько версий происхождения словосочетания «газетная утка». Одна из них была опубликована в дореволюционном юмористическом журнале Пятигорска «Курортная игла». Материал так и назывался: «Утка». Авторы обнаружили весьма показательный пример в публикации парижского издания «Земледельческая газета». Материал был напечатан в 1776 г. В нем читателям был предложен оригинальный способ ловли уток. По описанию автора, крупный желудь отваривают в растворе александрийского листа, затем привязывают к тонкому, но крепкому шнурку и бросают в воду. Естественно, утка сразу проглатывает желудь, но ввиду сильного слабительного действия травяного отвара он вскоре, пройдя вместе со шнурком через организм птицы, выходит наружу. Затем этот же желудь проглатывает вторая утка, и с ней происходит то же самое, затем третья и т. д. Автор статьи утверждал, что один судебный пристав таким образом поймал 20 уток. Будучи нанизанными на шнур, они взлетели и подняли в воздух «незадачливого охотника»[8].
Резюме автора очевидно: описанный текст был назван чудовищной нелепостью, выданной за факт. Этот текст вызывал много споров и обсуждений в конце XVIII в. С тех пор уткой называют высосанные из пальца известия.
Академик Виктор Виноградов в свое время предложил и описал иной вариант происхождения термина «утка»[9]. Брюссельская газета времен Наполеона славилась сенсациями. Робертом Корнелиссеном был опубликован материал о прожорливости уток. Как сообщал журналист, над утками ради доказательства их прожорливости провели эксперимент. Двадцать уток по одной разрубали на части (и перья, и кости) и отдавали собратьям на съеденье. И так делали с каждой следующей уткой до последней, пока не осталась всего только одна, наевшаяся мясом и костями и напившаяся кровью 19 уток. Эта «упитавшаяся» утка – синоним неправдоподобных газетных новостей.
Третья версия происхождения интересующего нас словосочетания происходит из Франции. В XVI веке получило распространение выражение vendre des canards à moitié, что означало «обмануть». Дословный же перевод таков: «наполовину продавать уток». Слово же canard из французского позже, в середине XIX в., перешло в английский язык и стало означать обман, фабрикацию. До сих пор во Франции существует газета Canard enchainee, дословный перевод названия которой «Утки, летящие в одной связке»[10].
В Интернете можно найти варианты[11] появления термина «утка», связанные с фонетикой: непроверенный, неизвестный источник журналистами британских газет было принято обозначать N.T. (от англ. nottestified – «неустановленный, неопределенный»). Естественно, что эти определения относились к источнику информации. Эта версия также справедлива, если принимать во внимание смысловой и фонетический факторы. Ведь звучание «Эн-те» похоже на немецкое (die) Ente – «утка».
Специалисты по исторической фонетике вспоминают и опыт христианского богослова, инициатора Реформации Мартина Лютера. Он для обозначения неправды использовал в речи слово Lügenda. Слово прошло ряд трансформаций (Lugende – Lüge – Ente), и осталась «утка» – Ente.
Шотландское дерево с плодами-утками вместо фруктов, падающими при созревании, утки на деревьях Гебридских островов Индии, деревья, на которых растут раковины, из которых вылупляются утята, – все эти выдумки и стали причиной ассоциативного сравнения утки и лживой информации.
В России слово «утка» в значении «газетная выдумка» является буквальным переводом европейско-газетного жаргонного термина. В русский язык это понятие вошло не ранее второй половины XIX в. в связи с оживлением прессы в эпоху Великих реформ Александра II.
Надо сказать, что ХХ в. был весьма щедр на практическую реализацию методов легализации неправды и лжи в деятельности СМИ, независимо от их вида, организационно-правового статуса, национально-государственной принадлежности и т. д. И если учитывать то обстоятельство, что в первой половине прошлого столетия доминирующими каналами распространения массовой информации были печатные СМИ и радио, то очевидно, что именно в их поле деятельности как раз и доминировали те самые утки. Вторая половина ХХ в. стала временем завоевания телевидением первенства в семье традиционных медиа. Ему не было чуждо, как мы увидим в дальнейшем, распространение лживой, непроверенной, тенденциозно подобранной и обработанной информации в разных форматах и жанрах. Это, в свою очередь, и формировало предпосылки для появления и утверждения такого феномена современного общества, как шоу-цивилизация. Телевидение как СМИ сыграло в этом определенно ключевую роль.
Укоренение в медийной практике сетевых ресурсов и каналов, связанных с информацией и ее распространением, пришлось (особенно в нашей стране) на самое начало нового века и нового тысячелетия. Можно сказать, что именно Интернет как коммуникационный феномен как раз и потвердил гипотезу о шоу-цивилизации как подавляющей все иные каналы распространения информации и влияния на аудиторию силы, тотального инструмента формирования иллюзии виртуальности. И все это – вместо адекватного отражения в СМИ картины окружающей нас эмпирической действительности.
Однако термин «утка» не прижился в профессиональном обиходе тех, кто занимался радио и телевидением в прошлом веке. Коннотация термина с прилагательным «газетная» осталась неизменной. В обоих вариантах электронных СМИ, чей расцвет пришелся на разные периоды прошлого столетия, для определения неадекватности прозвучавших и показанных журналистских материалов чаще всего использовались термины «розыгрыш», «ошибка», «недоразумение», «искаженный факт», «неправильная информация», «мистификация», «симуляция реальности», «дезинформация», «мистификация» и другие близкие по смыслу и значению.
В подобном контексте появление термина «фейк» сняло ряд проблем для теории и практики журналистики, но никоим образом не изменило негативную оценку подобных примеров и явлений.
Стоит более пристально проанализировать субъективные и объективные причины его появления. Здесь мы обращаемся к философскому осмыслению такого понятия, как «общество спектакля», которое было замещено шоу-цивилизацией. Ги Дебор отмечал, что «в обществах, достигших современного уровня развития производства, вся жизнь проявляется как огромное нагромождение спектаклей. Все, что раньше, переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление»[12].
В современном новостном поле образы заменили достоверную информацию. Медийные образы и медийные символы постепенно заменяют и вытесняют реальность происходящего, образы и символы формируют ежедневную новостную повестку.
Отметим, что фейк современные теоретики журналистики определяют как признак такого философского явления, как шоу-цивилизация. При слишком активном заполнении СМИ фейковым контентом аудитория постепенно начинает терять доверие к источнику информации и, следовательно, к каналу распространения данной информации – к СМИ.
Понимание спектакля как общественных отношений между людьми, опосредованных образами, дает методический ключ к пониманию происходящего в медийном пространстве. Вследствие того, что контент СМИ влияет на повседневную жизнь населения, а также помогает обществу принимать те или иные решения, замена реальных фактов образами, фейками может оказать губительное влияние на жизнь населения города, страны или мира (в зависимости от типа и значимости СМИ).
Искаженную, или фейковую, повестку – спектакль – может формировать несколько акторов. Государство (в лице президента, правительства, отдельного ведомства) проецирует на массовую аудиторию тезисы норм и установок ежедневного устройства страны. Собственную фейковую реальность могут формировать сотрудники и (или) собственники СМИ, например, главные редакторы или редакторы, которые ежедневно занимаются отбором новостного контента, формируя контент-повестку. Подчеркнем, что искаженную реальность продемонстрировать аудитории на телевизионных каналах проще, потому что контент доходит до конечного пользователя информацией сразу через несколько каналов потребления контента: видеоряд, аудиоряд.
Принято считать, что новостной сюжет никогда не может отражать истинную реальность, настоящее, что это всегда вторичная реальность. Зачастую он трактуется как особое ремесло, как метод моделирования реальности. «Чего нет в новостях – нет на самом деле», – так считает один из практиков современного телевидения К. Гаврилов.
Такое открытое понимание, что сюжет новостей – это всегда вторичная реальность, демонстрирует не только то, что зрители привыкли воспринимать ту или иную информацию определенным символичным образом, привыкли к симулятивному телевидению. Также, создавая такой новостной сюжет вторичной реальности, журналист, исходя из творческого осмысления происходящего, может реализовывать собственные творческие замыслы даже в условиях относительной несвободы в работе СМИ.
В зарубежный медиадискурс такое явление, как fake news, вошло в середине XX в. Таким термином теоретики медиа и зрители называли не ложные новости, а пародийные сюжеты в комедийных телешоу. Первая такая комедийная передача появилась на американском телевидении в 1970-е гг., программа Weekend Update являлась новостным скетчем юмористической программы Saturday Night Live (формат вечернего шоу). Такой скетч авторы-сценаристы задумывали как шуточный, пародийный выпуск новостей на телевидении. Такие сюжеты представляли собой сатирические скетчи, которые сохранили свою популярность и по сей день. Так, экс-ведущий программы The Daily Show Джон Стюарт в 2008 г. вошел в топ самых авторитетных журналистов США.
В современном дискурсе фейковые новости – это синоним искаженной информации. Об этом вы сможете узнать в следующих главах данного учебного пособия. Пока же мы отметим, что многие современные теоретики полагают, что в основе фейкового контента, фейковой новости лежит дезинформация.
Словарь Ожегова дает следующее определение этого понятия: дезинформация – ложная информация.
Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что феномен фейка является следствием таких явлений философии постмодернизма, как симуляция, симулякр, гиперреальность. Раскроем эти базисные теоретические понятия.
Термин «гиперреальность», характеризующий феномен, который описывает симуляцию действительности, а также неспособности человеческого сознания отличить реальное от фантазии, особенно в условиях технологически развитых стран, введен французским философом-постмодернистом Жаном Бодрийяром.
Как отмечают современные исследователи, «гиперреальность, выступающая одним из базовых концептов миропонимания Жана Бодрийяра, характеризует ситуацию, когда феномены истины, адекватности, реальности перестают восприниматься в качестве онтологически фундированных и воспринимаются в качестве феноменов символического порядка»[13].
Когда журналисты формируют картину дня, когда выбирают главную новость или то, какие проблемы будут освещать, а какие не будут отражены в СМИ, они формируют гиперреальность, искусственную реальность. Как видно из вышеописанного, не всегда журналистскую реальность можно назвать фальшивой, но всегда следует считать ее вторичной.
Процитируем самого автора термина: «В этом переходе в пространство, чье искривление не относится больше ни к реальному, ни к истине, эра симуляции открывается уничтожением всех референтов – хуже: их искусственным воскрешением в системах знаков… <…> Речь не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об операции устрашения всего реального процесса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, про-грамматичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при этом все перипетии»[14].
И далее. В средствах массовой информации контент, информация, «предстоящее потреблению событие отфильтровывается, дробится, перерабатывается целым индустриальным конвейером производства»[15].
Сообразно данному дискурсу первичная подлинная реальность – это происходящее вокруг нас, событие, непосредственным участником которого является индивид; то, что личность воспринимает самостоятельно с помощью органов чувств. Обработав информацию, журналисты предоставляют собственной аудитории вторичную реальность – продукт-симулякр, новости-симулякры, мнения-симулякры, симулятивный контент.
Об этом достаточно определенно писал Жан Бодрийяр: «Симулякр – это имитация несуществующего. Симулировать – значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. В постмодернистской ситуации, где реальность превращается в модель, оппозиция между действительностью и знаками стирается и все превращается в симулякр»[16].
Идеи Бодрийяра также развивали современные исследователи Ролан Барт, Маршалл Маклюэн, Славой Жижек, Мишель Фуко, Жиль Делез. Например, именно Ролан Барт указывал: «Во вторичной системе (мифологической) причинность искусственна, фальшива…»[17]. Информационные сообщения при этом всегда отражают переработанную, вторичную реальность. Также, по мнению другого ученого, «владельцы средств коммуникации всегда стараются дать публике то, чего она хочет, ибо они чувствуют, что их власть коренится в самом средстве коммуникации, а не в сообщении или программе»[18].
Сообразно этому власть журналистов – в их каналах коммуникации. Как отмечалось выше, наиболее полно формировать искусственную реальность могут телевизионные журналисты, которые обладают несколькими каналами доставки контента.
Аудитория телевидения имеет возможность воспринимать информацию, представленную ей, как непосредственный участник происходящего на экране, как очевидец происходящего и полноценный участник события. Такое главное качество телевидения, как визуальность, позволяет ему показать аудитории событие напрямую.
С помощью визуальности телевизионные журналисты имеют прямую возможность моделировать настоящее время.
Ж. Бодрийяр, например, называет божественные образы, иконы ирреферентными божественными симулякрами, или симулякрами божества[19]. Телесюжеты, следуя данной логике, можно называть подобными иконами реального. Журналисты имеют возможность создавать, например, симулякры вождя, царя, сильного лидера, демонстрируя сюжеты про политического лидера. Власть может быть заинтересована в подобных гиперреалистичных сюжетах, обосновывая это тем, что для поддержания влияния ей необходимо напоминать массовому зрителю о себе. Кроме того, имеют журналисты и возможность дискредитировать актора, явление, проблему или тему, подбирая соответствующие факты и формируя необходимую картину происходящего.
Для создания симулякров журналисты прибегают к приемам мистификации, дезинформируя собственную аудиторию. Иногда весьма лапидарным и простым: «Если телеграф укоротил предложение, то радио укоротило новость, а телевидение впрыснуло в журналистику инъекцию вопросительности»[20].
Событие, которые демонстрируют и описывают журналисты в новостях в СМИ разного типа и вида, и события, которые происходят в реальности, всегда являются разными вещами.
Симулякр и фейк являются одними из основных категорий постмодернистской философии. Жан Бодрийяр считал эпоху постмодернизма эпохой тотальной симуляции. «Становление концепции симулякра, связанной, прежде всего, с именем Жана Бодрийяра, – отмечает Н. Маньковская, – проходило параллельно развитию теории деконструкции Жака Деррида. Впрочем, Бодрийяр снискал себе „несколько двусмысленные титулы мага постмодернистской сцены, гуру постмодерна, Уолта Диснея современной метафизики, меланхолического Ницше, подменившего сверхчеловека смертью субъекта“. <…> Идеи Деррида и взгляды Бодрийяра – теории разных уровней»[21].
Симуляция действительности, симулятивная реальность неизбежно наполняют современный новостной контент. Фальсификации в телесюжетах на российском телевидении стали похожи на короткометражные фильмы в стиле mockumentary. «Фальсификация, подлог стали настолько привычными, что любая, самая дикая конспирологическая теория находит множество поклонников и обыватель задается вопросом: а был ли, собственно, Холокост? А не подделали ли средневековые рукописи? А высадка на Луну не удачная ли телепостановка? Традиционная картина мира более ненадежна», – отмечает Станислав Зельвенский[22].
Важно еще и то, что информация массмедиа больше «не имеет ничего общего с „реальностью“ фактов; „реальность“ также уже протестирована»[23]. Постепенно размывается и само теоретическое понятие «факт» в журналистике, а также само явление журналистики факта. Все это сохраняется в печатной деловой элитарной прессе как некий символ элитарной культуры.
На средствах массовой информации лежит ответственность перед большим количеством людей. Именно массовые новостные источники могут формировать полную картину мира для аудитории (особенно той ее части, которая потребляет новости только через один канал информации). Так как большинство все-таки потребляет новости с помощью такого источника, как телевидение, у телевидения больше власти и влияния над умами аудитории. Таким образом, у телевизионных журналистов есть возможность замалчивать некоторые события, а из некоторых создавать мнимые, симулятивные сенсации.
«Именно телевидение обладает способностью пробуждать к жизни наше коллективное бессознательное, – констатирует ситуацию В. Соловей, – активировать древние и фундаментальные структуры мышления – мифы и архетипы. Миф – это не ложное знание, это важнейший способ структурирования мира, восходящий к незапамятным временам»[24].
Миф, симулякр, фейк в таком случае не ложное знание, а важнейший способ структурирования мира, восходящий к незапамятным временам. Безусловно, следуя вышеописанной логике, важно различать ложь и симуляцию, фальсификацию. «Скрывать – значит делать вид, – дает расшифровку своих идей Ж. Бодрийяр, – что не имеешь того, что есть на самом деле. Симулировать – значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Одно отсылает к присутствию, другое – к отсутствию»[25].
Можно смело утверждать, что фейк глубоко внедрился во все сферы жизни общества. Населению сложно осознать, где реальность, а где вымысел. Аудитория привыкает к повторяющимся маркерам, которые отличают медиа от любых других источников информации: любой сайт можно сфабриковать под новостной ресурс, добавив несколько символов значимых и известных СМИ, сопроводив видеоряд экспертным комментарием и добавив характерное аудиосопровождение, любой телесюжет или видеосообщение можно выдать за новостной сюжет. Дальнейший вывод из подобного посыла становится весьма критичным.
«Именно поэтому все вооруженные ограбления, угоны самолетов и т. д. являются отныне в каком-то роде симулированными ограблениями – в том смысле, что все они заранее расписаны в расшифровке и ритуальной оркестровке медиа, предопределенные в мизансцене и возможных последствиях, – усугубляет критику современного общества Ж. Бодрийяр. – Короче говоря, там, где они функционируют как ансамбль знаков, обреченные только на повторение знаков, и совершенно не на их „реальную“ цель. Но это не делает их безобидными. Наоборот, именно как события гиперреальные, не обладающие в сущности ни содержанием, ни собственными целями, но бесконечно преломленные одни другими, именно в этом они неконтролируемы со стороны порядка, способного осуществляться только по отношению к реальному и рациональному, причинам и целям, со стороны референциального порядка, который может царить только в референциальном мире, со стороны детерминированной власти, которая может управлять только детерминированным миром и которая ни на что не способна в отношении этого бесконечного повторения симуляции, этой невесомой туманности, не подчиняющейся больше законам гравитации реального, сама власть начинает дезорганизовываться в этом пространстве и становится симуляцией власти (отделенная от своих задач и конечных целей и обреченная на эффекты власти и массовой симуляции)»[26].
Все новостные сюжеты оправдывают коллективный набор знаков, который посылает массовая аудитория. Подбирая необходимых экспертов или необходимый видеоконтент, журналисты фальсифицируют реальность. Впрочем, очевидно, исходя из вышеописанного, что часто визуальные доказательства-маркеры носят заранее сконструированный характер или для их создания используются абсолютно не аутентичные источники выпускаемых в публичное информационное пространство экранных и дисплейных иллюстраций[27]. Еще во второй половине прошлого века М. Маклюэн отмечал, что «фотография и телевидение соблазняют нас уйти от письменной и частной „точки зрения“ в сложный и инклюзивный мир групповой иконы»[28]. У массового телевидения огромная аудитория, в связи с этим та информация, которую демонстрируют журналисты в собственных сюжетах, должна быть максимально понятна для большинства жителей. Но первенство телевидения в деле манипуляции информацией и ее восприятие массовой аудиторией в последней трети ХХ в. сложилось не сразу. Общественное сознание было в значительной степени подготовлено к этой ситуации печатными СМИ.
В этом смысле показателен опыт известного западногерманского журналиста Гюнтера Вальрафа. В отечественных учебниках по журналистике его имя чаще всего упоминается в связи с такой формой работы сотрудников информационного цеха, как журналистское расследование. Между тем стоит расширить наше представление о нем и его достижениях в медийной сфере как раз в связи с интересующей нас темой фейков, а точнее, правды и лжи в том, как СМИ и конкретные журналисты интерпретируют факты, мнения, статистику, явления – говоря проще, лгут своим читателям, зрителям, слушателям, пользователям.
Четыре с половиной месяца под именем Ганса Эссера он проработал в редакции газеты «Бильд»[29] – одного из самых массовых и популярных изданий Федеративной Республики Германия. Результатом стали книги «Рождение сенсации. Человек, который был в „Бильд“ Гансом Эссером» (1977), «Свидетели обвинения. Описание „Бильд“ продолжается» (1979), «Справочник по „Бильд“ – до отказа» (1981)[30]. В этих изданиях Вальраф представил широкую панораму методов «сотворения информации», которые практикуются в работе одного из самых известных печатных СМИ Западной Германии. Левые убеждения и взгляды автора во многом способствовали появлению в его оценках резких критических выводов и саркастических оценок того, что он наблюдал, трудясь в «Бильд». Но для нас главным моментом в книгах Вальрафа и его опыте станет разоблачение приемов и методов сотворения тех самых газетных уток, типологию которых он отчасти и зафиксировал в своих последующих разоблачительных работах.
«Редакцию „Бильд“ можно назвать профессиональной мастерской мистификаций, – характеризует Гюнтер Вальраф СМИ, в котором он трудился практически инкогнито. – Только не следует представлять себе это так, будто имеется официальный и даже письменный заказ на фальсификацию того-то и того-то. Не существует и никаких устных указаний типа „сварганьте-ка нам какую-нибудь липу“ или „вставьте-ка сюда развесистую клюкву“! Фальсификация совершает в „Бильд“ под сурдинку и систематически»[31]. Далее следует наглядный пример в виде истории о спелеологе в Гарце.
Вальраф получил одобрение начальства на материал о единственном в городе Гарце представителе этой непростой профессии. Он отказывался от интервью и предпочитал рассказывать о своей коллекции минералов. Но подходит срок сдачи материла, а герой даже не хочет фотографироваться для газеты. Тогда журналист предлагает ему одобрить фото никому не известного человека в шлеме, который протискивается через расселину в скале, тем самым выдав этого персонажа за героя материала. А в качестве информационного бонуса предлагает упомянуть в статье о нем его коллекцию минералов. Скрепя сердце спелеолог соглашается и на публикацию отретушированной чужой фотографии, на которой его не узнать. Материал вышел, как и планировалось, в «Бильд», а «спелеолог-геолог» никак против этого не протестовал. И это еще был не самый циничный обман читателей издания со стороны его руководителей и сотрудников.
7
Виноградов В.В. История слов. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 1999. – С. 98–99.
8
Легко установить взаимосвязь этой публикации с одним из эпизодов приключений барона Мюнхгаузена.
9
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. —М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. – С. 117.
10
Характерно, как определяется данный термин в одном из отечественных словарей русского языка: «У́тка, утки, жен. (перевод с·фр. canard). Ложный сенсационный слух. Известие оказалось уткой. Пустить утку. Газетная утка. „Он иногда выдумывал нелепые утки и распускал их“ (Лесков Н.С.)».
11
Соколов М.Е. Газетная утка // Юмористическая литература. URL: http://www. websets.ru/gazetnaya-utka
12
Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Логос, 2000. – 184 с.
13
Закирова Т.В., Кашин В.В. Концепция виртуальной реальности Жана Бодрийяра // Вестник ОГУ. – 2012. —№ 7. – С. 28–36.
14
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция: пер. О. Печенкина. – М.: Постум, 2017. – С. 11.
15
Baudrillard J. La société de consommation. – P.: Éditions Denoël, 1970. – P. 194.
16
Бодрийяр Ж. Цит. соч..
17
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 616 с.
18
Маклюэн Г.М. Понимание медиа. Внешние расширения человека: пер. с англ. В. Николаева. – М.: Жуковский: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – С. 246.
19
Бодрийяр Ж. Цит. соч. С. 11.
20
Маклюэн Г.М. Цит. соч… С. 245.
21
Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. СПб.: Алетейя, 2000. – С. 57.
22
Зельвенский С. Mocumentary: история вопроса // Сеанс. 2007. № 32. URL: http://seance.ru/n/32/mockumentary/mocumentary
23
Бодрийяр Ж. Цит. соч. С. 11.
24
Соловей В. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирование. – М.: Издательство «Эксмо», 2015. – 320 с.
25
Бодрийяр Ж. Цит, соч. С. 18.
26
Бодрийяр Ж. Цит. соч. С. 41.
27
Ильченко С.Н. Шоу-цивилизация: конец реальности?: монография. CПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 198 c.
28
Маклюэн Г.М. Цит. соч. С. 263.
29
«Бильд» (нем. Bild ['b lt] – «картинка, изображение») – крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Ежедневно ее читают около 12,1 млн человек (без учета читателей электронного издания). Газета продается во всех киосках и магазинах Германии. В Германии называется бульварной и является ярким представителем немецкоязычной желтой прессы. Газета создана Акселем Шпрингером по образцу бульварной прессы Великобритании, с которой он познакомился в Гамбурге во время пребывания там Британских Вооруженных Сил после Второй мировой войны. Первый выпуск газеты вышел 24 июня 1952 г. общим тиражом 455 000 экземпляров, имел четыре страницы и распространялся бесплатно (позже цена была определена в 10 пфеннигов, в настоящий момент газета в крупных городах стоит 0,70 EUR). Характерно, что название данного таблоида отсылает к визуальному восприятию информации, что, во-первых, характерно для композиционно-графической модели печатных изданий соответствующего типа, а во-вторых, указывает на тот канал воздействия на массовую аудиторию, который к исходу ХХ в. станет доминирующим.
30
Отдельные фрагменты из этих книг включены в сборник текстов: Вальраф Г. Репортер обвиняет: пер. с нем. / сост. М.Г. Федоров; предисл. М.В. Зоркой; коммент. Н.А. Кайтмазовой. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с. Здесь и далее приведены цитаты именно из этого издания.
31
Вальраф Г. Репортер обвиняет: пер. с нем. / сост. М.Г. Федоров; предисл. М.В. Зоркой; коммент. Н.А. Кайтмазовой. – М.: Прогресс, 1988. – С. 90.