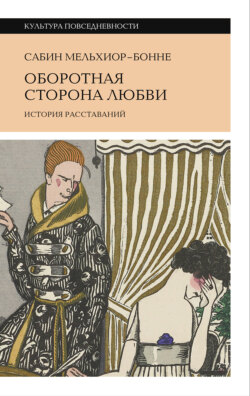Читать книгу Оборотная сторона любви. История расставаний - Сабин Мельхиор-Бонне - Страница 3
Часть первая. Разрыв отношений: дело чести
ЭЛОИЗА И АБЕЛЯР
«ПРОЩАЙ, МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
ОглавлениеОтперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.
Песнь песней, стих 5
Что может быть банальнее? Прекрасная юная девушка потеряла голову от любви к своему учителю грамматики и логики. Это талантливый человек, новаторские идеи которого пользуются уважением в интеллектуальных кругах Парижа; у него верные друзья, такие же заклятые враги, а его блестящий стиль работы привлекает в школу на острове Сите, близ собора Парижской Богоматери, учеников, прибывающих издалека, из Бретани и Пуату, а также из Испании, Англии и Фландрии. Учитель лет на пятнадцать старше ученицы, его авторитет оказывается сильнее сопротивлений, и любовная связь все же начинается. Они обмениваются письмами, любовными записками и стихами.
Вероятнее всего, роман Элоизы и Абеляра продолжался с осени 1115 до лета 1117 года: эта жгучая страсть, замешенная на желаниях, клятвах и печали, стала символом любовной драмы. Рафинированные любовники пишут друг другу на латыни; их письма, подлинность которых продолжает оставаться предметом споров, можно отнести к самым прекрасным признаниям в любви периода Средневековья, и, несмотря на свойственную эпохе риторику, в них отчетливо проступают искренние чувства. Авторы писем любят друг друга и вместе размышляют над тем, что же их объединяет: кто любит сильнее? Чья любовь лучше? Иногда в их письмах упоминается amor – опьянение желанием и любовью, любезное Овидию; иногда dilectio – возвышенная любовь, воспетая в Песни песней, где возникает понятие выбора «единственного»; или caritas – вселенская любовь с оттенком возвышенного, который ей придает христианство; или бескорыстная цицероновская amicitia – любовь-дружба, до такой степени наполняющая друзей или супругов общей волей, что они становятся одним существом. Современные языки слишком бедны, чтобы выразить всю тонкость греческих или латинских сравнений. Просвещенные Элоиза и Абеляр чувствительны к словам, литературным метафорам, к культуре своей эпохи, где уже намечаются «ренессанс» в мысли и зарождаются куртуазные нравы. Страсть, которую они испытывают друг к другу, прекрасно уживается с эрудицией, сквозящей в их письмах: элегии Овидия, античная философия, библейские тексты – вот темы их посланий друг к другу, как радостных, так и горестных.
Потом наступила драматическая развязка. Их дороги разошлись, и Элоиза написала пронзительные слова: «Я потеряла свое сердце, оно осталось с тобой. Жить без тебя оно не может».
Пьер Абеляр родился в 1079 году в фамильном замке Палле близ Нанта. Старший сын бретонского феодала, он мог бы сделать военную карьеру, если бы с раннего детства не стал проявлять явную склонность к изучению «свободных искусств», затем к преподаванию. Яркий, строптивый, но полный идей, он оттачивает свое педагогическое мастерство, переходя из школы в школу, из Анже перебирается в Тур, потом в Мелен и Лан. Целью Абеляра был Париж, где о нем уже ходила слава, но его свободомыслие пугает церковные власти. В 1113 году он поступает в парижскую школу Нотр-Дам и пользуется поддержкой семьи Гарланд, имевшей большое влияние при дворе Людовика VI. Абеляр – клерк, которому дают только мелкие поручения; в отличие от монахов он не отвечает за проведение литургии и живет на деньги от занятий с учениками; церковь в то время реформируется, в городских интеллектуальных кругах происходит обновление, и Абеляр выдвигает рациональный философский метод, соединяющий диалектику с теологией и апеллирующий к языковым структурам при комментировании священных текстов. Он не только талантливый логик, но также поэт и автор песен; у него сложилась репутация соблазнителя. По слухам, распространяемым недоброжелателями, он даже захаживает к проституткам. «Развратник и гордец», – скажет он о себе позже.
Элоизе в 1116 году около двадцати лет, и она чрезвычайно одарена, что выделяет ее на фоне всех учеников. Она происходит из знатной семьи и выросла в превосходном аббатстве Нотр-Дам в Аржантее. Она увлечена философией, знает латынь, греческий, иврит и пишет стихи. Она живет в доме каноника Фульбера, своего дяди, в клуатре собора (клуатр не зависит ни от короля, ни от епископа); ее интеллектуальный уровень и семейные связи дают ей некоторую свободу. Фульбер трепетно относится к девушке и оказывает ей протекцию; он даже соглашается приютить у себя Абеляра, лучшего из учителей, и поручает ему образование племянницы. Дядюшка при деньгах и полностью доверяет своему блестящему тридцатипятилетнему собрату, лестные отзывы о котором обнадеживают его. Уроки, которые учитель дает ученице, начинают носить все более тесный характер и вскоре уже не имеют ничего общего со школьными занятиями. Абеляр настаивает на частых встречах, «три или четыре раза в день», но им следует быть осторожными. Чтобы скрыть крепость своей связи, они пишут друг другу на восковых табличках, потом молодая женщина переписывает текст на пергамент, после чего стирает написанное с воска.
Влюбленные ведут себя по-разному. Абеляр настойчив: он охвачен жгучей страстью. Элоиза сдержанна: в ее представлении любовь должна быть возвышенна и совершенна. Но вскоре робость проходит, и, соблазненная, она забывает себя: «Она душой и телом принадлежит ему», отдается любимому со всей страстью своей натуры. Воссоздать их интимный календарь, несмотря на упоминания в письмах сменяющих друг друга времен года, не представляется возможным. Много позднее, уже после разразившейся трагедии, Элоиза скажет: «Наслаждение, которое мы испытали вместе, было такой силы, что мне не удается ни возненавидеть его, ни стереть из памяти».
Тайну, однако, хранить трудно, и поползли слухи. Кончилось тем, что о связи стало известно Фульберу. Проклиная злодея, которому он дал приют, каноник потребовал, чтобы любовники расстались. Эти печальные события Абеляр описывает в автобиографическом сочинении «История моих бедствий», изданном около 1130 года. После того как дядя узнал о связи Элоизы и Абеляра, девушка обнаружила, что ждет ребенка. Чтобы скрыть беременность Элоизы, Абеляр под покровом ночи отправил ее к своей сестре в Бретань под видом монахини; там она родила мальчика, названного Астролябием. Абеляр предлагал девушке выйти за него замуж, но она отказалась, ибо как можно совмещать ученую деятельность и крики младенца, служение Богу и рутину семейной жизни? Брак для блестящего преподавателя повлек бы за собой потерю положения, которое занимают священники, соблюдающие целибат. Элоиза заботилась в первую очередь о возлюбленном; Абеляр же думал не только о девушке, но и о карьере. Элоиза хочет, чтобы Абеляр женился на ней исключительно по любви, а не по необходимости, поэтому в ответ на предложение руки и сердца с достоинством говорит, что предпочитает называться его «подругой, а не женой».
Тем не менее брак все же был заключен – тайно, в Париже, после ночи, проведенной в молитвах. Ребенок в это время находился в Бретани. Присутствовали лишь несколько близких родственников, среди которых был и Фульбер. Сразу после церемонии супруги приняли решение расстаться, чтобы Абеляр мог продолжать свой славный путь. Молодая женщина вернулась в дом дяди, который осыпал ее упреками и иногда угрозами. Дело получило огласку. Обстановка в Нотр-Дам стала невыносимой; Абеляр предпочел отправить жену в монастырь в Аржантей, где она выросла; она снова надела монашеское платье, но пока не вуаль. Она подчинилась его приказам: была согласна на брак, расставание, монастырь. Абеляр же остался в Париже, чтобы попытаться успокоить разъяренного дядюшку.
Каноник Фульбер был человеком небезупречным и склонным к насилию. Бегство Элоизы привело его в ярость. Однажды ночью несколько человек, сговорившись с прислугой, проникли в келью к Абеляру и «отрезали ему части тела, при помощи которых он совершил свое преступление» – кастрация в те времена была обычным наказанием для виновных в изнасиловании и адюльтере. Связь между Фульбером и нападавшими не подлежала сомнению; головорезы разбежались, но двоих удалось поймать; они, в свою очередь, тоже были приговорены к кастрации. Что касается Фульбера, то он отправился в ссылку. Самый знаменитый преподаватель школы оказался в центре чудовищного скандала. О случившемся узнал весь город, включая школьников и мелких церковных служащих, и все бурно выражали Абеляру сочувствие; без такой славы он бы прекрасно обошелся. Как теперь появиться на публике? Униженный Абеляр, на которого показывали пальцем, в большей мере страдал морально, нежели физически, – наказание затронуло его авторитет. Он нашел убежище в аббатстве Сен-Дени, где его уроки теологии пользовались большим успехом у учеников. Элоиза же постриглась в монахини. Расставание состоялось.
Чтобы эта драма забылась, потребовалось время; Абеляр нажил множество врагов; этому способствовали его профессиональный успех, смелые научные работы, гордость, граничившая с высокомерием, история его любви. Он рассорился с монахами из Сен-Дени, которые ставили ему в упрек то, что он соединял философию с теологией; его неоднократно признавали зловредным, и его деятельность запрещали. Переписка с Элоизой не прервалась полностью: пятнадцать лет спустя после разразившейся драмы они все еще обменивались письмами, подлинность которых порой оказывалась под вопросом, но теперь не вызывает никаких сомнений.
История одной переписки
Между 1115 и 1117 годами Элоиза и Абеляр написали друг другу более ста писем. Три века спустя, в 1471 году, монах-библиофил Иоханнес де Веприа обнаружил в аббатстве Клерво, основанном в 1115 году, эти бесценные пергаменты и переписал их. Тексты, входящие в этот сборник, поражающий воображение своей насыщенностью, не подписаны. Письма мужчины, обозначенные буквой V (vir, мужчина), чередуются с письмами женщины, помеченными буквой M (mulier, женщина). Среди них есть цепочки писем, есть отдельные загадочные фрагменты; принцип построения сборника нам неизвестен. Личности загадочных любовников вызывают множество вопросов. Надо сказать, что такой обмен эпистолами был частью традиционных упражнений в риторике, занятию которыми с радостью предавались образованные люди, – от той эпохи до нас дошло множество сборников подобного типа.
Большинство современных историков и филологов полагают, что эта анонимная переписка вполне соответствует истории любви Элоизы и Абеляра, изложенной в «Истории моих бедствий» и известной благодаря молве начиная со второй половины XII века, затем вновь открытой и рассказанной примерно в 1290 году знаменитым автором «Романа о Розе» Жаном де Мёном. Комментарии Сильвена Пирона, который перевел письма на французский язык (Les lettres des deux amants, 2005), и недавнее исследование австралийского критика Константа Дж. Мьюса (La Voix d’Héloïse. Un dialogue de deux amants, 2005) свидетельствуют о том, что это история любви именно знаменитого учителя и его блестящей ученицы, со всеми ее перипетиями и, подчас, непоследовательностями; она слишком исключительна, чтобы считать ее историей другой пары или же вообще мистификацией. Конечно, литературные условности наводят на мысль об учебниках куртуазной переписки (De l’art d’écrire des lettres, Artes dictaminis), но у каждого из «голосов» (мужского и женского) есть свой собственный стиль; особенности лексики и философии любовника, вместе с прочими аргументами, говорят о том, что перед нами переписка именно Абеляра и Элоизы. Веский аргумент в пользу этого – прочная связь, соединявшая первых монахов-цистерцианцев аббатства Клерво, где были обнаружены письма, с монастырем Параклет, где в 1164 году закончилась жизнь Элоизы. В Клерво по инициативе аббата Бернара бурно дебатировался вопрос о мистической природе любви; таким образом, в том, что письма перенесли из одного монастыря в другой, не было ничего удивительного. После Великой французской революции письма, как и рукопись «Истории моих бедствий», оказались в библиотеке Труа.
Что же такое любовь? Quid amor sit? Любовники не переставая задают этот вопрос. Юная ученица (идентифицированная как Элоиза) жаждет узнать это и понять, изучает свое сердце; она горяча и благородна; в первую очередь она хочет добиться внимания учителя, ослепить его эрудицией, произвести впечатление своей скромностью. Цитаты, которые она использует в письмах, как бы страхуют ее от излияния чувств; ее письма, поначалу похожие на школьные сочинения, становятся все длиннее и интимнее; личные детали выявляют контекст событий.
Элоиза не скрывает энтузиазма. Как ученица, она выказывает искреннюю смиренность: женщины в те времена не имели права высказываться, а Абеляр был великим педагогом. Полная признания, она добивается его «глубокой дружбы» в цицероновском смысле; он же, со своей стороны, без памяти влюбился в нее; и очень быстро тональность их отношений стала напоминать скорее Овидия, нежели Священное Писание. Они приветствовали друг друга, как полагалось, и обменивались ничего не значащими комплиментами, но были при этом на «ты». Учитель называет ее «беспечной», если она не пишет ему достаточно часто; он боится, что она пренебрегает им или что забыла его; он признается, что их переписка способствует его «отдохновению» и «здоровью». Отождествляя себя с «возлюбленной» – героиней Песни песней, сюжеты которой она иногда заимствует, Элоиза становится смелее: признавая за собой недостаток знаний, она говорит, что нуждается в стимулирующем присутствии Абеляра. И вскоре они уже общаются на равных.
Небольшие расхождения, поначалу почти незаметные, постепенно пробили брешь в представлениях обоих о любви: для Элоизы, одновременно реалистки и идеалистки, любовь – это прежде всего нечто человеческое. Она зависит не от склонности или эмоций, но от внутренней убежденности. Любовь можно доказать доверием, честностью, но прежде всего верностью. Это возвышенное чувство к кому-то единственному – не каприз: настоящая любовь беспричинна, бескорыстна, ей претит морализирование, но она обязывает обоих партнеров вести себя одинаково, как бы возвращать друг другу долги. Будучи реалисткой, молодая женщина живет сообразно обстоятельствам: радуется, когда счастлива, грустит, когда ей не везет. Она инстинктивно знает, как хрупка любовь: «Постоянное нахождение рядом друг с другом рождает непринужденность, та вызывает доверие, доверие влечет за собой пренебрежение, а пренебрежение – скуку».
Когда возлюбленный чересчур настойчив, Элоиза отступает и, верная термину «подруга», реагирует уклончиво. Что же до Абеляра, то он мечтает о ночи любви и заявляет о горячем желании «узнать ее поближе», даже требует ее «полного жизненной силы тела». Он не скрывает нетерпения: «Открой то, что ты прячешь, покажи то, что скрываешь, пусть забьет фонтан твоей нежности, не скрывай больше ничего от твоего самого преданного слуги…» (письмо 26). На этом этапе их переписки представляется, что физическая близость уже состоялась; парадоксальным образом учитель дает любви лишь менторское определение, прикрываясь словами Цицерона: «Любовь – это некая сила души, которая не существует сама по себе, но всегда переносится на другого, с определенным вкусом и желанием, стремясь все делать вместе с предметом любви» (письмо 24).
Вскоре их близость перестала быть тайной. Бурная личная жизнь учителя отразилась на его уроках; об отношениях влюбленных поползли слухи, распространяемые «ревнивыми» учениками. Чтобы спасти преподавательскую репутацию, честолюбивый Абеляр предпочел отступить; опечаленной Элоизе нечего было противопоставить его обретенному целомудрию, и она подчинилась обстоятельствам. Когда он порекомендовал ей опасаться слухов, она не могла не усмотреть в этом свидетельства угасающей страсти: «Мне с трудом дается это слово. Прощай». Страсть сменилась охлаждением, объяснения которому в письмах нет: у возлюбленного проблемы со здоровьем? Испытание расставанием, внешняя угроза? Абеляр отмечает, что Элоиза перестала обращаться к нему на «ты». Он тоже переходит с ней на «вы»: «Отныне нельзя говорить вам ни „ты“, ни „моя нежная“, ни „моя дорогая“, но надо называть вас „сударыней“, потому что теперь мы не так близки, как были прежде, и мы стали посторонними» (письмо 36). Молодая женщина страдает. Ей, верной своей любви, малейшее охлаждение Абеляра кажется началом конца их отношений; она пишет ему все реже.
«Я не заслуживаю того, чтобы быть обманутой»
Между тем любовник не прекращает умолять Элоизу. «Будь милосердной!», «Пожалей своего любимого, который зачах от горя», «Напиши хоть пару слов», «Я с каждым днем горю все сильнее, а ты охладела». Вдали от нее, в одиночестве, сгорая от нетерпения, он чувствует себя изгнанником; при одной лишь мысли о том, что она разлюбила его или нашла счастье с другим, он рыдает: «Скажи же, моя нежная, доколе я буду мучиться?» Он забрасывает ее письмами, но она не отвечает. Конечно же, Элоиза страдает от разлуки с любимым: отчаянно верная, она нуждается в нем, «как земля в засуху нуждается в дожде». После паузы, длительность которой нам неизвестна, смиренная ученица наконец возобновляет переписку, выбрав для писем более безопасную тему – философию: говорить о любви означало бы вновь разжечь пламя страсти. В одном очень длинном письме она с увлечением продолжает когда-то начатую дискуссию: для нее любовь – это человеческая «добродетель». «Люби меня той любовью, которой я люблю тебя!» Религия в письмах почти не упоминается. Абеляр, эпистолы которого обычно бывали краткими, на этот раз отвечает пространно и, говоря об их союзе, употребляет то же самое слово «dilectio»15: «Я выбрал тебя из тысяч…»
Страх перед разлукой не покидал ее. Уязвленная, огорченная, влюбленная женщина без конца жалуется на отсутствие возлюбленного: «Ты меня почти забыл»; она очень зависима от него, поэтому боится слишком коротких писем, считает их «слабым подобием нежного приветствия», как и уклончивых фраз вроде «Я люблю тебя так, что не могу выразить этого словами». Она подстраивает свою жизнь под него, он же в большей мере занят своими делами. Она потеряла свою жизнерадостность, ей кажется, что он несправедливо лишил ее «привилегии своей любви» (письмо 58). Диалог, иногда изысканно-жеманный, временами становится более страстным: «Возникло непреодолимое препятствие», – защищается Абеляр. Какое? Физическое или же моральное? Философа, который позже напишет автобиографию, охватило чувство вины: «Я виновен в том, что вверг тебя во грех» (письмо 59).
Под накалом эмоций возникла настоятельная потребность в нравственной оценке себя – потребность, неотделимая от проявлений индивидуализма, которыми, на фоне обязательств перед общиной, было отмечено начало XII века. Учитель одержим впечатлением, которое он производит на учеников; вынужденный скрывать свои мысли и желания, неспособный отказаться от Элоизы, он признает, что «запретные удовольствия» заставляют его забыть все – Бога, учение, себя самого; в своей огромной любви он видит смертельную опасность для работы. Раздираемый противоречиями, Абеляр выбирает двусмысленную стратегию: «Мы будем любить друг друга мудро, потому что сможем сберечь репутацию, соединяя радости и удовольствия». Интересный план! Настал черед Элоизы пересмотреть их отношения; на этот раз она говорит о них будто в прошедшем времени; о «болезненной страсти» речи уже нет; отныне они будут любить друг друга «на основе твердой и незыблемой веры».
За неимением возможности обуздать сердце, Элоиза поразительным образом держит под контролем свой латинский лексикон; ее ответ на охлаждение мужа-любовника – это настоящее прощальное письмо. Слова любви она обращает в обвинения: она его любила страстно (adamare), ее любовь была безгранична (caritas), исключительна (dilectio), и она полагала, что любовь (amor) Абеляра прочнее «неприступной крепости»; прямая, искренняя, Элоиза никогда не опускалась до двусмысленности; «Видит Бог, мне нужен был только ты. Я не думала ни о наслаждениях, ни о собственных прихотях». Как Возлюбленная из Песни песней, «больная любовью», она мужественно вынесла испытания, но надежды на счастье обернулись «горестными вздохами сердца». Она плачет и покоряется Божьей воле: «Прощай, твоя мудрость и твоя наука меня обманули. На этом нашей переписке конец».
Лучшая защита – это нападение, и ответ Абеляра был чеканным:
Не знаю, что за страшный грех я совершил, что ты вдруг стала отказывать мне в каком бы то ни было сочувствии и теплоте. Здесь, вероятно, одно из двух: либо мой грех, с твоей точки зрения, был чрезвычаен, либо ты не очень сильно любила меня, если с такой легкостью отвергаешь мою любовь. <…> эти слова мог произнести не благосклонно настроенный человек, а тот, кто давно искал случая, повода к разрыву отношений. Скажи, какое мое действие или слово заставило тебя написать эти горькие слова? <…> Если бы ты меня любила, ты бы так не говорила. Пусть у тебя все будет хорошо. Я получил твое омытое слезами письмо и пишу тебе ответ, не сдерживая слез (письмо 61).
Ссора была очень серьезной. Любовник вспоминал свой грех и страх, женщина говорила о любви, способной противостоять тюрьме, цепям, мечу; она упрекала его в отсутствии мужества, чтобы прийти и объясниться: «Я надеялась, что ты не сможешь не прийти ко мне, что найдешь способ поговорить при личной встрече». Она употребляет сильные выражения – «опасность», «скандал». Сомневается ли она в нем? Их паре угрожают слухи? Она обвиняет его в охлаждении к ней, у нее нет никаких иллюзий: «Преданность мужчины зависит от того, какая выпадет кость». «Я не заслужила того, чтобы быть обманутой!» Отныне во всех словах любви, тяжелых, как камни, сквозит подозрение в том, что за ними скрывается какая-то другая истина. Напрасно Абеляр будет каяться и называть себя нетерпеливым дураком, безумцем или пьяным, напрасно будет говорить о своей верности и нерушимости любви: яд сомнения отравит самые прекрасные слова.
Любовь и стыд
Столь долгожданная встреча после разлуки все же состоялась, и все упреки и жалобы, казалось бы, исчезли; оба говорили о «новой любви», базирующейся на другом фундаменте. Но что это за любовь? Отбросив психологические причины, любовники воспользовались риторикой своей эпохи. После векового молчания Церковь вынуждена была начать размышлять о том, что такое любовь, секс, страсть, счастье, где границы нравственного, каковы правила брака. Плотская любовь тормозит движение к Богу; церковные иерархи в X и XI веках призывают супругов жить как брат и сестра, соблюдая целомудрие; в особенности этот призыв относится к интеллектуалам, посвятившим себя учению. Оскопленному Абеляру незачем вступать в брак; он и не мистик: смысл его жизни заключается в работе. Ему это известно, но сможет ли понять его Элоиза, пожертвовавшая ради него всем?
Копия, сделанная Иоханнесом де Веприа, полна тайн. Неизвестно, были ли «Письма двух любовников» собраны в правильном порядке. Неизвестно, когда, как долго и в какой обстановке проходили их встречи. Почему столько вопросов осталось без ответов, столько необъяснимых пауз? Тем не менее переписка возобновилась, и была она как никогда страстной; Элоиза писала чаще, чем Абеляр; немногословный любовник утверждает, что нашел покой; тогда как любовница самодовольно подражает супруге из Песни песней: «Только тебя я любила; любя тебя, тебя искала; ища тебя, нашла, найдя – возжелала тебя; возжелав тебя, я тебя выбрала; ты занял главное место в моем сердце, я избрала тебя из тысячи. <…> Хочешь ты того или нет, ты мой и будешь моим всегда».
Они пишут друг другу, читают письма друг друга, но понимания между ними больше нет. Слова перестали быть мостами, соединяющими их. У Абеляра случаются перепады настроения – вокруг него хаос, его обуревают противоречивые эмоции – желание, скука, радость. Элоиза, в отличие от мятущегося возлюбленного, «бросающего слова на ветер», старается быть «непреклонной и неумолимой». Любовник не защищается; думая о недавнем счастье, он признает за собой вину: «Любовь и стыд рвут меня на части!» Несмотря на то что в начале XII века требования целибата и целомудрия были еще не до конца сформулированы, Абеляр оказался в затруднительном положении: магистерское звание требует от него строгого соблюдения моральных норм, а о его связи всем известно. Если он хочет сохранить свой престиж, ему необходимо положить конец распространению слухов.
Важнейший момент, к сожалению, недоступен читателю: монах, переписывавший рукопись в 1474 году, сообщает о большом количестве пропусков в письмах 1117 года. Может быть, Элоиза предпочла не переписывать все восковые таблички. Во всяком случае, их последние письма друг к другу удивляют; называя мужа и преподавателя «учителем», молодая женщина как бы подтверждает, что она счастлива видеть его знаменитым, служащим Богу и наконец нашедшим убежище от забот этого мира. Она признательна ему за добро, которое «в своей ничтожности» получила от него. Ее радость невыразима, ее дух ликует. Но что это за радость? У Элоизы, обладающей разнообразными достоинствами, нет однозначного ответа на сей вопрос: это радость от освобождения духовной любовью, радость оттого, что любимый находится в добром здравии, радость видеть его, радость от возможности познать его любовь, но еще в большей мере – восхищение, вызванное рождением сына, названного Астролябием. В автобиографии Абеляр утверждает, что, узнав о своей беременности, Элоиза «возликовала». Думала ли она о ликовании Девы Марии? Или надеялась удержать Абеляра?
В следующем письме тон неожиданно меняется, как если бы эта радость не смогла преодолеть противоречия, терзавшие любимого: «Я устала и не могу ответить тебе: мои нежности для тебя – тяжелое бремя, и это печалит меня». В последнем послании, вошедшем в сборник, он признает, что не находит успокоения, потому что по-прежнему одержим ею, раздираем противоречиями, побежден: «Отказываясь поддерживать огонь страсти, мы лишь разжигаем его».
Необыкновенная биография
Книга «История моих бедствий» написана около 1130 года, спустя двенадцать лет после описываемых событий. В ней в хронологическом порядке изложены перипетии, на фоне которых влюбленные обменивались письмами. После недолгого пребывания в аббатстве Сен-Дени, которое он вынужден был покинуть из‐за враждебного окружения, в 1122 году Абеляр основал в Шампани маленький скит, посвященный Святому Духу. Несколько лет спустя он принял обязанности аббата в монастыре Сен-Жильда-де-Рюи, находящемся в его родных местах, на берегу залива Морбиан, и предложил Элоизе перебраться туда, чтобы вести монашескую жизнь и молиться Святой Троице; она будет аббатисой, а он, основатель скита, – ее духовным наставником; они будут любить друг друга во Христе. В 1135 году Абеляр вернулся в Париж.
Несмотря на то что он был плохо приспособлен к строгим порядкам общинной жизни, любовник Абеляр стал искренним, трудолюбивым монахом. В монастыре он обрел аскезу и уединение, в которых нуждался для восстановления репутации; он посвятил жизнь труду и молитве. Произошедшие в нем изменения не подлежат сомнению: «История моих бедствий» вышла в свет в момент, когда интериоризация религиозной жизни стала сопровождаться новой – личной – практикой, исповедью; диалог со своей совестью стал моральным критерием, весьма далеким от прейскуранта грехов, популярного в предыдущие века. Абеляром, испытывавшим потребность рассказать свою историю, двигала необходимость оправдания, желание обессмертить свое имя: мы видим честолюбивого интеллектуала, заботящегося о защите своих идей и стремящегося изменить общество; но мы видим также и верующего человека, сознающего свою вину и тревожащегося о спасении своей души: его рассказ должен послужить примером, и свои слабости он описывает с нескрываемоей искренностью.
Покаяние требует, чтобы все гнусности, совершенные грешником, были выставлены на всеобщее обозрение. На исповеди ничего нельзя утаивать. Абеляр предстает наглым и циничным соблазнителем, сознательно втянувшим в свои сети невинную юную девушку, стремившуюся к самосовершенствованию. Он понимал, что она не сможет устоять. Он – голодный волк в овчарне. Подробный рассказ его полон непристойностей. Абеляр признает, что по ночам предавался сладострастию, а днем преподавал и что для удовлетворения своих страстей не останавливался ни перед чем, включая угрозы и телесные наказания: «Мы делали все, что только может изобрести любовь». Шли месяцы, эротическая страсть становилась все острее; в перерывах между уроками учитель писал любовнице страстные письма. Он продолжал ее преследовать и в Аржантее, куда Элоиза удалилась после брака, и за неимением места, где можно было бы скрыться, они удовлетворяли свою страсть в трапезной. Месть дяди, конечно же, была чудовищной, но наказание Абеляр признает заслуженным. Вспоминая в подробностях силу плотской любви, в своей исповеди он настаивает на благородстве возлюбленной; это он втянул ее в грех. Приняв постриг, она стала Христовой невестой; их души были спасены.
Абеляр целиком и полностью изменился. Отныне он искупает свою вину. Он посвящает себя обучению бедняков, философии и любви к Богу, теперь он далек от соблазнов плоти: лишенный мужского естества, кому он теперь страшен? Его известность возросла, его уроки теологии и свободных искусств привлекают большое количество учеников. Однако он оказался в центре конфликтов между аббатствами и церковными властями, и его успехи, смелые высказывания, заносчивость стали вызывать зависть и ненависть многочисленных коллег. «Трактат о Троице» Абеляра, признанный его соперниками на Суассонском церковном соборе (1121) противоречащим вере, был брошен в огонь без всякого обсуждения.
Желчь и горечь
Наконец и Элоиза открыла для себя «Историю моих бедствий», историю их отношений, замешенную на «желчи и горечи» и так жестоко сделанную достоянием публики. Она полна негодования; версия любовника, оскорбляющая воспоминания девушки, вызывает у нее потоки слез. Была ли она любима или же только физически желанна? Что же, для него это было лишь сладострастие, тогда как она отдавалась телом и душой и видела в их союзе «блаженство вечной юности»? Была ли она Евой, манипулируемой дьяволом и протягивающей яблоко, презренной искусительницей, сбивающей с пути истинного даже мудрецов? Абеляр бесстрастно переписал их историю, сделав многочисленные ссылки на Библию. Элоиза же, со всей своей религиозностью, в ответ на это описала свои чувства в том виде, как она их испытывала и продолжает испытывать; чувства, которых Абеляр, видимо, не понял. Она – женщина из плоти и крови, которую обожание, любовь и самоотречение подняли до этой «истинно возвышенной любви» (vera dilectio), за которую ей не стыдно.
Как могла она каяться? Она без всякого принуждения и не таясь полюбила своего «учителя», который был одновременно ее мужем и повелителем: она отдалась ему, не ожидая в ответ ни богатства, ни брака, ни договора, и была готова называться куртизанкой, конкубиной или даже шлюхой, но не супругой! Чтобы быть чистой, любовь не нуждается в супружеской связи. Ее сердце следовало за любимым. Чтобы избежать развода, поскольку он не мог расстаться с ней без ее согласия, Абеляр попросил ее постричься в монахини, что она и сделала «по его приказу»: «Я стала монахиней только лишь по твоему решению»; таким образом, это было не ее призвание, но воля ее «мужа», направившего ее по нелегкому пути монастырской жизни. Неужели он так мало доверял ей, что решился на такое принуждение? «Ты боялся, что я, как Лот, оглянусь назад, и поэтому заставил меня первой постричься в монахини? Ты вручил меня Богу до того, как постригся сам. Я сознаю твое недоверие, оно вгоняет меня в краску и заставляет ужасно страдать».
Элоиза не может, не желает отрекаться от своего прошлого; она мучается из‐за этого искалеченного мужчины, жестоко наказанного за то, что любил ее. Она думает только о нем, об угрозах со стороны врагов и о подстерегающих его опасностях. Кто-то прославлял ее кротость? Восхищался ее целомудренным поведением? Но все ложь, она не излечилась. Рыдающая лицемерка, притворщица, она не способна на раскаяние, ей кажется, что ее сердце закрыто для милости, потому что она думает только о том, чтобы угодить Абеляру, тем самым удваивая оскорбление, наносимое Богу: «В моем бедном сердце нет раскаяния, и я не могу угодить Богу». Даже во время мессы, когда она молится, мысли ее не чисты: «Мое воображение захватывают непристойные видения»; даже во сне ее преследуют сладострастные воспоминания и пробуждают желания: «И в постели я не нахожу покоя». Абеляр день и ночь присутствует в ее мыслях: «На этом свете меня держит только сознание того, что ты живешь».
Израненное сердце Элоизы горячо протестует, и этот протест сквозит в письмах, написанных после 1132 года; теперь она обращается не к супругу-любовнику, но к «Учителю», который является ее «отцом» благодаря своей учености, «братом» по вере и олицетворяет власть. Бдительная аббатиса, она напоминает ему о его долге перед ней самой и перед сестрами: на него возложена обязанность обучать монахинь-затворниц, вести соответствующий образ жизни, сочинять гимны, которые будет нетрудно исполнять; он же, видимо, пренебрегал своими обязанностями. Когда его не было, Элоиза молила хотя бы о наставлениях, хоть о нескольких словах утешения; мог ли любовник-муж-аббат быть равнодушным? «Как только твое желание угасло, прекратилась всякая демонстрация любви…»
Ответ, который она получила, был ответом удалившегося от мира монаха: отныне он любит свою «сестру» во Христе. Прошлое должно быть забыто, потому что единственный настоящий возлюбленный – это Христос. Вина Элоизы не столь велика; из ее одаренности, страданий и борьбы будет сплетен венок святости: «Следуй за мной по пути милости, как шла за мной по дороге греха… скорби вместе со святыми женщинами… Я верю, что твоими молитвами я обрету то, чего моя собственная молитва достичь не может». Они останутся мужем и женой, навсегда разлученными, но мистическим образом связанными. Да будет так.
Роли для истории распределены. Нежность, терпение, кротость, самоотречение делают из величайшей и столь современной для своего века влюбленной женщины истинную аббатису. Ее любит паства и духовенство, ее знание древних языков и благочестие вызывают восхищение. Репутация Элоизы так безупречна, что аббат Бернар Клервоский наносит ей визит. Абеляр же по-прежнему раздираем противоречиями. Его отношения с епископами конфликтны. Аббат Гийом де Сен-Тьерри счел его «Введение в теологию» противоречащим вере и отдал рукопись на суд епископу Шартрскому, затем Бернару Клервоскому; святой Бернар, хранитель традиционной доктрины, мистик и аскет, видит в Абеляре лишь непоследовательного монаха и подозрительного диалектика, который упивается своими же словесными уловками. Церковный собор в Сансе (1140) осуждает трактат Абеляра, в котором он утверждает, что «разум может и должен поддерживать веру», протоколы отправлены папе Иннокентию II. Обвиняемый хочет защитить свою работу и решает лично явиться в Рим. Но противники во главе с Бернаром опережают Абеляра, и его труд приговорен к сожжению на костре. Сам он объявлен еретиком, ему грозит тюрьма, он обречен на вечное молчание.
Именно в это время его приютил аббат Клюни Петр Достопочтенный. Аббатство Клюни, находящееся во владениях герцога Бургундского, не является частью Франции, и обвиняемый будет здесь вне опасности. Заботливый Петр Достопочтенный предоставил беглецу возможность отдаться учению и молитве. Бурная и трагическая жизнь изрядно потрепала Абеляра, здесь он наконец обрел спокойствие, но вскоре тяжело заболел и в 1142 году скончался в монастыре Сен-Марсель недалеко от Шалон-сюр-Сон. Спустя непродолжительное время его тело было перенесено в основанный им скит Святого Духа.
Элоиза пережила его на двадцать два года, храня печаль в своем сердце. Согласно ее воле, она была похоронена в одной могиле с Абеляром. Сегодня их останки покоятся на кладбище Пер-Лашез в Париже.
15
Dilectio (лат.) – возвышенная любовь. — Примеч. пер.