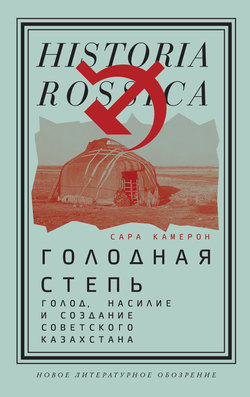Читать книгу Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана - Сара Камерон - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
СТЕПЬ И УРОЖАЙ
ОглавлениеКрестьяне, кочевники и трансформация Казахской степи, 1896–1921 годы
В конце XIX столетия более полутора миллионов крестьян из Европейской России переселились в Казахскую степь, что привело к полной трансформации региона и кардинальным переменам в жизни обитавших в ней кочевых скотоводческих народов99. Всего за двадцать лет – пик крестьянского переселенческого движения пришелся на 1896–1916 годы – Казахская степь, где с XV века господствовали тюрки-мусульмане, превратилась в полиэтничное и поликонфессиональное общество. В некоторых ее областях казахи стали меньшинством, по крайней мере с этнической точки зрения: к 1916 году в Акмолинской области поселенцы-славяне составляли 59% населения, а казахи – 34%. В некоторых северных уездах этой области произошли еще более яркие изменения – например, в Омском, где численность славян достигла 72%, а казахов было всего 21%100.
Переселение славян в Казахскую степь привело не только к демографическим, но и к экологическим трансформациям. Большинство из этих переселенцев сеяли хлеб, и значительная часть Степи оказалась под плугом. К 1916 году северная часть Казахской степи стала важнейшим хлебородным регионом Российской империи, а кочевники-скотоводы во множестве были вытеснены со своих традиционных пастбищ. Произошел исторический сдвиг: земля, раньше принадлежавшая стадам животных и скотоводам, превратилась в регион со смешанной экономикой, в котором, помимо кочевников, жили многочисленные земледельцы.
Заселение Казахской степи крестьянами-славянами было частью более обширного процесса – происходившего в XIX веке движения славян в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию101. После отмены в 1861 году крепостного права многие крестьяне, известные как самовольцы, нелегально переселились в Казахскую степь, ища плодородных земель, которые они могли бы обрабатывать, – переселились, чтобы спастись от бедности и земельного голода – бича крестьянской жизни в некоторых областях Европейской России. В 1889 году Петербург, стремясь регулировать этот поток переселенцев и исходя из уверенности, что славянские колонисты будут играть цивилизующую роль в заселяемых ими регионах, издал закон «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли», ставший первой попыткой центрального правительства взять переселение под свой контроль. Закон подтвердил, что сельскохозяйственная колонизация является официальной государственной политикой, и учредил программы переселения в Европейской России, Западной Сибири, а также Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областях. В 1893 году началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, в результате чего исчезло одно из немногих остававшихся препятствий к масштабной крестьянской колонизации этих областей, а именно необходимость трудного путешествия через Европейскую Россию на повозке, запряженной быками.
Российские имперские чиновники ожидали, что под влиянием переселенцев-крестьян казахи откажутся от кочевого образа жизни и перейдут к оседлому – Петербург в той или иной степени придерживался этого курса начиная с правления Екатерины II102. Власти надеялись, что распространение земледелия «цивилизует» местные народы и сделает земли в регионе более «производительными».
Однако, как показывает настоящая глава, хотя под воздействием массового переселенческого движения казахская практика кочевого скотоводства действительно стала изменяться, эти изменения не всегда соответствовали ожиданиям со стороны Петербурга. Пусть большинство кочевников и стали менее мобильными, но они взяли на вооружение новые стратегии – торговлю и сдачу пастбищ в аренду, что позволяло им сохранять кочевой образ жизни и приспосабливаться к социальным, политическим и экологическим изменениям в Степи. Первая мировая война и опустошительная Гражданская нанесли тяжелый удар по кочевому образу жизни, однако пророчества российских имперских чиновников о грядущем исчезновении такого «анахронизма», как кочевое скотоводство, и его смене оседлым образом жизни не сбылись103. В 1924 году, когда новое Советское государство начало делить регион на национальные республики, среди казахов по-прежнему господствовало кочевое скотоводство104.
Уже на этом этапе дали себя знать многие факторы, которые ярко проявятся в будущем – при попытках советской власти превратить Казахскую степь в земледельческий регион. На долю поселенцев выпали ужасающие засухи, мороз и голод. Они мучительно приспосабливали привычные для них методы ведения хозяйства к экосистеме Степи. Казахская степь изобильна землей, но значительная часть этой земли была засушливой, засоленной или по иной причине не подходящей для возделывания. Из-за чрезмерного внимания к количеству «избыточной» земли в Казахской степи было трудно оценить всю сложность задачи и увидеть, что плодородные почвы регулярно чередуются здесь со скудными. В 1891 году, после вереницы неурожайных лет, Степное генерал-губернаторство временно закрыло Степь для дальнейшей колонизации105. Впоследствии, хотя многие переселенцы решили остаться на новом месте, около 20% прибывших вернулись в Европейскую Россию106.
Наследие этой земледельческой колонизации, ее последствия для кочевников-скотоводов, славянских поселенцев и самой Степи отчасти позволяют объяснить масштаб казахского голода 1930–1933 годов, жертвами которого стали полтора миллиона человек, подавляющее большинство которых были казахи. Хотя имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют провести всестороннее исследование того, как менялись экологические условия в регионе (систематический сбор данных о температуре и осадках в Казахской степи начался лишь в конце XIX века), другие материалы, в том числе архивные и этнографические, позволяют увидеть важнейшие изменения в отношениях между людьми, животными, климатом и окружающей средой107. Численность людей и животных стремительно росла, и наблюдатели отмечали, что некоторые источники воды высохли, а плодородие ряда земель истощилось. Поскольку и кочевники, и славянские поселенцы приспосабливались к изменявшимся условиям степной жизни, они установили тесные экономические связи друг с другом, обмениваясь хлебом и скотом. Хлеб стал играть все бóльшую роль в питании казахов, прежде основанном исключительно на мясе и молоке. Вероятно, их питание в целом стало менее обильным, повысив уязвимость этих людей для голода108.
Как показали исследования, голод может быть результатом сочетания резких перемен и долгосрочных структурных процессов109. Программа стремительной трансформации страны, проводимая советской властью, была главной причиной казахского голода 1930–1933 годов, и маловероятно, чтобы в Казахстане без яростной атаки на кочевой образ жизни начался бы голод. Но свою роль сыграло и наследие Российской империи, и в первую очередь перемены, вызванные массовой крестьянской колонизацией Казахской степи в конце XIX – начале XX века110. Эти перемены, которые советские чиновники иногда видели, а иногда – нет, способствовали их представлению, что степная экономика находится в состоянии кризиса и единственный способ сделать Казахскую степь экономически продуктивной – насильственно посадить кочевников-казахов на землю. В конечном счете воздействие перемен, начавшихся в эпоху Российской империи, усилило эффект резкого изменения курса советской власти и сделало казахский голод более интенсивным.
Эта глава начинается с определения места кочевого скотоводства в более широком контексте – истории Центральной Евразии111. Здесь обозначаются важнейшие черты кочевого образа жизни и способы, при помощи которых кочевники регулярно приспосабливались к политическим и экологическим изменениям. Затем прослеживаются контакты казахов с Российской империей – процесс, который в XIX веке увенчался завоеванием Казахской степи. Рассматривается, как выглядела жизнь кочевников накануне крестьянского переселения, показываются тесные взаимоотношения между кочевыми методами ведения хозяйства и степной окружающей средой. Наконец, анализируется, как прибытие поселенцев-крестьян изменило различные грани этих взаимоотношений.
КОЧЕВОЕ СКОТОВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ
Практика кочевого скотоводства в степной зоне Центральной Евразии насчитывает не менее четырех тысячелетий112. В середине I-го тысячелетия до нашей эры североиранский народ скифов перебрался в западную степь и создал первую в истории региона кочевую державу. Греческий историк Геродот оставил знаменитое описание устройства скифской державы, уделив особое внимание скифскому мастерству конного боя и развитию торговли113. Впоследствии мусульманские географы давали Степи имена в зависимости от того, кто в ней жил. В начале VIII века нашей эры ее называли «Степь Гузов» – в честь тюрок-огузов. К XI веку получило распространение персидское имя «Дешт-и-Кипчак» – в честь кипчаков (половцев). Хотя после монгольского завоевания половцы перестали доминировать в Степи, название оставалось в ходу до XIX века, когда ему на смену пришел термин «Киргизская степь»114. Уже в советское время эту землю стали называть Казахской степью – имя, используемое и поныне. Этот пример показывает, что для многих история Степи – это история кочевников, связанная с образами воинственных всадников, совершающих набеги и свободных от стеснений оседлой жизни.
Но, как показали исследования, история кочевого скотоводства в Центральной Евразии значительно богаче, чем этот стереотипный образ. На протяжении веков кочевой образ жизни действительно господствовал в степных краях, в то время как оседлое население жило в оазисах или орошаемых долинах рек. Тем не менее находки археологов показывают, что в бронзовый век (3–2-е тысячелетия до нашей эры) в Степи наблюдалось заметное разнообразие видов экономической деятельности: если некоторые кочевые пастушеские общества уделяли особое внимание скотоводству, то другие занимались в первую очередь охотой115. Ученые доказали, что начиная с эпохи неолита и до современности в зонах господства кочевников существовало земледелие, игравшее вспомогательную роль, в том числе выращивание таких засухоустойчивых культур, как яровая пшеница, просо и овес116. Эти выводы шли вразрез с традиционным представлением, что в Степи единственным способом прокормиться было отгонное скотоводство. С другой стороны, они показали, что климатические трудности, с которыми сталкивалось земледелие, не были чем-то постоянным117. Эти и другие находки подтолкнули ученых к пересмотру взглядов на то, что представляло собой в действительности кочевое скотоводство Центральной Евразии и как оно менялось по прошествии лет118.
Не так просто найти точное определение термина «кочевое скотоводство». Скотоводство – экономическая практика, заключающаяся в разведении скота и наблюдении за ним. В отличие от фермеров, обеспечивающих свой скот сеном и пищей и размещающих его в стойлах или загонах, скотоводы-кочевники держат своих животных на выпасе под открытым небом119. Кочевой образ жизни можно определить как стратегию или как регулярное и осмысленное перемещение людей120. Скотоводы-кочевники раз за разом целенаправленно передвигались с одного места на другое, чтобы пасти свои стада овец, верблюдов или лошадей. Большинство этих скотоводов занимались и другой деятельностью, дополнявшей основную, – торговлей, охотой и сезонным земледелием. Из-за необходимости перемещаться вместе со стадами животных кочевники обычно предпочитали такие жилища, которые легко разобрать и перенести на новое место, – шатры или юрты (киіз үй)121.
Важно отметить, что жизненные стратегии кочевников не были чем-то неизменным и вневременным122. Как показали исследования, они меняли их перед лицом новых возможностей или новых опасностей123. В случае климатических изменений – например, температурных или связанных с количеством осадков – некоторые кочевники могли переключиться с круглогодичных миграций на сезонные. Общественно-политические перемены – например, появление новых людей или изменение политических структур – заставляли их увеличивать либо уменьшать опору на другие виды экономической деятельности, такие как земледелие или охота124. Наконец, кочевое скотоводство было обусловлено не только необходимостью приспособиться к окружающей среде – оно могло быть и политической стратегией. В тяжелые времена оно позволяло людям, почувствовавшим себя под угрозой, удалиться в более гостеприимные земли125.
В конце XIX – начале XX века, когда началась массовая славянская колонизация Степи, российские чиновники стали свидетелями важнейших изменений в жизни кочевого населения, и эти изменения, казалось, подтверждали их представление, что начался тот уникальный исторический момент, когда кочевое скотоводство исчезнет перед лицом наступающей современности. Многие имперские чиновники считали, что превращение казахов в оседлое население эволюционно «правильно», и приветствовали его126. Наблюдая за жизнью кочевников, они были склонны видеть в Российской империи единственный движитель этих перемен. Именно близость казахов к оседлому (и, как считали российские чиновники, более культурному) обществу служила объяснением многочисленных изменений, в том числе и растущей зависимости кочевников от земледелия.
Но, как покажет эта глава, Российская империя была отнюдь не единственным движителем перемен в Казахской степи. Позиция казахов в ситуации массового крестьянского переселения вовсе не была пассивной. Изменения в их обществе, которые наблюдали представители Российской империи, в неменьшей степени обусловливались экологическими и экономическими факторами127. К тому же многие из этих изменений отнюдь не являлись чем-то уникальным. Нередко они были неотъемлемой частью региональной истории. В Центральной Евразии разделительная линия между кочевником-скотоводом и оседлым земледельцем зачастую была куда менее различима, чем в других регионах мира128. Стратегии, которые наблюдатели называли полукочевыми, такие как вспомогательное земледелие или укорачивание ежегодных миграций, вовсе не обязательно означали, что практикующий их народ переходит к оседлой жизни. Полукочевые формы деятельности тоже могли быть стабильными и долгосрочными. И если некоторые группы могли – под влиянием экологических, социальных или политических факторов – принять решение осесть на землю, другие группы, полукочевые или оседлые, точно так же могли перейти к кочевому образу жизни129.
ВСТРЕЧА КАЗАХОВ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Использование для самоидентификации термина «казак» восходит к концу XV века. В 1459–1460 годах Жанибек (Жәнібек) и Кирей (Керей), называвшие себя потомками Чингисхана, отделились от Абулхаира, хана Узбекского улуса. После поражения в войне с ойратами (западными монголами) Абулхаир был ослаблен, и Жанибек и Кирей использовали эту возможность, чтобы вместе со своими сторонниками, группой кочевых племен тюркского и монгольского происхождения, перебраться в Семиречье. Они стали известны как узбек-казаки. Первая часть названия указывала на ханство, из которого они были родом, а тюркское слово «казак» применялось к людям и группам людей, покинувшим свой клан или своего правителя, чтобы жить бродячей жизнью130. Со временем часть последователей Абулхаира покинула его и присоединилась к этому новому объединению. К XVI веку Казахское ханство, как его теперь называли, стало господствующей силой в центральной и восточной части Степи, а потомки Жанибека, Кирея и их сторонников теперь звались просто «казаки».
Согласно народным сказаниям, в конце XVI века Казахское ханство разделилось на три надплеменные конфедерации, каждая из которых стала называться жузом (ордой). Со временем Старший жуз (Ұлы жүз) стал господствовать в Семиречье, Средний жуз (Орта жүз) – в центре Степи и на юго-западе Сибири, а Младший жуз (Кіші жүз) взял под контроль западную часть Степи131. Каждым из трех жузов управлял независимый хан, или военный правитель, хотя самые влиятельные из них были способны объединить все три жуза под своим началом: например, с 1680 по 1718 год все жузы находились под властью Тауке-хана. Обычно ханы были из чингизидской знати и претендовали на происхождение от Жанибека, Кирея и, следовательно, самого Чингисхана, основателя Монгольской империи. Чингизиды составляли часть небольшой аристократической элиты Казахского ханства, известной как «белая кость» (ақ сүйек) – в противовес «черной кости» (қара сүйек)132.
Россия стала принимать участие в степной политике с середины XVI века, когда Московское государство завоевало Казанское и Астраханское ханства. Продвигаясь дальше в Степь, Россия распространила свою власть на Северный Кавказ, по ту сторону Уральских гор и, наконец, при Екатерине II, на Крымское ханство, расположенное на берегу Черного моря и ставшее частью России в 1783 году133. Вслед за этим пришли земледельцы-славяне, с XVIII века интенсивно осваивавшие пояс степей вокруг русских земель. Но расширение пограничья Российской империи спровоцировало частые конфликты между славянскими поселенцами и кочевыми народами Степи – башкирами, калмыками и казахами134. В Казахской степи, как и в других частях Российской империи, правительство возвело линию укреплений с целью преградить путь набегам кочевников на земледельческие поселения. Вплоть до середины XIX века Сибирская укрепленная линия в значительной степени определяла южную границу славянских поселений в Казахской степи135.
На протяжении XVIII века Российская империя принимала все более активное участие в делах Казахской степи к югу от Сибирской линии, хотя многое в российско-казахских отношениях оставалось неопределенным. В XIX веке в силу целого ряда причин, от экономических до геостратегических, Российская империя стала укреплять свой контроль над Казахской степью136. Нельзя сказать, что российское завоевание прошло беспрепятственно – примером сопротивления служит могучее восстание Кенесары Касымова (1837–1847 годы), средоточием этого восстания были земли Среднего жуза, – но к концу XIX века Российская империя полностью включила в свой состав владения всех трех казахских жузов. В 1822 году Петербург утвердил Устав о сибирских киргизах [казахах], формально записав казахов Среднего жуза в российские подданные и реорганизовав управление этим жузом, в частности упразднив титул хана. В 1844 году Петербург издал Положение об управлении оренбургскими киргизами [казахами], провозгласившее земли Младшего жуза частью Российской империи. Земли Старшего жуза последними попали под власть России, после завоевания Ташкента (1865 год), Самарканда и Бухары (1873 год) и Коканда (1876 год)137.
Власти приняли ряд постановлений, по которым земли Казахской степи оказались в государственной собственности. Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях, опубликованное в 1868 году, провозгласило земли в этих областях, примерно соответствовавшие территориям Младшего и Среднего жузов, государственной собственностью. Степное положение 1891 года, охватывая все эти земли, а также Семиречье, часть традиционных пастбищ Старшего жуза, основывалось на этом принципе государственной собственности. Статья 120 данного положения дополнительно указывала, что государство имеет право конфисковать излишки, то есть земли, не являющиеся необходимыми для кочевников138. Установив принцип государственной собственности, Петербург приступил к разграничению земель Казахской степи. Временное положение 1868 года разделило ее на области, уезды и волости, создав тем самым внутренние границы. По Петербургскому договору 1881 года Россия и Цинская империя согласились провести демаркацию международной границы, отделив казахов Китайского Туркестана от их сородичей, живших в Русском Туркестане. Невзирая на все эти границы, прочерченные на местном, региональном и международном уровнях, сезонные откочевки казахов через границу не прекратились. Но теперь на их пути были дополнительные помехи. Так начались масштабные перемены в образе жизни казахов.
99
Demko G.J. The Russian Colonization of Kazakhstan, 1896–1916. Bloomington, 1969. Исследование Демко посвящено степным областям – Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, а также Тургайской и частям Семиреченской и Сырдарьинской. Впоследствии все они станут частями Советского Казахстана.
100
Demko G.J. The Russian Colonization of Kazakhstan, 1896–1916. P. 139.
101
Об этом периоде переселения см.: Coquin F.-X. La Sibérie: Peuplement et immigration paysanne au 19e siècle. Paris, 1969; Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca, 2004. Chap. 5; Treadgold D.W. The Great Siberian Migration: Government and Peasant in Resettlement from Emancipation to the First World War. Princeton, 1957. Более обширный обзор колонизации и ее места в евразийской истории см. во вступлении к: Breyfogle N.B., Schrader A., Sunderland W., eds. Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History. New York, 2007.
102
О крестьянской колонизации Казахской степи см.: Campbell I.W. Knowledge and the Ends of Empire. Ithaca, 2017. Chap. 5; Demko G.J. The Russian Colonization of Kazakhstan; Kendirbai G. Land and People: The Russian Colonization of the Kazak Steppe. Berlin, 2002; Малтусынов С.Н. Аграрный вопрос в Казахстане и Государственная дума России 1906–1917 гг. (социокультурный подход). Алматы, 2006; Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. Richmond, Surrey, 2001. Chap. 3; Stebelsky I. The Frontier in Central Asia // Studies in Russian Historical Geography / Eds. J.H. Bater, R.A. French. London, 1983. Vol. 1. P. 149–152. О заселении Русского Туркестана (отдельные части которого наряду со Степью будут включены в Советский Казахстан) см.: Brower D.R. Turkestan and the Fate of the Russian Empire; Morrison A. Peasant Settlers and the Civilizing Mission in Russian Turkestan, 1865–1917 // Journal of Imperial and Commonwealth History. 2015. Vol. 43. No. 3. P. 387–417. См. классическое советское описание: Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. Алма-Ата, 1950.
103
См., например, заявление статского советника Н.А. Крюкова: «Кочевое скотоводство есть анахронизм, с которым государство должно решительно покончить» (Журнал совещания о землеустройстве киргиз (1907). С. 35–36, 113–121; опубликовано в: Аграрная история Казахстана (конец XIX – начало XX в.): Сборник документов и материалов / Авт.-сост. С.Н. Малтусынов. Алматы, 2006. С. 119).
104
Нурбулат Масанов приходит к подобным же выводам, считая, что Российская империя не смогла покончить с базовыми социальными и экономическими функциями казахской кочевой жизни (Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. С. 530–533).
105
Stebelsky I. The Frontier in Central Asia. P. 158.
106
По оценке Джорджа Демко, более 22% всех поселенцев вернулись в Европейскую Россию (Demko G.J. The Russian Colonization of Kazakhstan. Р. 203).
107
Первая метеостанция, измерявшая осадки и температуру в Казахской степи, находилась в Верном (ныне – Алматы), где подобные измерения начались в 1879 году. Полные данные других метеостанций в Казахской степи, Форта Александровского (ныне – Форт-Шевченко) и Казалинска, доступны лишь с 1891 года. Таким образом, оценить климатические изменения, происходившие с течением времени, а также региональные различия в засушливости очень трудно. Данные о температуре и осадках в Средней Азии содержатся в кн.: Williams M.W., Konovalov V.G. Central Asia Temperature and Precipitation Data, 1879–2003. Boulder, 2008.
108
Историки Российской империи не уделяли достаточного внимания тому, в какой степени колонизация пограничья трансформировала системы жизнеобеспечения местных народов. Эти вопросы, однако, были подробно исследованы на материале США – историками, специализирующимися на изучении систем жизнеобеспечения американских индейцев. Два классических труда принадлежат Уильяму Кронону и Ричарду Уайту: Cronon W. Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England. New York, 1983; White R. The Roots of Dependency: Subsistence, Environment, and Social Change among the Choctaws, Pawnees, and Navajos. Lincoln, 1983.
109
Примеры подобного подхода см. в работах: Davis М. Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. New York, 2002; Serels S. Starvation and the State: Famine, Slavery, and Power in Sudan, 1883–1956. New York, 2013; Watts М. Silent Violence: Food, Famine, and Peasantry in Northern Nigeria. Berkeley, 1983.
110
Мало кто из исследователей уделил внимание этому вопросу. Единственное исключение – Pianciola N. Stalinismo di frontiera. Cap. 1–2. В этой главе я стараюсь опираться на наблюдения Пьянчолы, показывая, как инструментарий истории окружающей среды может дополнить экономический подход, которого он придерживается в своем исследовании.
111
В самом широком значении термин «Центральная Евразия» включает земли от степей Украины на западе до тихоокеанского побережья на востоке и от сибирских лесов на севере до Тибетского нагорья на юге. О проблемах определения этого термина см. дискуссию в кн.: Perdue Р. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, MA, 2005. Р. 19.
112
См., например: Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction. Труд Фракетти основан на его работе в качестве археолога в Джунгарском Алатау, горном районе Семиречья на юго-востоке нынешнего Казахстана.
113
Herodotus. The Histories / Transl. by T. Holland. New York, 2014. Рус. текст: Геродот. История / Пер. с греч. и коммент. Г.А. Стратановского. М., 1972.
114
Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia. Boston, 2003. P. 2.
115
Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction.
116
Di Cosmo N. Ancient Inner Asian Nomads: Their Economic Basis and Its Significance in Chinese History // Journal of Asian Studies. 1994. Vol. 54. No. 4. P. 1092–1126.
117
Taaffe R.N. The Geographic Setting // The Cambridge History of Early Inner Asia / Ed. D. Sinor. Cambridge, 1990. Тааффе предпочитает термин «Внутренняя Азия», а не «Центральная Евразия». Его определение Внутренней Азии включает в себя Казахскую степь.
118
Ди Космо, например, опираясь на свои открытия, связанные с земледельческими практиками Внутренней Азии, оспаривает традиционную точку зрения, что кочевые скотоводческие общества были внутренне нестабильны, несамодостаточны и нуждались в оседлых обществах для удовлетворения своих самых базовых потребностей. См.: Di Cosmo N. Ancient Inner Asian Nomads. Противоположный взгляд – что кочевники Евразийской степи зависели от оседлого населения – отстаивает Анатолий Хазанов: Khazanov А. Nomads and the Outside World / Transl. by J. Crookenden. New York, 1983. Рус. текст: Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир: Избранные научные труды. СПб., 2008.
119
Salzman Р.С. Pastoralists: Equality, Hierarchy, and the State. Boulder, 2004.
120
Eickelman D.F. The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach. Upper Saddle River, 2002. Р. 64–66.
121
Salzman Р.С. Pastoralists. Р. 4.
122
Некоторые историки вообще не используют термина «кочевник» – чтобы избежать ошибочного представления, будто кочевой образ жизни был чем-то постоянным, отсталым и неизменным. Антропологи Кэролайн Хамфри и Дэвид Снит предпочитают термин «подвижное пастушество» (Humphrey C., Sneath D. The End of Nomadism? Society, State, and the Environment in Inner Asia. Durham, 1999). Я в своей книге выбрала термин «кочевое скотоводство» (pastoral nomadism), поскольку, как я считаю, он отражает сущность этого образа жизни лучше, чем какой-либо из альтернативных терминов. На протяжении всей книги я подчеркиваю гибкость кочевой скотоводческой жизни и ее способность адаптироваться к различным ситуациям вопреки стереотипу о ее застойной и неизменной природе.
123
Критика этих взглядов содержится в кн.: Di Cosmo N. Ancient Inner Asian Nomads; Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction.
124
Существует точка зрения, что под воздействием климатических и политических изменений в железный век кочевые скотоводы Семиречья, «ранее ориентировавшиеся главным образом на пастушество, перешли к более интенсивному земледелию». См.: Rosen А.М., Chang C., Grigoriev F.P. Paleoenvironments and Economy of Iron Age Saka-Wusun Agro-Pastoralists in Southeastern Kazakhstan // Antiquity. 2000. Vol. 70. No. 285. Р. 611–623.
125
Об использовании физической мобильности как о политическом выборе см.: Irons W. Nomadism as a Political Adaptation: The Case of the Yomut Turkmen // American Ethnologist. 1974. Vol. 1. No. 4. Р. 635–658; Scott J.C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland South-east Asia. New Haven, 2009.
126
В правление Екатерины II власти стремились распространить среди казахов ислам, полагая, что развитие того, что они считали нормативными исламскими практиками, связано с оседлой жизнью. См.: Crews R.D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, MA, 2006. Chap. 4 (рус. пер.: Круз Р. За Пророка и царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2020).
127
На аналогичные моменты обратил внимание историк окружающей среды Уильям Кронон в своем классическом труде о том, как контроль над колониальной Новой Англией перешел от индейцев к европейцам. См.: Cronon W. Changes in the Land. P. 160–164.
128
Khazanov А. Nomads and the Outside World. Р. 46.
129
Ibid. P. 21; Humphrey C., Sneath D. The End of Nomadism? P. 196.
130
Bregel Y. Uzbeks, Qazaqs, and Turkmens // The Cambridge History of Inner Asia / Eds. N. Di Cosmo et al. Cambridge, 2009. P. 225; Lee J.-Y. Qazaqlïq, or Ambitious Brigandage, and the Formation of the Qazaqs: State and Identity in Post-Mongol Central Eurasia. Boston, 2016.
131
Формирование трех казахских жузов с трудом поддается датировке – отчасти в силу нехватки источников по этому периоду. Первое упоминание трех отдельных жузов с названиями относится к 1731 году, но большинство историков датируют их формирование концом XVI века. См. обсуждение этого вопроса: Frank A.J. The Qazaqs and Russia // The Cambridge History of Inner Asia. Р. 364–365.
132
Khazanov А. Nomads and the Outside World. Р. 146; Yessenova S. Soviet Nationality, Identity, and Ethnicity in Central Asia: Historic Narratives and Kazakh Ethnic Identity // Journal of Muslim Minority Affairs. 2002. Vol. 22. No. 1. Р. 14.
133
Об этой экспансии см.: Khodarkovsky М. Russia’s Steppe Frontier. Bloomington, 2002 (рус. пер.: Ходарковский М. Степные рубежи России: как создавалась колониальная империя. 1500–1800 / Пер. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019).
134
См., например: Khodarkovsky М. Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads 1660–1771. Ithaca, 1992.
135
О многочисленных контактах сибирских казаков с казахами см.: Malikov Y. Tsars, Cossacks, and Nomads: The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the 18th and 19th Centuries. Berlin, 2011. Петербургские власти разделили сибирских казаков, поселив часть из них в Казахской степи, намного дальше к югу (семиреченские казаки).
136
Маликов подчеркивает, что Россия была заинтересована в торговле, в том числе в безопасном прохождении караванов через Казахскую степь, а также испытывала необходимость прекратить набеги кочевников на русские земледельческие поселения, находившиеся за Сибирской укрепленной линией (Ibid. Chap. 4). О роли, которую сами казахи играли в облегчении этого завоевания и содействии ему, см.: Kilian J. Allies and Adversaries: The Russian Conquest of the Kazakh Steppe. PhD diss., George Washington University, 2013. Общий обзор недавних исследований завоевания Средней Азии см. в статье: Morrison А. Killing the Cotton Canard and Getting Rid of the Great Game: Rewriting the Russian Conquest of Central Asia, 1814–1895 // Central Asian Survey. 2014. Vol. 33. No. 2. Р. 131–142.
137
Существуют различные оценки численности населения трех казахских жузов. В своем описании жизни казахов, впервые опубликованном в 1832 году, офицер Генерального штаба Алексей Левшин сообщал, что Старший жуз – наименьший из трех и его население составляет 500–600 тысяч человек. Младший жуз, по его расчетам, включал 1110 тысяч человек. По мнению Левшина, Средний жуз был наибольшим из трех и его население достигало 1360 тысяч человек. См.: Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. СПб., 1832, репринтное издание: Алматы, 1996. С. 288.
138
Текст этого положения воспроизводится в кн.: Аграрная история Казахстана. С. 25–28.