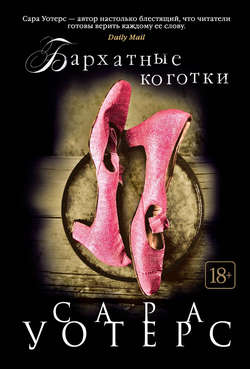Читать книгу Бархатные коготки - Сара Уотерс - Страница 6
Часть первая
Глава 4
ОглавлениеДобравшись к следующему полудню до зала «Звездный», мы обнаружили, что он не составляет и десятой части ни одного из тех удивительных залов Уэст-Энда, которые мы с мистером Блиссом воображали местом будущих триумфов Китти, но даже и такой, как есть, он пугал своей красотой и величием. Директором его был в то время некий мистер Линг; он встретил нас у служебного входа и провел в свой кабинет, где зачитал вслух условия контракта Китти и получил ее подпись; затем он довольно поспешно пожал нам руки и крикнул мальчика-ассистента, чтобы тот проводил нас на сцену. Здесь я, робея и не зная, куда себя девать, ждала, пока Китти разговаривала с нашим дирижером и прорепетировала с оркестром свои песни. Тем временем ко мне подошел мужчина с метлой на плече и довольно бесцеремонно спросил, кто я такая и что тут делаю.
– Жду мисс Батлер, – тонюсеньким голосом пропищала я.
– Ах вот как. Что ж, дорогуша, тебе придется подождать где-нибудь в другом месте, потому что я должен подмести и ты мне мешаешь. Так что давай.
Я залилась краской и отступила в коридор, где, оглядывая меня и ругаясь, когда я мешала пройти, неуклюже сновали туда-сюда ассистенты с корзинами, стремянками, ведрами с песком.
В тот же вечер мы повторно посетили концертный зал, и на этот раз без осложнений, так как сразу отправились в гримерную, а там я лучше знала, что мне делать. Впрочем, войдя, я сразу пала духом: гримерная ничуть не походила на ту уютную маленькую комнатку в «Кентерберийском варьете», которая находилась целиком в распоряжении Китти. Темное и пыльное помещение было рассчитано на целую дюжину артистов, с лавками, крючками для одежды, одной на всех засаленной раковиной; дверь приходилось подпирать, иначе она распахивалась, открывая внутренность комнаты взглядам рабочих сцены и случайных посетителей. Мы припозднились, большая часть крючков была уже занята, по лавкам сидели полуодетые девушки и женщины. При нашем появлении они подняли глаза, почти все заулыбались; когда Китти вынула пачку «Уэйтс» и спички, какая-то из артисток воскликнула: «Слава тебе господи, у кого-то есть сигареты! Поделишься с нами штучкой, киса? У меня не предвидится ни гроша до самого дня зарплаты».
Китти предстояло выступить в начале первого отделения. Помогая ей с воротничком, галстуком и розой, я чувствовала себя вполне уверенно, однако, когда я отправилась за кулисы, чтобы подождать ее номера и осмотреть из темноты незнакомый театр с громадной безразличной толпой зрителей, у меня задрожали поджилки. Я взглянула на Китти. Ее лицо под слоем грима побелело, но от страха или от решимости – сказать было нельзя. С единственной, клянусь, целью – поддержать ее (а как же: я ведь вознамерилась быть ей сестрой, и только сестрой) я стиснула ладонь Китти.
Когда помощник режиссера наконец кивнул Китти, мне пришлось обратить взгляд на сцену. Концерт шел без ведущего, призвать толпу к порядку было некому, а выход Китти следовал за номером популярного комика, которого вызывали на бис четыре раза, так что он еле упросил слушателей отпустить его. Публика согласилась неохотно; оркестр заиграл начальные такты первой песни Китти – раздосадованная толпа едва слушала. Когда на свет рампы выступила сама Китти, махнула шляпой и крикнула: «Хэлло!» – с галерки не последовало ответного гула; ложи и партер ограничились чахлыми аплодисментами – верно, понравился костюм. Принудив себя посмотреть в зал, я заметила там движение: люди ходили в бар или в уборную, мальчишки сидели спиной к нам на ограждении галерки, девушки окликали приятельниц в трех рядах от них или сплетничали с соседями, глядя куда угодно, но только не на сцену, где для них старалась в поте лица Китти – милая, умненькая Китти.
Однако мало-помалу настроение публики менялось – нельзя сказать, что разительно, но все же заметно. Когда Китти закончила первую песню, кто-то из зрителей, свесившись с балкона, крикнул: «А теперь верните-ка нам Нибза!» (комика, которого сменила Китти, звали Нибз Фуллер). Китти и глазом не моргнула; пока оркестр исполнял интермедию, она, приподняв шляпу, отозвалась: «Зачем? Он задолжал вам деньги?» Публика засмеялась, следующую песню слушали уже внимательней и хлопали по ее окончании оживленней. Чуть позже еще кто-то попытался потребовать Нибза, но соседи его зашикали; к тому времени, когда Китти оставалось только исполнить балладу и бросить цветок, публика была уже на ее стороне, слушая внимательно и с интересом.
Я наблюдала как зачарованная. Усталая и раскрасневшаяся, Китти ушла за кулисы, уступая место комическому певцу; я схватила и крепко сжала ее руку. Потом появился мистер Блисс с директором, мистером Лингом. Они следили за выступлением из первого ряда, и вид у них был весьма довольный; мистер Блисс, взяв в свои руки ладонь Китти, воскликнул:
– Триумф, мисс Батлер! Несомненный триумф.
Мистер Линг повел себя более сдержанно. Кивнув Китти, он произнес:
– Отлично, дорогая. Публика не из легких, вы справились на редкость удачно. Пусть только оркестр приспособится к вашей манере ходить по сцене – и все будет блестяще.
Китти только хмурилась. Взяв полотенце, которое я принесла из комнаты для переодевания, она прижала его к лицу. Сняла и отдала мне пиджак, отстегнула галстук.
– Мне хотелось лучшего, – проговорила она наконец. – Не было блеска – искры.
Мистер Блисс, фыркнув, простер к ней руки.
– Дорогая, ваш первый вечер в столице! В таком большом театре вы никогда прежде не работали! Публика о вас узнает, пойдет молва. Наберитесь терпения. Скоро они будут покупать билеты именно на вас! – (Директор при этих словах, как я заметила, прищурился, но Китти, по крайней мере, позволила себе улыбнуться.) – Так уже лучше, – заметил мистер Блисс. – А теперь, с разрешения леди, небольшой легкий ужин нам, наверное, будет не лишним. А к небольшому легкому ужину – по большому полновесному стакану с искристым шампанским, раз уж мисс Батлер не хватает искры.
Ресторан, куда повел нас мистер Блисс, располагался недалеко и был излюбленным заведением театрального люда; там кишмя кишели джентльмены в нарядных жилетах, вроде самого мистера Блисса, и девушки и юноши, вроде Китти, – со следами грима на манжетах и крупинками туши в уголках глаз. За каждым столиком как будто сидели знакомые мистера Блисса, оклики сыпались на каждом шагу, но он нигде не остановился поболтать, а приветствовал всех вместе взмахом шляпы, повел нас в свободную кабинку и подозвал официанта, чтобы ознакомиться с меню. Когда мы сделали выбор, он знаком подозвал официанта и что-то ему шепнул; тот ушел и вскоре вернулся с бутылкой шампанского, которую мистер Блисс принялся торжественно откупоривать. Со всех концов зала понеслись приветственные восклицания, одна из женщин под смех и аплодисменты запела: «Я не притронусь к хересу и пива не коснусь; не лейте мне шампанского, а то, ей-ей, напьюсь».
Я сочиняла мысленно открытку, которую напишу дома: «Я была на ужине в театральном ресторане. Китти дебютировала в концертном зале „Звездный“, и ее выступление признали триумфом…»
Китти с мистером Блиссом тем временем беседовали, и, прислушавшись, я поняла, что речь идет о важных вещах.
– А теперь, – говорил мистер Блисс, – я собираюсь кое о чем вас попросить. Как джентльмен я постеснялся бы обратиться к вам с подобной просьбой, но в данном случае я говорю как театральный агент. Я хочу вас попросить, чтобы вы походили по городу, – и вам, мисс Астли, следует ей помочь, – добавил он, перехватив мой взгляд, – вам нужно обеим походить по городу и поизучать мужчин!
Я, обернувшись к Китти, растерянно замигала, она ответила неуверенной улыбкой:
– Поизучать мужчин?
– Поизучать под лупой! – Мистер Блисс разрезал отбивную. – Ухватить их характеры, привычки, манеры, походку. Как он жил? Что скрывает? Расстался с возлюбленной? Или у него просто болит нога и сосет под ложечкой? – Он взмахнул вилкой. – Вы должны все это понимать и копировать, чтобы и публика в свою очередь тоже поняла.
– Вы думаете изменить номер Китти? – спросила я в недоумении.
– Я думаю, мисс Астли, расширить ее репертуар. Ее петиметр – очаровательный парнишка, но не всю же жизнь расхаживать в лавандовых перчатках по Берлингтонскому пассажу. – Он снова оглядел Китти, вытер салфеткой рот и перешел на доверительный тон. – А как насчет мундира полицейского? Блузы моряка? Зауженных книзу брюк, пальто с перламутровым отливом? – Мистер Блисс повернулся ко мне. – Вообразите только, мисс Астли, как в эту самую минуту все это изобилие томится где-нибудь на дне костюмерной корзины, ожидая одного: облечь собой Китти Батлер, которая вдохнет в него жизнь! Подумайте об этих прекраснейших тканях – вот шерсть цвета слоновой кости, вот волнистые шелка, винно-красный бархат, алый шаллун; прислушайтесь, как щелкают ножницы, шуршат нитки; представьте себе ее успех в наряде солдата, уличного торговца, принца…
Мистер Блисс наконец замолк, и Китти улыбнулась:
– С вашим красноречием, мистер Блисс, вы бы и однорукого уговорили заняться жонглерским ремеслом.
Засмеявшись, тот стукнул ладонью по столу, так что зазвякали приборы, – оказалось, у него как раз имелся в клиентах однорукий жонглер, весьма успешно рекламируемый в афишах как Второй Чинквевалли: Ловкость Одной Руки – Ловкость Вдвойне!
Все происходило по слову мистера Блисса: он послал нас к торговцам театральными костюмами и портным, где Китти обзавелась дюжиной мужских нарядов, а потом – к фотографам: запечатлеть ее с полицейским свистком, с ружьем на плече, с такелажным канатом. Под костюмы он подбирал песни и самолично относил на Джиневра-роуд, наигрывал их на разбитом пианино миссис Денди, Китти пробовала петь, а все остальные слушали и высказывали суждения. Но главное, он заключил контракты с концертными залами: в Хокстоне, Попларе, Килберне, Боу. За каких-нибудь две недели лондонская карьера Китти успешно набрала ход. Теперь после представления в «Звездном» она уже не переодевалась в свое обычное женское платье; нет, я ждала ее с пальто и корзинкой наготове, и после выступления мы стремглав бежали через служебный ход к поджидавшему нас экипажу, чтобы по уличной давке вовремя добраться до следующего театра. На сцену она выходила не в одном костюме, а два-три раза переодевалась, и мне как костюмеру приходилось трудиться вовсю: пока оркестр играл интерлюдию, а публика, едва сдерживая нетерпение, ждала, мы с Китти поспешно отстегивали и застегивали пуговицы и запонки.
Разумеется, обычный образ жизни был теперь не для нас: притом что Китти выступала за вечер в двух-трех, а то и четырех залах, мы стали возвращаться на Джиневра-роуд не ранее половины первого или часа, усталые, разбитые, но радостно взволнованные от поездок по городу при лунном свете, тревожного ожидания в гримерных и за кулисами. Дома мы заставали Симса, Перси и Тутси, а также ее приятельниц и кавалеров; свежие, розовощекие, такие же веселые, как мы, они готовили в кухне миссис Денди чай и какао, гренки по-валлийски и оладьи. Появлялась и миссис Денди (издавна давая приют театральной братии, она и сама перешла на их образ жизни), предлагала сыграть в карты, спеть или потанцевать. В такой обстановке недолго оставались тайной моя любовь к пению и красивый голос, и я не один раз вместе с Китти затевала полуночные хоры. Ложилась я теперь не раньше трех, а вставала в девять-десять – о привычках устричной торговки было забыто сразу и полностью.
Но разумеется, я не забывала о своей семье и доме. Как уже было сказано, я посылала им почтовые карточки, афиши Китти, пересказывала театральные сплетни. В ответ они слали мне письма и небольшие посылки – бочонки устриц, конечно, которые я вручала квартирной хозяйке, чтобы подала нам всем на ужин. И все же писала я домой все реже, откликалась на их послания и подарки кратко и с опозданием. «Когда ты приедешь нас повидать? – неизменно спрашивали они в конце своих писем. – Когда вернешься в Уитстейбл?» И я отвечала: «Скоро, скоро…» или «Когда Китти сможет меня отпустить…».
Но Китти не могла без меня обойтись. Проходили недели, сменялось время года, ночи становились длиннее, темнее и холоднее. Уитстейбл не то чтобы стирался из памяти, но мерк. Нельзя сказать, что я не думала об отце и матери, об Элис и Дейви, о моих кузенах – просто о Китти и моей новой жизни я думала больше…
А подумать было о чем. Я служила у Китти костюмершей, но одновременно была ее подругой, советчицей, помощницей во всем. Когда она разучивала песни, я держала ноты и подсказывала ей, когда она запиналась. Во время примерок я наблюдала и кивала или трясла головой, если костюм сидел плохо. Когда она по совету мудрого мистера Блисса (или Уолтера, поскольку так мы к нему теперь обращались, а он к нам – Китти и Нэн) – так вот, когда она по совету Уолтера часами бродила по лавкам и рыночным площадям, изучая мужчин, я ее сопровождала; вместе мы присматривались к легким шагам констебля, усталой поступи уличного торговца, энергичной походке свободного от службы солдата.
Мы узнали весь этот легкомысленный город, с его ухватками и манерами, я приспособилась к нему, как приспособилась к Китти, и, как ею, была им очарована. Мы посещали парки – те самые красивые парки и сады, поразительно зеленые среди скопищ пыли, но с твердыми дорожками, по которым так легко ступать. Прогуливались по Уэст-Энду, сидели и любовались всем, что того стоило, не только прославленными лондонскими достопримечательностями – дворцами, памятниками, картинными галереями, – но и мимолетными сценками повседневной жизни: вот опрокинулся экипаж, вот улизнул из тележки торговца угорь, вот вор залез в чей-то карман или стянул кошелек.
Мы ходили к реке, стояли на Лондонском мосту, мосту Баттерси и на других мостах, расположенных в промежутке, поражались ширине этого вонючего потока. А ведь эта самая Темза через широкий эстуарий вливается в замечательный, прозрачный, богатый устрицами залив, на берегу которого я выросла. Любуясь прогулочными лодками под Ламбетским мостом, я испытывала странный трепет при мысли о том, что совершила путешествие против течения: путь от неугомонной столицы до сонного незамысловатого Уитстейбла я проделала в обратном направлении. Завидев баржи, везшие рыбу из Кента, я только улыбалась: это зрелище никогда не вызывало у меня тоски по родине. А когда моряки совершали обратную дорогу, я никогда им не завидовала.
Пока мы, довольные жизнью, все больше привязываясь друг к другу, гуляли и наблюдали, год подошел к концу; мы продолжали работать над номером; Китти пользовалась успехом. Каждый новый контракт, найденный Уолтером, был продолжительней и выгодней предыдущего; скоро свободного времени не осталось, и Китти начала отклонять очередные предложения. У нее завелись поклонники – джентльмены, посылавшие ей цветы и приглашения на обед (к моей тайной радости, она со смехом отказывалась), юноши, собиравшие ее фотографии, девушки, которые толпились у служебного входа, чтобы сказать ей, какая она красивая, – и я не знала, как к ним относиться: покровительствовать им, жалеть их или опасаться; они были так похожи на меня, что мы легко могли бы поменяться ролями.
И все же обещанное Уолтером не осуществлялось: Китти не стала звездой. Залы, где она выступала, располагались за городом или в Ист-Энде (как правило, они относились к лучшим, но раз или два попадались не такие высококлассные: «Форестерз» или «Сибрайт», где публика швыряла обувью и свиными костями в не угодивших ей артистов). Фамилию Китти не писали на афишах более крупными буквами, она не поднималась вверх в списке артистов, никто не напевал и не насвистывал на улицах песенки Китти. По словам Уолтера, сама Китти тут была ни при чем, трудность заключалась в ее номере. Слишком много у нее было конкуренток – певиц-травести, прежде редких, как эквилибристы, что вращают тарелки, неожиданно и по непонятной причине развелось видимо-невидимо.
– С какой стати каждая дамочка, желающая заработать деньги на сцене, непременно натягивает на себя брюки? – вопрошал Уолтер раздраженно, когда в Лондоне или ближайших окрестностях дебютировала очередная травести. – С чего бы вполне уважаемой комедиантке или трагикомической актрисе вдруг менять жанр – натягивать брюки клеш и танцевать хорнпайп? Вот ты, Китти, ты рождена, чтобы переодеваться юношей, это и дураку понятно; если бы ты играла в спектаклях, тебе давали бы роли Розалинды, или Виолы, или Порции. Но эти грошовые фиглярши – Фанни Лесли, Фанни Робина, Бесси Боунхилл, Милли Хилтон, – им так же идет смокинг, как мне кринолин или турнюр. Я от этого просто бешусь. – Сидя в нашей маленькой гостиной, Уолтер с такой силой шлепнул по ручке кресла, что из шва взметнулось облачко пыли и волоса. – Я просто бешусь, видя, как девчонке, не одаренной и десятой частью твоего таланта, достаются твои доходы и – хуже того! – твоя слава. – Встав, он положил ладони на плечи Китти. – Ты звезда без пяти минут. – Он слегка подтолкнул Китти, и ей пришлось, чтобы удержать равновесие, схватить его за руки. – Должно найтись что-то… что-то такое, что даст тебе толчок, – какая-то добавка к номеру, чтобы всем стало понятно: ты – это одно, а все прочие попрыгуньи – другое!
Но как мы ни старались, изюминка не находилась, а тем временем Китти продолжала выступать не в самых больших театрах и не в самых шикарных районах: Ислингтоне, Марилебоне, Баттерси, Пекеме, Хэкни; переезжая вечером из зала в зал, мы огибали Лестер-Сквер, колесили по Уэст-Энду, однако те роскошные арены, о которых мечтали они с Уолтером, вроде «Альгамбры» и «Эмпайра», оставались для нас недоступны.
Честно говоря, меня это не особенно огорчало. Мне было обидно за Китти, что ее лондонская карьера не сложилась так блестяще, как она ожидала, но втайне я испытывала облегчение. Видя, как она очаровательна и умна, я, с одной стороны, стремилась, подобно Уолтеру, поделиться этим знанием со всем миром, но с другой – предпочитала надежно хранить его при себе. Ибо я не сомневалась, что, добившись подлинной славы, Китти была бы для меня потеряна. Мне не нравилось, когда ее поклонники присылали цветы, когда шумная толпа добивалась у служебного входа фотографий и поцелуев; больше славы – больше цветов и поцелуев, и трудно поверить, что на все приглашения от джентльменов она будет отвечать смехом, что ни одна девушка из тех, кто ею восхищается, не понравится ей больше, чем я.
И опять же, если она прославится, то разбогатеет. Купит дом – и нужно будет покинуть Джиневра-роуд со всеми нашими новыми друзьями, покинуть нашу крохотную гостиную, нашу общую кровать и расселиться по разным комнатам. Об этом мне страшно было подумать. Я больше не трепетала, не замирала неловко, когда она меня касалась; я научилась целомудренно и небрежно поддаваться ее объятиям, принимать поцелуи и даже иногда отвечать на них. Привыкла видеть ее спящей, неприбранной. У меня не перехватывало дыхание, когда я, открыв глаза, различала сквозь серый утренний полумрак ее неподвижное лицо. Я видела ее голой, когда она переодевалась или готовилась мыться. Ее тело я изучила как свое собственное и даже лучше, так как и голова ее, и шея, запястья, спина, руки и ноги (такие же гладкие, округлые и веснушчатые, как щеки) и ее кожа (которую она носила с удивительной непринужденной грацией, как прекрасно сидящий красивый костюм) – все притягивало и очаровывало взгляд, в отличие, как я думала, от моей внешности.
Нет, мне не хотелось никаких перемен, даже после того, как я узнала об Уолтере нечто настораживающее.
Проводя с Уолтером бесконечные часы (репетиции за пианино миссис Денди, ужины после шоу), мы обе неизбежно начали видеть в нем не столько своего агента, сколько друга. Со временем мы стали встречаться не только по рабочим дням, но и по воскресеньям; в конце концов совместный отдых сделался скорее правилом, чем исключением, и мы по воскресеньям привыкли ожидать, когда загромыхает под окном его экипаж, затопают по лестнице сапоги, раздадутся стук в дверь и шутливое экстравагантное приветствие. Выслушав новости и сплетни, мы отправлялись в город или за город; прогуливались мы троицей: Китти брала его под руку с одной стороны, я – с другой; сам Уолтер в середине походил на доброго дядюшку, веселого и шумного.
Такое времяпрепровождение мне нравилось, но я об этом не задумывалась. Все изменилось однажды утром, когда мы с Китти, Симсом, Перси и Тутси сидели за завтраком. Было воскресенье, мы немного припозднились, и тут Симс, услышав, куда мы торопимся и с кем собираемся встретиться, воскликнул:
– Бог мой, Китти, не иначе как Уолтер ждет от тебя настоящих чудес! Насколько я знаю, он не тратил столько времени ни на одного артиста. Все подумают, что он твой ухажер!
Он сказал это как будто без всякой задней мысли, но Тутси, как я заметила, с улыбкой покосилась на Перси, хуже того, Китти вспыхнула и отвернулась, и тут до меня дошло то, о чем они все давно догадывались, а я, дурочка, нет. Через полчаса, когда в дверях гостиной возник Уолтер и со словами «Целуй меня, Кэт!» подставил Китти раскрасневшуюся щеку, я не улыбнулась, но закусила губу и задумалась.
Да, он был чуточку в нее влюблен, а может, и не чуточку. Теперь я это видела – видела, как блестят влагой его глаза, когда он на нее смотрит, и как неловко и поспешно он иной раз отводит взгляд. Я обратила внимание, с какой готовностью он хватается за всякие дурацкие предлоги, чтобы поцеловать ей руку, дернуть ее за рукав, обхватить своей тяжелой, неловкой от желания рукой ее хрупкие плечи; расслышала, как иной раз срывается или переходит на низкие ноты его голос, когда он обращается к Китти. Теперь я видела и слышала все это ясно – по той же самой причине, что делала меня прежде слепой и глухой! Нами обоими владела одна и та же страсть, которую я давно уже полагала незаметной и вполне допустимой.
Я была близка к тому, чтобы пожалеть, чуть ли не полюбить Уолтера. Если я испытывала к нему ненависть, то не большую, чем к зеркалу, которое с безжалостной четкостью показывает тебе твои собственные несовершенные черты. Я даже не стала досадовать, что он участвует в наших прогулках, отнимает возможность побыть вдвоем с Китти. В некотором смысле он был моим соперником, но, как ни странно, любить ее в его присутствии было проще, чем без него. При Уолтере я могла себе позволить быть дерзкой, веселой, сентиментальной, как он; могла изображать преклонение – а это было почти то же самое, что преклоняться перед нею по-настоящему.
И если я до сих пор по ней томилась и пугалась этого томления, то, как уже было сказано, наблюдая за Уолтером, я убеждалась в том, что и моя сдержанность, и моя любовь ничуть не противоречат естеству. Китти в самом деле была звездой – моей собственной звездой, и я, подобно Уолтеру, готова была удовлетвориться тем, чтобы вечно вращаться вокруг нее на отдаленной устойчивой орбите.
Я не имела и понятия о том, насколько скорым и судьбоносным будет наше столкновение.
Наступил декабрь – холодный, в противовес августовской духоте, холодный настолько, что стекло над лестничной клеткой у мамы Денди несколько дней подряд оставалось оледеневшим; холодный настолько, что наше дыхание по утрам бывало густым, как дымок, и мы утягивали свои юбки в постель и надевали их под одеялом.
Дома, в Уитстейбле, мы терпеть не могли холод, потому что он делал вдвое тяжелее труд моряков. Помню, как мой брат Дейви, сидя январскими вечерами у нас в общей комнате перед камином, попросту плакал, скулил от боли, пока в потрескавшиеся, замерзшие руки, покрытые болячками ноги возвращалась жизнь. Помню боль в моих собственных пальцах, когда я, ведерко за ведерком, обрабатывала холодных зимних устриц и выуживала из ледяной воды бесконечных рыбин, чтобы отправить их в кипящий суп.
А вот жильцы миссис Денди, все как один, любили зимние месяцы. Чем холоднее, тем лучше, говорили они. Потому что в мороз и в пронизывающий ветер публика ломится в театры. Многим лондонцам билет в мюзик-холл обходился дешевле, чем ведерко угля, – ну, если чуть дороже, то за такое удовольствие не жалко; чем топать от холода ногами и хлопать руками у себя в убогой гостиной, не лучше ли посетить «Звездный» или «Парагон» и потопать и похлопать там вместе с соседями, с Мэри Ллойд в качестве аккомпанемента? А в самые холодные вечера концертные залы оглашаются детским плачем: лучше взять чадо на шоу, думает мать, а то как бы не померло на сквозняке в сырой колыбели.
Но нас, жильцов миссис Денди, не очень заботили в ту зиму замерзшие дети; мы беззаботно веселились, потому что билеты хорошо раскупались, все мы были заняты и немного пополнили свою мошну. В начале декабря фамилия Китти значилась на афише одного из концертных залов в Марилебоне; она выступала там целый месяц, дважды за вечер. Было приятно сидеть между представлениями в теплой комнате и сплетничать, а не гнать по снегу в другой конец города; к тому же остальные артисты – труппа жонглеров, фокусник, двое или трое комических певцов и супружеская пара лилипутов «Два вершка от горшка» – тоже радовались жизни и составляли очень веселую компанию.
Шоу заканчивалось в Рождество. Мне бы следовало, наверное, встречать его в Уитстейбле; я знала: родители огорчатся, если меня не будет. Но я знала также, на что будет похож рождественский обед. За столом соберутся два десятка двоюродных братьев и сестер, будут говорить все разом и таскать друг у друга с тарелок куски индейки. При таком ажиотаже едва ли кто-нибудь много потеряет из-за моего отсутствия, а вот Китти потеряет точно, а кроме того, я без нее тоже много потеряю и только испорчу окружающим настроение. И вот мы с нею провели Рождество вместе (без Уолтера, как всегда, тоже не обошлось) – ели за столом у миссис Денди гуся и пили шампанское и светлое пиво, за счастье в наступающем году.
Были, разумеется, и подарки: посылка из дома (матушка сопроводила ее краткой сухой запиской, но я намека не поняла и не устыдилась), подарки от Уолтера (Китти – брошка, мне – шляпная булавка). Я отправила пакеты в Уитстейбл и одарила миссис Денди с жильцами; для Китти я припасла самый чудесный подарок, какой смогла найти: жемчужину без единого изъяна, в серебряной оправе на цепочке. Стоила она в десять раз больше, чем самый дорогой из всех моих прежних подарков, и, вручая его, я трепетала. Когда я показала жемчужину миссис Денди, та нахмурилась. «Жемчуг к слезам», – сказала она и покачала головой: она была крайне суеверна. А вот Китти подарок очень понравился, она попросила меня тут же надеть на нее цепочку и схватила зеркало, чтобы полюбоваться жемчужиной, болтавшейся чуть ниже впадинки под стройной шеей. «Никогда ее не сниму», – пообещала она и в самом деле не снимала даже перед выступлением, а прятала под галстук.
Конечно, она тоже купила мне подарок. Он лежал в коробке с бантом, обернутой бумагой. Это оказалось красивое платье, ничего подобного у меня никогда не было: темно-синее вечернее платье: длинное и узкое, на талии кремовый поясок, грудка и кайма из богатого кружева; платье, как я понимала, чересчур для меня роскошное. Вынув его из упаковки и приложив к себе перед зеркалом, я замотала головой: я была просто убита.
– Очень красиво, – сказала я Китти, – но разве я могу оставить его себе? Оно чересчур нарядное. Ты должна отнести его обратно, Китти. Это слишком дорого.
Но Китти, которая с блеском в потемневших глазах наблюдала за этими манипуляциями, только посмеялась над моей растерянностью:
– Тебе самое время обзавестись приличными платьями вместо жутких девчоночьих тряпок, которые ты привезла из дома. У меня вот есть приличный гардероб – тебе он тоже нужен. Видит бог, мы можем себе это позволить. Да и в любом случае это платье вернуть нельзя: оно сшито точно по тебе, как туфелька Золушки, никому другому этот размер не подойдет.
Сшито точно по мне? Это уж совсем кошмар!
– Китти, – взмолилась я, – право слово, не могу, мне никогда к нему не приспособиться…
– Ты должна. А кроме того, – Китти потеребила жемчужину, которую я только что повесила ей на шею, и отвела глаза в сторону, – я теперь процветающая певица. И не могу позволить, чтобы моя костюмерша всю жизнь ходила в сестриных обносках. Это было бы неподобающе, так ведь?
Она произнесла это без нажима, но я тут же осознала справедливость ее слов. У меня имелись уже собственные доходы, и я потратила свое двухнедельное жалованье на ее жемчужину и цепочку, но по уитстейблской привычке не решалась тратить деньги на себя. Что она думала о моей убогой одежде? Я покраснела.
И вот я ради Китти оставила у себя подаренное платье, а через несколько дней мне представился случай впервые его надеть. Это была вечеринка, посвященная окончанию сезона, в марилебонском театре, где мы с таким удовольствием проработали уже месяц. Подготовка шла с размахом. У Китти имелось прелестное, специально сшитое платье из китайского атласа теплого розового оттенка, какой бывает в середине розы: глубокий вырез, короткий рукав. Я подержала это платье, позволив ей в него ступить, а потом помогла его застегнуть. Глядя, как она натягивает перчатки, я испытывала чуть ли не болезненное восхищение, так она была красива: розоватый цвет материи еще больше подчеркивал красноту ее губ, молочную белизну шеи, сочные коричневые тона глаз и волос. Из украшений она надела только мою жемчужину и брошь – подарок Уолтера. Они не подходили одна к другой: брошь была из янтаря. Но, подумала я, Китти могла бы надеть на шею ожерелье из бутылочных пробок и все равно выглядела бы королевой.
Занимаясь пуговицами Китти, я припозднилась с собственным туалетом и сказала, чтобы она меня не ждала. Когда Китти вышла, я натянула на себя красивое платье, ее подарок, подошла к зеркалу и неодобрительным взглядом уставилась на отражение. Наряд настолько меня преобразил, что его вполне можно было назвать маскарадным. В сумерках он казался темным, как полуночное небо, глаза по контрасту приобрели более яркий голубой оттенок, волосы обесцветились, фигура, благодаря длинной юбке и пояску, сделалась еще выше и тоньше. Я ничуть не походила на Китти в ее розовом платье, скорее уж на юнца, вырядившегося шутки ради в бальное платье своей сестры. Волосы я распустила и расчесала щеткой; времени на то, чтобы уложить их в прическу, не оставалось, поэтому я скрутила на затылке узел и воткнула в него гребень. Шиньон, подумала я, подчеркнул бы резкие линии челюсти и щек, зрительно расширил бы и без того широкие плечи. Снова поморщившись, я отвела взгляд. Тем лучше, подумала я: Китти со мной рядом будет выглядеть еще изящней.
Я спустилась на первый этаж. Толкнув дверь гостиной, я застала там Китти со всеми остальными: ужин еще не кончился. Первой меня заметила Тутси – она, наверное, толкнула локтем своего соседа Перси, потому что он поднял глаза от тарелки, взглянул на меня и присвистнул. Повернулся Симс и застыл с не донесенной до рта вилкой, словно видел меня впервые. Миссис Денди, проследив его взгляд, раскашлялась.
– Ну и ну, Нэнси! Да из тебя выросла красивая молодая леди – и прямо у нас под носом!
Тут ко мне обернулась и Китти, и глаза ее округлились – можно было подумать, она, как и Симс, не встречала меня прежде. Чьи щеки – мои или ее – запылали ярче, не знаю.
Слегка улыбнувшись сжатыми губами, она произнесла: «Очень мило» – и отвернулась, отчего я потеряла последнюю надежду на то, что платье не совсем мне не идет, и приготовилась к провалу вечеринки.
Но вечеринка совсем не провалилась; было весело, интересно, шумно, и народу собралось видимо-невидимо. Чтобы всех вместить, директору пришлось пристроить к сцене помост; был нанят оркестр, игравший рилы и вальсы, столы в кулисах ломились от выпечки и желе, бочонков с пивом и чаш с пуншем, выстроившихся рядами бутылок вина.
Наши с Китти новые платья хвалили на все лады; в особенности я ловила со всех сторон улыбки, приветственные знаки и выкрики, перекрывавшие шум в зале: «Вы замечательно выглядите!» Одна женщина – ассистентка фокусника, – взяв меня за руку, повторила слова миссис Денди, сказанные час назад: «Дорогая, вы сегодня так повзрослели, вас просто не узнать!» Я была поражена. Весь вечер мы с Китти простояли рядом, но когда уже после полуночи она отошла, чтобы присоединиться к компании, собравшейся у столов с шампанским, я осталась на месте и задумалась. Я не привыкла думать о себе как о взрослой женщине, но теперь, в красивом, синем с кремовым, платье из атласа и кружев, я впервые ощутила себя женщиной и поняла, что я теперь и есть женщина: мне восемнадцать, я – быть может, навсегда – покинула родительский дом, сама зарабатываю себе на жизнь и оплачиваю собственное жилье в Лондоне. Я смотрела на себя как бы со стороны, как я запросто, словно имбирный лимонад, пью за ужином вино, как болтаю и шучу с рабочими сцены, которых раньше боялась как огня, как беру сигарету у юноши из оркестра, зажигаю и удовлетворенно затягиваюсь. Когда я начала курить? Я не могла вспомнить. Я так привыкла держать сигарету Китти, пока она переодевалась, что постепенно переняла у нее привычку курить. Кончики пальцев, четыре месяца назад постоянно красные и сморщенные от погружений в устричный бочонок, теперь были покрыты горчично-желтыми пятнами.
Музыкант (как будто корнетист) был не прочь затеять со мной беседу.
– Кто вы, знакомая директора? – спросил он. – Я вас прежде тут не видел.
Я усмехнулась:
– Видели. Я Нэнси. Костюмерша Китти Батлер.
Удивленно подняв брови, он вскинул голову, чтобы оглядеть меня с головы до ног:
– А, ну да! Я думал, ты девчушка. А теперь принял тебя за актрису или танцовщицу.
Я улыбнулась и покачала головой. Мы помолчали, корнетист отхлебнул из стакана и вытер усы.
– Но потанцевать запросто ты ведь не откажешься? Как насчет вальса?
Он указал кивком на кружившиеся в глубине сцены пары.
– Нет-нет, – отказалась я. – Не могу. Слишком упилась шампанским.
Корнетист засмеялся:
– Тем лучше!
Отставив стакан и зажав в зубах сигарету, он обхватил меня за талию и поднял. Я вскрикнула, а корнетист принялся крутить меня и наклонять, пародируя движения вальса. Чем громче я смеялась и вскрикивала, тем шустрее он меня вертел. На нас обратились десятки взглядов, зрители хохотали и аплодировали.
Наконец музыкант споткнулся, чуть не упал и со стуком опустил меня на пол.
– Ну вот, – едва дыша, заключил он, – скажи теперь, что я не лучший из танцоров.
– Ничего подобного. Из-за тебя у меня закружилась голова и, – я ощупала перед платья, – сбился пояс.
– Я поправлю.
Он снова потянулся к моей талии. Я с воплем отступила:
– Не смей! Пошел прочь, оставь меня в покое.
Корнетист, однако, принялся меня щекотать, так что я захихикала. От щекотки я всегда хихикаю, даже когда мне не смешно. Еще немного порезвившись, музыкант наконец отстал от меня и вернулся к своим друзьям по оркестру.
Я снова ощупала поясок. Я боялась, что корнетист его порвал, но не видела, так это или не так. Залпом прикончив стакан (шестой или седьмой), я ускользнула со сцены. Сначала я отправилась в туалет, а потом вниз, в комнату для переодевания. В этот раз ее открыли только для того, чтобы дамы повесили там пальто, и потому в помещении было холодно, пусто и сумрачно, однако имелось зеркало, и перед ним я и остановилась и, прищурившись, принялась оправлять платье.
Скоро в коридоре с другой стороны зазвучали, а потом смолкли шаги. Я повернулась: это была Китти. Скрестив руки, она опиралась плечом на дверную раму. В вечернем платье дамы – и Китти не исключение – так обычно не стоят. Эту довольно развязную позу она принимала на сцене, когда на ней были брюки. Лицо ее было обращено ко мне, длинные волосы, бугорки грудей не попадали в мое поле зрения. Щеки Китти были бледны как полотно, на юбке виднелось пятно от шампанского.
– Привет, Китти, – сказала я.
Она не ответила на мою улыбку, только смотрела, не отводя взгляда. Я снова неуверенно обратилась к зеркалу и стала поправлять поясок. Когда Китти наконец заговорила, я сразу поняла, что она изрядно пьяна.
– Видела что-нибудь себе по вкусу? – спросила она.
Я удивленно обернулась, она шагнула в комнату.
– Что?
– Я сказала: «Видела что-нибудь себе по вкусу, Нэнси?» Сегодня как будто каждый что-то такое углядел. Что-то для себя приятное.
Я сглотнула, не зная, что ответить. Китти подошла ближе, остановилась в нескольких шагах; взгляд ее оставался неподвижным, высокомерным.
– Ты вовсю резвилась с этим трубачом – скажешь, не так?
Я растерянно замигала:
– Мы просто пошутили немножко.
– Немножко пошутили? Да он тебя общупал с ног до головы.
– Да что ты, Китти, ничего подобного!
Голос у меня дрогнул. Видеть ее такой разозленной было ужасно; я просто не верила своим ушам, ведь за все месяцы, что мы провели вместе, она ни разу не подняла на меня голос, даже когда торопила.
– С ног до головы. Я видела, и добрая половина гостей тоже. Знаешь, какое прозвище тебе в скором времени присвоят? Мисс Флирт, вот какое.
Мисс Флирт! Я не знала, смеяться или плакать.
– Как ты можешь такое говорить?
– Потому что это правда. – Она вдруг понизила голос. – Я бы не купила тебе такое красивое платье, если б знала, что ты пустишься в нем вертеть хвостом.
– Вот как! – Я неуклюже топнула ногой (поскольку была не трезвее Китти). Схватившись за ворот платья, я стала нащупывать застежки. – Раз ты так, то я прямо здесь сниму это треклятое платье и верну тебе.
Приблизившись еще на шаг, Китти схватила меня за руку.
– Не будь дурочкой, – сказала она уже чуть мягче.
Но я стряхнула ее руку и продолжила возиться с пуговицами – но без толку: от вина, злости и растерянности мои пальцы сделались неловкими. Китти снова меня обхватила, мы почти уже боролись.
– Не смей называть меня мисс Флирт! – говорила я, пока она тянула меня за руки. – Как у тебя только язык повернулся? Как? О! Если бы ты только знала…
Я потянулась ладонью к спинке ворота, пальцы Китти последовали за нею, лицо вплотную придвинулось к моему. Внезапно я оцепенела. Мне казалось, я, как она желала, сделалась ей сестрой. Смирила, укротила свои странные желания. Но теперь я перестала чувствовать что-либо, кроме ее руки, ладони, лежавшей поверх моей, ее горячего дыхания у себя на щеке. Я схватила Китти, но не для того, чтобы оттолкнуть, а чтобы притянуть к себе. Мы уже не боролись, а затихли, тяжело дыша под гулкие удары сердца. Ее глаза были круглые и темные, как черный янтарь, пальцы соскользнули с моей ладони на шею.
Но тут из коридора донесся страшный шум и топот. Китти вздрогнула в моих объятиях, точно услышала выстрел, и поспешно отступила на несколько шагов. В открытой двери показалась женщина – Эстер, ассистентка фокусника. Лицо ее было бледно как смерть, глаза глядели растерянно и печально.
– Китти, Нэн, вы не поверите. – Вынув платок, она приложила его ко рту. – Только что пришли несколько человек из больницы Чаринг-Кросс. Они говорят, там находится Галли Сазерленд. – (Это был певец-комик, выступавший вместе с Китти в «Кентерберийском варьете».) – Говорят, Галли в пьяном виде застрелился – насмерть!
Это была правда, ужасная правда: мы все на следующий день услышали подтверждение. Сама я этого не подозревала, но в Лондоне до меня дошли слухи, что он слывет в театральном мире горьким пьяницей. Возвращаясь домой после концерта, он никогда не обходил стороной пивные, а в тот вечер накачался спиртным в Фулеме. Сидя в углу за перегородкой, он услышал, как некий посетитель бара говорил, что Галли Сазерленд уже не тот и должен уступить место артистам посмешнее; он, мол, видел последний номер Галли, и это сплошное убожество. Бармен рассказывал, что Галли подошел к говорившему, пожал ему руку и угостил пивом сначала его, а потом и всех других посетителей. Затем он отправился домой, взял пистолет и выстрелил себе в сердце…
В ту ночь в Марилебоне мы не знали всех этих подробностей, слышали только, что Галли вроде бы из-за чего-то помрачился рассудком и свел счеты с жизнью. Тем не менее эта новость положила конец нашей вечеринке, и мы разошлись, подобно Эстер, взволнованные и печальные. Узнав о происшедшем, мы с Китти стали взбираться по лестнице обратно на сцену; с трудом одолевая ступени, она тянула меня за руку, но на этот раз скорее по-дружески. Директор распорядился включить все освещение зрительного зала, оркестр отложил в сторону инструменты; кто-то из присутствующих плакал; тот самый корнетист поддерживал дрожащую девушку. Эстер выкрикивала: «Какой ужас, просто кошмар!» Вино, наверное, только усилило всеобщее смятение.
Я, однако, не знала, как себя вести. Мне не удавалось сосредоточить мысли на Галли, голова все еще была занята Китти и нашим столкновением в комнате для переодевания, когда ее рука коснулась моей шеи и между нами возникло на миг какое-то особое понимание. Она с тех пор избегала моего взгляда, а теперь вступила в беседу с одним из юношей, принесших весть о самоубийстве Галли. Но вскоре она покачала головой, отошла в сторону и огляделась, по-видимому разыскивая меня. Обнаружив, что я жду в тени кулисы, она подошла и вздохнула:
– Бедняга Галли. Говорят, прострелил себе сердце…
– Подумать только, – отозвалась я, – ведь это ради Галли я в тот раз поехала в Кентербери и увидела тебя…
Взглянув на меня, Китти задрожала и приложила руку к щеке, словно бы горе лишило ее сил. Но я не осмелилась приблизиться и ее утешить – только стояла, несчастная и растерянная.
Когда я сказала, что нам нужно уходить – другие уже потянулись к выходу, – Китти кивнула. Мы вернулись в раздевалку за пальто; теперь она была ярко освещена и заполнена народом: женщины с бледными лицами прижимали к глазам платки. Мы вышли через служебный вход и подождали, пока швейцар нашел для нас кеб. Казалось, на это потребовались долгие часы. Когда мы двинулись в путь, было уже два или начало третьего; мы сидели по разным углам в молчании, только Китти иногда повторяла: «Бедняга Галли! Такое вытворить!» Я все еще была пьяна, ужасно взбудоражена и притом растеряна.
Ночь стояла морозная и безоблачная, после шумной вечеринки она поражала абсолютной тишиной и спокойствием. Над оледеневшей дорогой висел туман; колеса экипажа то и дело скользили, лошади оступались, кучер ругался сквозь зубы. На соседних тротуарах блестел ледок, вокруг каждого фонаря светился в тумане желтый ореол. Лишь очень редко на улицах попадались другие экипажи; можно было подумать, лошадь, кучер и мы с Китти были единственными неспящими в этом городе камня, льда и сонного оцепенения.
Наконец показался мост Ламбет, где не так уж давно мы с Китти стояли и смотрели на прогулочные лодки. Теперь, прильнув к окну кареты, мы увидели совсем другую картину: набережная, тающая в ночи цепочка желтых сфер, неровный темный силуэт на берегу – громада зданий парламента – и сама Темза с лодками, тихо и неподвижно стоящими на якоре, ее серые воды – ленивые, мутные и какие-то непривычные.
Именно это заставило Китти опустить окошко кареты и высоким, взволнованным голосом крикнуть кучеру, чтобы он остановился. Распахнув дверцу, Китти вывела меня к железному парапету моста и схватила за руку.
– Посмотри, – сказала она.
Огорчение как будто совсем улетучилось. Под нами поток неспешно крутил на ходу большие, в шесть футов в диаметре, льдины, напоминавшие тюленей.
Темза замерзала.
С реки я перевела взгляд на Китти, потом на мост, где мы стояли. Рядом не было никого, кроме кучера, да и тот, завернувшись в воротник накидки, целиком сосредоточился на трубке с кисетом. Я снова взглянула на реку – на ее преображение, одновременно обычное и необычное, покорное следование природному закону, при всей свой простоте столь редкое и тревожащее.
Это представлялось маленьким чудом, устроенным специально для нас с Китти.
– Значит, грянул мороз! – тихо проговорила я. – А если вся река замерзнет – отсюда до самого Ричмонда? Ты бы перешла ее по льду?
Китти вздрогнула и помотала головой:
– Лед проломится. Мы провалимся и утонем или выберемся и умрем от переохлаждения!
Я ожидала от нее улыбки, а не серьезного ответа. В голове возникла картина, как мы на малюсенькой, размером с блин, льдине плывем вниз по Темзе к морю, по пути минуя Уитстейбл.
Лошадь переступила копытами, звякнула уздечкой, кучер кашлянул. Но мы не двинулись с места, продолжая молча разглядывать реку, и глаза наши становились все печальнее.
Наконец Китти шепнула:
– Странно, правда?
Я молчала, только смотрела вниз, на опоры моста, которые нехотя, вязко обтекала застывающая вода. Но когда Китти снова задрожала, я шагнула к ней ближе, и она в ответ приникла ко мне. На мосту было отчаянно холодно, нам следовало бы вернуться под прикрытие экипажа. Но мы не хотели расставаться со зрелищем замерзающей реки, а также, наверное, с новообретенной возможностью согреваться теплом друг друга.
Я взяла Китти за руку. Через перчатку я чувствовала, что ее пальцы совсем застыли. Я прижала ее ладонь к своей щеке, но это не помогло. Не отрывая взгляда от стылых вод, я отстегнула пуговицу у нее на запястье, стянула перчатку и поднесла к губам пальцы Китти, чтобы согреть их дыханием.
Я тихонько дунула на костяшки пальцев, перевернула ладонь и дохнула внутрь. Вокруг стояла тишина, нарушаемая только непривычным плеском волн, схваченных морозом. И тут она очень тихо произнесла: «Нэн».
Все еще держа ее руку и увлажняя дыханием пальцы, я подняла глаза. Подбородок ее был вздернут, лицо обращено ко мне, взгляд темен, странен и вязок, как вода под мостом.
Я уронила свою руку; пальцы Китти задержались у моих губ, а потом очень медленно двинулись к щеке, уху, шее. Потом она дернула щекой и тихонько спросила: «Ты ведь никому не скажешь, Нэн?»
Кажется, у меня вырвался облегченный вздох; наконец-то я знала точно: имеется нечто, о чем следует молчать. Я наклонилась к ее лицу и закрыла глаза.
Ее губы, сначала застывшие, сделались горячими, – казалось, во всем морозном городе только от них веет теплом. Когда она их отняла, чтобы тревожно оглянуться на нашего сгорбленного, клевавшего носом кучера, мои собственные губы заныли под кусачим январским ветром, словно лишились кожи во время поцелуя.
Китти потянула меня под прикрытие кареты, где нас никто не мог увидеть. Стоя там, мы еще раз поцеловались; я обняла ее за плечи и ощутила спиной ее трепещущие ладони. Губами, лодыжками, всем телом я ощущала ее, плотно прижатое к моему, тело; слои одежды – пальто, пышные платья – не помешали воспринять быстрые удары сердца, когда сблизились наши груди; пульсацию, тепло и притяжение – когда соединились наши бедра.
Мы простояли так минуту, быть может, дольше, но тут карета скрипнула, оттого что кучер заерзал на сиденье, и Китти стремительно отпрянула. Я не могла разжать объятия, но она схватила мои запястья, скользнула губами по пальцам, нервно хихикнула и шепнула: «Ты зацелуешь меня до смерти!»
Она взобралась в карету, я вскарабкалась за ней – ноги у меня тряслись, голова шла кругом, глаза ничего не видели от смятения и страсти. Дверца захлопнулась, кучер кликнул лошадь, кеб дернулся и плавно покатился. Замерзающая река осталась позади – она не шла ни в какое сравнение с новым чудом!
Мы сидели бок о бок. Китти снова обхватила мое лицо, и челюсти у меня задрожали под ее пальцами. Она не поцеловала меня, а приникла лицом к моей шее, так что рот ее, далекий от моего, обдавал жарким дыханием кожу у меня под ухом. Рука, по-прежнему без перчатки, побелевшая от холода, скользнула в вырез моего жакета, колено тяжело налегло на мое колено. Когда экипаж качался, ее губы, пальцы, бедро еще больше тяжелели и дышали жаром; мне захотелось извиваться и кричать под этим гнетом. Она ничего мне не говорила, не целовала, не ласкала, а я, по растерянности и наивности, просто сидела смирно, поскольку именно этого она от меня, видимо, и ждала. Другой такой чудесной и ужасной поездки, как это путешествие от Темзы в Брикстон, я не припомню за всю жизнь.
Но вот карета повернула, замедлила ход и наконец остановилась; кучер постучал рукояткой кнута в крышу кареты, сообщая о прибытии; мы так затихли, что он, наверное, решил, что мы заснули.
Мне вспоминается, как мы возвращались к миссис Денди: стоя под дверью, возились с ключом, поднимались по темной лестнице, пробирались по спящему, затихшему дому. Помню, как я помедлила на лестничной площадке под окошком в крыше, где светились малюсенькие, но яркие звездочки, и как молча прижалась губами к уху Китти, когда та наклонилась, чтобы отпереть дверь нашей комнаты; помню еще, как, заперев за нами дверь, Китти прислонилась к ней со вздохом облегчения, как опять потянулась ко мне и привлекла меня к себе. Помню, как она не дала мне поднести свечу к газовой горелке и мы, спотыкаясь, в потемках добрались до спальни.
И очень ясно помню все, что произошло затем.
В комнате стоял адский холод – такой, что снимать одежду и обнажать плоть казалось безумием, но еще большее безумие виделось в том, чтобы преступить еще более настоятельный инстинкт, требовавший оставаться одетыми. В театре, в комнате для переодевания, я держалась неуклюже, но теперь проявила ловкость. Мгновенно разоблачившись до панталон и сорочки, я услышала проклятия Китти, которая не могла справиться с пуговицами, и пришла ей на помощь. На мгновение – пока мои пальцы дергали крючки и ленты, а пальцы Китти вытягивали шпильки из прически – можно было подумать, что мы за сценой спешно переодеваемся к следующему номеру.
Наконец на ней осталась только цепочка с жемчужиной; окоченевшая, покрытая гусиной кожей, она повернулась, и мои все еще поднятые ладони скользнули по ее соскам, волосам между бедрами. Она отошла, пружины кровати скрипнули; я, не тратя времени, скинула с себя остатки одежды и тоже прыгнула в кровать, где дрожала от холода Китти. Здесь мы поцеловались уже без спешки, но зато с удвоенной страстью; озноб наконец отступил, но дрожь не унялась.
Однако, когда ее нагие руки и ноги начали сплетаться с моими, я вдруг оробела, смутилась. И отодвинулась.
– Мне в самом деле можно… к тебе прикоснуться? – шепнула я.
Она снова нервно усмехнулась и откинула голову на подушку.
– О Нэн, – сказала она, – если ты этого не сделаешь, я просто умру!
Неуверенно подняв руку, я погрузила пальцы в волосы Китти. Я трогала ее лицо – лоб, его изгиб, щеку и веснушки на ней, губу, подбородок, горло, ключицу, плечо… Здесь я, вновь оробев, задержалась, но Китти (ее лицо по-прежнему было откинуто назад и веки плотно сжаты) взяла меня за запястье и мягко опустила мои пальцы себе на грудь. Пока я ее гладила, Китти со вздохом отвернулась; вскоре она вновь завладела моим запястьем и потянула его ниже.
Здесь было влажно и гладко, словно выстелено бархатом. Прежде я, конечно, никого подобным образом не касалась, разве что – иной раз – самое себя; но теперь я испытывала то же самое, как если бы моя неверная рука гладила не Китти, а себя: в панталонах сделалось влажно и тепло, бедра дергались вместе с бедрами Китти. Скоро я перестала гладить и начала тереть, причем довольно сильно. «О! – едва выдохнула она и повторила: – О!» Она повторила это много раз: быстро, хрипло, с придыханием. Выгнулась, на что кровать отозвалась скрипом. Ее ладони принялись беспорядочно блуждать по моим плечам. Во всем мире, казалось, не существовало иного движения, иного ритма, кроме движения, ритма моего пальца, его влажного кончика у нее между ног.
Наконец Китти втянула в себя воздух и застыла, отбросила мою руку и обессиленно раскинулась на кровати. Я прижала ее к себе, и несколько мгновений мы лежали совершенно недвижно. Я ощущала бешеные биения ее сердца, а когда оно немного успокоилось, Китти шевельнулась, вздохнула и приложила руку к щеке.
– Из-за тебя у меня полились слезы, – пробормотала она.
Я села в постели.
– Не на самом же деле, Китти?
– Да нет же, полились.
У нее вырвался сдавленный смех, похожий на рыдание, а когда я отняла ее пальцы от щеки, они были сырые от слез. Внезапно испугавшись, я сжала ее руку:
– Я сделала тебе больно? Что я сделала не так? Тебе было больно, Китти?
Помотав головой, она фыркнула и рассмеялась еще откровенней.
– Больно? Ну что ты. Просто было… уж так приятно. – Китти улыбнулась. – Ты… ты такая хорошая. И я… – Она снова фыркнула и, пряча глаза, прижалась лицом к моей груди. – Я… о Нэн, я уж так тебя люблю, очень, очень люблю!
Держа ее в объятиях, я лежала рядом. О своих желаниях я и думать забыла, а Китти не сделала движения, чтобы мне о них напомнить. Галли Сазерленд – который всего лишь три часа назад выпалил себе в сердце из пистолета, оттого что некий зритель во время его номера ни разу не улыбнулся, – тоже испарился у меня из памяти. Я просто лежала, и Китти вскоре заснула. А я рассматривала ее лицо, сливочно-белым пятном проступавшее из темноты, и, как дурочка с ромашкой, на которой остался один побуревший лепесток, повторяла про себя: она меня любит, она меня любит.
На следующее утро мы вначале стеснялись друг друга – и Китти, наверное, стеснялась больше, чем я.
– Как же мы вчера напились! – произнесла она, глядя в сторону, и на мгновение я с ужасом решила, что и объятия, и признание, что она меня очень, очень любит, вызваны одним только шампанским.
Однако, проговорив это, Китти покраснела. И я выпалила, не подумав:
– О Китти, я умру, если ты возьмешь назад все, что говорила прошедшей ночью!
Тут Китти посмотрела мне в глаза, и стало понятно: она просто боялась, что это я была пьяна и не понимала, что делаю.
…А потом мы рассматривали и рассматривали друг друга, и пусть я видела ее миллион раз прежде, все равно это было словно бы впервые. Полгода мы бок о бок жили, спали, работали, как бы разделенные завесой, и лишь наши крики и шепоты прошлой ночью эту завесу прорвали. Китти расцвела, выглядела свежо, точно заново родилась; я остерегалась притронуться к ее коже – вдруг на ней появится синяк, а также и на губах от поцелуя.
Но я их все же поцеловала, а потом, лениво лежа в постели, наблюдала, как Китти ополаскивает себе лицо и подмышки, застегивает белье и платье, ботинки. Пока она причесывалась, я закурила сигарету: зажгла спичку и следила, как пламя ее поедает, пока оно не дошло до самых моих пальцев. Я сказала:
– После того как я впервые тебя увидела, мне вообразилось, что, когда я о тебе думаю, я вся загораюсь, как лампа. Я боялась, что окружающие это заметят… – Китти улыбнулась. Я помахала спичкой. – А ты не знала, что я тебя люблю?
– Трудно сказать, – ответила она и вздохнула. – Мне не хотелось об этом думать.
– Почему?
Она пожала плечами:
– Казалось, быть подругами проще.
– Но, Китти, так же думала и я! А ведь на самом деле – труднее трудного! Но я думала, если ты узнаешь, что я люблю тебя как… как любовницу… я ни о чем подобном раньше не слышала, а ты?
Китти перешла к зеркалу, чтобы закончить прическу, и отозвалась, не оборачиваясь:
– Ну да, мне ни одна девушка не нравилась так, как нравишься ты…
Заметив, как порозовели ее шея и уши, я ощутила, что слабею и глупею, однако от меня не укрылось в ее ответе нечто невысказанное.
– Так с тобой это случалось прежде… – сказала я напрямик.
Она еще больше покраснела, но не ответила; я тоже замолчала. Но слишком сильно я ее любила, чтобы долго сердиться из-за других девушек, которых ей случалось целовать до меня.
– И когда же, – задала я следующий вопрос, – ты начала думать обо мне как… Когда тебе пришло в голову, что ты, быть может, меня полюбишь?
На сей раз Китти обернулась и ответила улыбкой:
– Помнится, такие мысли возникали у меня частенько. Когда ты так чисто и аккуратно прибирала мою гримерную, когда поцелуешь тебя на ночь и ты зальешься краской. Помню, как ты вскрывала для меня устрицу за столом у твоего отца, – но тогда я, наверное, уже любила тебя. Стыдно сказать: пожалуй, это произошло в «Кентерберийском варьете», когда я впервые уловила запах устричного сока у тебя на пальцах, – тогда я и начала думать о тебе… не так, как подобает.
– О!
– И вот чего я стыжусь еще больше. – Китти слегка изменила тон. – До прошедшей ночи, когда ты веселилась с тем парнишкой и меня охватила ревность, я не понимала, как сильно, очень-очень сильно…
– О Китти. – Я судорожно вздохнула. – Я рада, что ты это наконец поняла.
Она отвела взгляд, подошла ко мне, забрала окурок и чмокнула меня в щеку.
– Я тоже рада.
Китти наклонилась отполировать тряпочкой свои кожаные ботинки, и я поймала себя на том, что зеваю: после шампанского и ночных переживаний у меня не было сил.
– Нам обязательно нужно вставать? – спросила я, и Китти кивнула:
– Обязательно, уже почти одиннадцать, скоро придет Уолтер. Ты что, забыла?
Нет, я помнила, что сегодня воскресенье и Уолтер явится, как обычно, чтобы покатать нас по городу. Я помнила, но у меня не было ни времени, ни желания задумываться о таких обыденных предметах. Однако теперь, услышав имя Уолтера, я задумалась. Теперь, после случившегося, ему придется нелегко.
Словно услышав мои мысли, Китти проговорила:
– На тебя ведь можно положиться, Нэн? – И повторила то, что сказала прошлой ночью на мосту: – Ты ведь никому не проболтаешься? Ты будешь осторожна, правда?
Я мысленно прокляла ее излишнее благоразумие, но взяла ее руку и поцеловала:
– Да я сама осторожность. И если захочешь, буду такой всю жизнь, только дозволь мне иногда маленькие дерзости, когда мы будем совсем одни.
Помедлив, она чуть рассеянно улыбнулась.
– В конце концов, – заключила она, – в нашей жизни почти ничего не изменилось.
Но я знала, что поменялось все – буквально все.
Наконец я тоже встала, умылась, оделась и, когда Китти пошла вниз, воспользовалась ночным горшком. Китти принесла поднос с чаем и тостами.
– Я не решалась взглянуть в глаза Маме Денди, – пожаловалась она, снова заливаясь краской стыда, и мы устроились завтракать у себя, перед камином, поцелуями слизывая друг у друга с губ крошки хлеба и масла.
Под окном стояла корзина с костюмами от торговца, содержимое которой мы еще не успели изучить, и вот в ожидании Уолтера Китти начала лениво в ней рыться. Она вытянула наружу очень красивый черный фрак и со словами «Взгляни-ка!» накинула его поверх платья и начала чинно пританцовывать, а потом тихонько запела:
В жилище, на площади и в тени,
В переулке, на улице, за углом
Шагнешь налево – направо сверни:
Там моей возлюбленной дом.
Я заулыбалась. Это была старая песня Джорджа Лейборна, в семидесятых ее насвистывали на всех углах; однажды я слышала, как ее исполнял сам Лейборн в «Кентерберийском варьете». Песенка была глупая, ерундовая, но очень прилипчивая; оттого что Китти пела тихо и небрежно, голос ее звучал еще приятней:
На ушко воркую, как голубь,
И о любви молю.
На коленях шепчу влюбленно:
Если я разлюблю,
Будут овцы расти на кленах —
Если я разлюблю.
Немного послушав, я подхватила:
Если я разлюблю,
Если я разлюблю,
То луна станет сыром зеленым,
Если я разлюблю.
Мы засмеялись и запели громче. Я нашла в корзине цилиндр и бросила его Китти, потом нашла и для себя пиджак, шляпу канотье и прогулочную трость. Подхватив Китти под руку, я стала подражать ее танцу. Слова становились чем дальше, тем глупей.
Ни за все капиталы в банках,
Ни за любовь светских дам,
Ни за титул лорда иль графа —
Любви своей не отдам.
Танцует любимая польку —
Взгляд любимой жадно ловлю.
Скорей Монумент запляшет,
Чем я ее разлюблю!
Отменят налог подоходный,
Если я разлюблю!
Завершив исполнение фиоритурой, я закружилась на месте – и застыла. Китти оставила дверь открытой, и на пороге стоял Уолтер, глядя на нас расширившимися, словно бы испуганными, глазами. Я поняла, что Китти проследила мой взгляд; она схватила меня за руку и тут же резко ее уронила. Я отчаянно соображала, что мог видеть Уолтер. Слова были дурацкие, но трудно было не понять, что мы обращаем их друг к другу. Неужели мы к тому же поцеловались? А может, я тронула Китти не там, где положено?
Пока я размышляла, Уолтер заговорил.
– Бог мой, – произнес он.
Я закусила губу, но против ожидания он не нахмурился и не произнес проклятия. Наоборот, просияв улыбкой, он захлопал в ладоши, ступил в комнату и радостно обнял нас за плечи:
– Бог мой – это оно! Это оно! Ну как же я раньше не сообразил! Это то самое, что мы ищем. Вот это, Китти, – Уолтер указал на наши пиджаки, шляпы и весь джентльменский облик, – вот это принесет нам славу!
И вот в один и тот же день я стала любовницей Китти и участницей ее номера; так началась моя карьера – короткая, непредвиденная, удивительная – на сцене мюзик-холла.