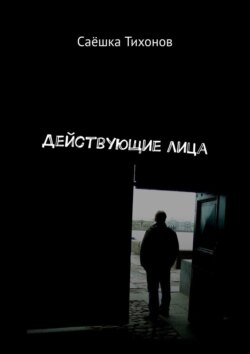Читать книгу Действующие лица - Саёшка Тихонов - Страница 17
Нигдетство
ОглавлениеI
Отбиваешь от груди мячик: тебя зовут – Юра! Коля! Миша! Придурок! Леша! Валера! Сабжá! – на слове «сабжа» все вздрагивают. Мячик отбит на автомате. Теперь тебе выберут имя пообиднее.
Московские прятки от обычных отличаются тем, что ты поворачиваешься ко всем спиной, и тебя по ней кто-нибудь бьет. Теперь ты должен угадать, кто это сделал. «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я!» – кричат наперебой и тычут в себя большими пальцами. Кто-нибудь, например, помалкивает. Ты давно уже знаешь, что это для отвода глаз: скорее всего, не он. Ты делаешь предположение. Оказалось, как раз таки он: положите вещь, которую хотите спрятать, на видное место.
Теперь тебе нужно бежать вокруг дома – чем быстрее его обежишь, тем меньше времени останется им, чтобы спрятаться. Идешь шагом. Можно схалтурить: подглянуть из-за угла. Но если тебя слишком долго не будет, это вызовет подозрения. За домом грядки, объеденные вишни – аккуратно, не споткнись о водосточную трубу.
Из подвала пахнет сырой каменной пылью. Там сидит дядя Молодя, у него солидол и паяльник, у него водка в граненом стакане, тельняшка и голые девушки на стенах. Дядя давно уже дедушка, такая вот вечная володость. Он называет всех «суткин ты кот», для связки слов использует оборот «забодай тебя комар» и запрещает обносить виноградники.
Ты монах в синих штанах, на лбу шишка и мертвая мышь в кармане гниет, теперь никто никого не найдет, тебя послали по синей дорожке на одной ножке, ибо тебе позарез нужен цвет, которого нет в ассортименте, и ты прыгаешь нелепым циркулем, раздумывая о том, что вокруг юго-север.
Пока девчонки разрывают стебли одуванчиков на волокна и делают что-то вроде шиньонов, опуская их в дождевую воду и наблюдая, как те скручиваются в тугие спирали, ты с помощью увеличительного стекла фокусируешь солнечные лучи на муравейнике. Я, мы – ямы. Без номеров – бездна миров.
Ты сидишь на орешнике, выведенный из игры в выбивалы. Выше земли, я в домике. Христик толкает Нельку – скорее всего, не нарочно – она падает с качелей, и те догоняют ее сзади. Настик, брат Христика, в ужасе бежит за бабушкой. Море волнуется три, рекламная фигура на месте замри. Разбойников в наших краях больше нет, всех извели: казачья станица как-никак. Хозяин голубятни умер, и она опустела, – а ведь раньше он частенько показывал через сетку белого голубя или снесенное им яичко. И говорил, что корочки от болячек очень вкусны, если насобирать много и зажарить в масле.
Как, играя в крокодила, показать жестами загаданный тебе «график»? – надо просто очертить воротник, горделиво выпрямившись, и икнуть. Тили-тили-тесто, скандируют друзья, и оркестр играет Yesterday, поздравьте друг друга, мама торжественно крепится, ты движешься невпопад, и расписываешься неловко, и невесту целуешь как-то вскользь.
Гриб прилип, отлип, стоп.
II
– Поца, приколитесь, Котя сёдня трубу ебал. Котя, покажи как!
– Пошел ты.
– Ну покажи-и-и, покажи!
– Да вот так и ебал! – Рома вскочил с лавочки, схватился обеими руками за столб и подвигал тазом в его сторону. – Ах, ах, ах.
– Котя голубой, – засмеялась Снежана. – Он когда вырастет, женится на мужике и заставит его рожать.
Котька вспыхнул, губы его задергались, и, чтобы не разреветься, он плюнул в Снежану. Попал ей прямо на кроссовок.
– Дурак! – закричала Снежана и побежала к дому.
Котя долго смотрел, как ее желтая футболка мелькает в окошках подъезда. Третий этаж, четвертый… Сейчас приведет бабушку, и та начнет ругаться, объяснять, что Снежана девочка и ее нельзя обижать. И не поверит, если рассказать, что эта самая девочка только что наговорила тут.
Рома, Надя и Лёша, притихнув, болтали ногами и переглядывались улыбками.
– Вот тебе попадет сейчас, Котя, – сказала Надя. – Снежанкина бабушка такая злая.
– Давайте смотаемся?
– Давайте.
Когда заплаканная Снежана появилась с бабушкой, на синей лавочке, усыпанной лепестками облетающей вишни, никого уже не было.
III
– Вчера Галаголь опять выходила. Прикиньте, мы закричали ей: «Дважды два!», она повернулась и, как обычно, стала крестить воздух, а потом вдруг заорала: «Будьте прокляты, кто вас высрал!» – а Денис испугался, заплакал и убежал домой.
– Вообще-е-е. И чё, она теперь кричит «будьте прокляты»?
– Да, всем кричит. Совсем с ума сошла.
– Почему Галаголь?
– У нее фамилия такая. В первом подъезде живет. И в списке есть.
– Пойдемте посмотрим?
– Попёрли.
Список жильцов очень старый. Фамилии выведены краской кирпичного цвета. Напротив квартиры шесть написано: «Глаголь О. Ф.». Она тут живет давно. Тощая старуха, волосы бубликом. Написала заявление управдому, вокруг мусорников раскидали куски отравленного мяса, и почти все собаки подохли. И Чара, и Альфа, и Черныш, и даже Трахунья. Трахунью хоть и не любили (ее погладишь, а она тут же лапы на плечи кладет и трахать начинает, Котька трубу точно так же), все равно было жалко. А Тяпу мы сами выходили. И щенков ее выходили – кормили, в коробке держали, старые вещи из дома выносили, чтобы щенкам спать было удобно. Галаголь видели только издалека и очень редко, она почти не выходила из квартиры. Близко подходить было страшно.
– У нее, говорят, такой почерк красивый. Тетя Зоя видела заявление. И не скажешь, что она сумасшедшая.
– Тихо! Кто-то идет!
По лестнице спускалась сама Галаголь, на нее невозможно было смотреть от страха.
– Пошли вон отсюда! – рявкнула она.
Мы вылетели из подъезда и побежали кто куда, забыв прокричать «дважды два».
Сердце двора бешено колотилось.
IV
Борька загадочно и надменно смотрел на Саню.
– Ты чего?
– Дашь интервью? Я уже у всех взял.
– Интервью?
– Ага, – и Борька достал из кармана черный плеер.
– И что, записывает? – восхищённо сказал Саня.
– Записывает. Настоящий диктофон.
– Везуха. Тебе сегодня купили?
– Да. Ну что, отвечай на вопросы.
Борька нажал кнопку «Rec».
– Здравствуйте. Как вас зовут?
– Саша.
– Сколько вам лет?
– Восемь.
– Ваша любимая группа?
– Спайс Гёрлз.
Борька щелкнул кнопкой и расхохотался.
– Теперь я всем покажу эту кассету! Девчонки еще не знают.
Отмотал, включил.
«Сейчас мы возьмем интервью у самого главного сутенера нашего двора, – зазвучал глухой голос. – Здравствуйте! Как вас зовут? – Саша…»
– Урод! – Саша обиделся еще и потому, что у него нет диктофона, чтобы самому провернуть такую здоровскую акцию.
– Я еще у Лады взял.
«Сейчас мы возьмем интервью у самой главной проститутки нашего района. Как ваше имя? – Лада. – Сколько вам лет? – Девять. – Ваша любимая группа? – Бэкстрит Бойз…»
– Козел. Ладка, Надя, Снежана! Этот козел нас всех записал!.. – Саша так и не выдержал своего неучастия в этом.
Лада все рассказала маме. Кассету потом разбили, дали Борьке подзатыльник и заставили извиниться перед девочками.
V
– Вечером будет дискотека, моя мама вынесет магнитофон к подъезду. Удлинитель протянет через форточку.
– Ла-а-а-ада, это же клёво! – Надя вынула заколку из волос, тряхнула головой и снова стала собирать длинные темные волосы в хвост.
– Да, круто, – вразнобой стали повторять пацаны.
– А у тебя есть кассета: «Я-я-я-коко-джамбо-я-я-е»? – напел Котя.
– Есть конечно. Принесу. И «Макарена» есть.
– А Серёжа танцевать не умеет, – девчонки прыснули.
– Ой, можно подумать, вы умеете.
– Мы – умеем. А ты нет. Обоснуй, что мы не умеем.
– Не умеете!
– Да ты, наверное, на дискотеке ни разу не был.
– Ну и что.
– Ну и то. И вообще ты фуфло какое-то слушаешь, «Золотое Кольцо». Даже моя бабушка не слушает.
– Да как же.
– Да, да! – Рома снова вскочил и встал лицом к аудитории, чтобы его было лучше видно. – Он, приколитесь, когда бабки всякие старые собрались во дворе с гармошкой, подсел к ним и стал подпевать! Баба Валя там была, баба Дуся, дедушка Боря – все, короче.
– Ха-ха-ха, – заржали. – А ну спой нам!
Я напрягся.
– Спой, спой! – Лена самая старшая, ей почти одиннадцать. У нее светлые волосы и глаза медового цвета. Не темный мед, а желтый. В нее влюблены и Ромка, и Денис, и, возможно, я. О других обычно легче сказать.
– Спой какую-нибудь такую песню, – Лена смотрит на меня.
– Не буду.
Тогда Лена садится передо мной на корточки и смотрит в лицо снизу вверх. Деться некуда.
– Ну для меня спой. Это серьезное дело, народные песни. А что. Хватит ржать! – прикрикнула на остальных, и смешки потухли. – Спо-о-ой. Пожалуйста. Ничего смешного тут нет. Это мы всякое говно слушаем. «Руки вверх» там, Линду. Спой. Мы не будем смеяться.
Тишина. Все ждут.
– Ладно, – Лена встает, – раз не хочет человек петь, то не надо.
И я запел. Тихонько, на одной ноте – но запел. «…виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему».
Дети смеялись так громко, как только могли, набирая побольше воздуха и демонстративно выкашливая смех.
Лена смеялась тоже.
VI
Басика будто бы только и делала, что сидела на краю дивана, никуда не смотря. Доподлинно неизвестно, настолько ли плохо она видела, как об этом рассказывала. Басика, спрашивал я, как ты видишь? Расплывчато, Сержик, отвечала она, и я вглядывался в мутную радужку глаза. У мамы с папой, которые видели лучше, в глазах и впрямь было больше ясности – не было этого разлохмаченного краешка радужки и пожелтевших, как творог, белков. Бабушке стоило больших усилий подняться с дивана. Ей было смертельно лень.
Выйдя на пенсию, она ни дня больше не проработала. Просто не желала никуда ходить, хотя могла работать в санатории, получать приличный оклад, в общем-то, особо себя не обременяя. Да ну, вот еще, рассудила она. Немощной Зоя Сергеевна не была, но ей хотелось наконец состариться и вздохнуть облегченно.
Она безвылазно сидела дома, я копошился рядом. Чем я был занят, не могу вспомнить. Но в памяти отложилось, будто бы все мое детство прошло там, на Октябрьской, у самой черты города, на странной высоте четвертого этажа, откуда все видно как-то по-особенному – вроде как смотришь деревьям в вырез груди. Да брось ты, сказала мне мама, придумаешь тоже. Мы тебя только на выходные туда отвозили, и то не всегда. И в садик ты ходил регулярно, сам подумай.
Убедительно вроде, но стойкие кадры из детства от трех до шести – это туевая аллея за домом, бабульки на лавочке и балкончик над трассой, стремительно уходящей в неизвестность за городскую границу, в сторону грозной синей Бештау. Балкончик был огорожен прутьями, и внутри было щекотно от страха, когда я свешивал ноги, чтобы выдувать разноцветные планетки мыльных пузырей или смотреть в светлую непостижимую высь океана, над которым летел мой космический кораблик, а мне, космическому капитанчику, приходилось высматривать островки с помощью подзорной трубы – какого-то сантехнического элемента из белой пластмассы. Но нет, приземлиться было негде, только белые перистые облака, как мыльная пена в ванной, как далекая морская рябь, восторженно-солнечный ужас.
У басики были бульдожьи щеки и длинные седые волосы, собранные в бублик. Однажды она их распустила, и я поразился, как много их, оказывается, – всю спину закрывают. Басика была полная и ласковая, только ласковость её совсем другая: угрюмая, не радушная, не приветливая, как, скажем, у бабушки Дениса. Резкие ноты появлялись в голосе, когда она говорила о моей маме. «Ольгу – не люблю! И Антона не люблю!» Не помню, спрашивал ли: а меня? – может быть, и сама отвечала: «А тебя люблю, Сержик», – и целовала в лоб.
Удивительное сходство с нами было обнаружено в книжке на иллюстрации к стихотворению Барто. Те же щеки, тот же бублик, а Сережа – в полосатом свитере точно как у меня. «Если вы по просеке, я вам расскажу, как гулял попросите жук, обычный жук». Когда мы все-таки выбирались погулять, было величайшим подвигом дойти до «вторых» туй, высаженных полукругом. Эта аллея была такой долгой, широкой, она вела куда-то в запретное, запредельное, и уговорить басику пройти еще десять шагов (а вдруг аллея кончится и начнется что-то другое?) было трудно, почти невозможно; приходилось возвращаться. Когда я взрослыми шагами прошел ее с другого конца за пять или шесть минут, я впервые почувствовал обратный рост деревьев.
Из давно проданной кому-то квартиры, так долго пустовавшей после бабушкиной смерти, всё уже выветрилось, и пыль стерли, и обои новые поклеили, и телевизор снесли на помойку. А сливы, от которых меня однажды вырвало, нельзя же есть в таких количествах; а вставная челюсть, овощной магазин с характерным запахом земли, окна роддома напротив, горевшие в темноте мертвенным люминесцентным светом, жуткий бабушкин храп «хрр-аш-аш», гоголь-моголь, яйцерезка, тертые яблоки с сахаром; а как вдруг тревога повисла в воздухе, когда взрослые стали чего-то недоговаривать, исчезать, оставлять меня с маминой подругой; а как потом, уже после похорон, басика открывает мне дверь, приглашает зайти, как ты вырос, говорит, и на лице синяки, и пахнет чем-то старческим, и надо куда-нибудь просыпаться, не прощаясь.
Шестое марта, 1992 или 1993 года, папа точно не помнит, – это так показательно, что и я не хочу уточнять; ничего кроме памяти, хоть и живу я в страхе что-то не успеть почувствовать до того, как кончится я и начнется кто-то другой, одна только память, зачем-то возвращающая меня в мои сны, в мои подъезды, в мое нигдетство.
2008, Санкт-Петербург