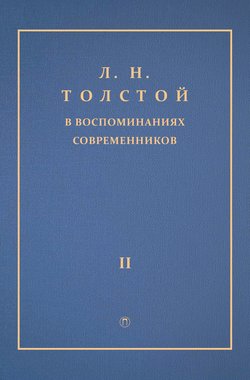Читать книгу Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Том 2 - Сборник - Страница 5
«Что такое искусство…» Театр Толстого
В. Ф. Лазурский
Дневник
ОглавлениеЯсная Поляна
14 июня 1894 г.
Лев Николаевич с Николаем Николаевичем Страховым сидели в углу залы, у круглого стола, где барышни играли в скучную игру, которая называлась хальма, а дамы работали. Лев Николаевич расспрашивал Страхова о журнальной полемике между Розановым и Владимиром Соловьевым[71] (начала не слыхал). Разговор перешел на поэтов.
– Стихов не понимаю и не люблю, – сказал Лев Николаевич, – это какие-то ребусы, к которым нужно давать разъяснения.
– А вы сами когда-то увлекались Фетом, – заметил Страхов.
– То было время; тогда стихи имели смысл, а теперь нет. Да, в сороковых годах он писал милые, хорошие вещи, из которых я многие знаю наизусть; а в последних нет ни поэзии, ни смысла. Ну-ка, у кого ноги быстрые, принесите Фета.
Быстрые ноги оказались у Татьяны Львовны. Она принесла два тома нового издания стихотворений Фета[72], и Лев Николаевич стал их перелистывать.
– Слушайте, – начал он читать:
Говорили в Древнем Риме,
Что в горах, в пещере темной,
Богоравная Сивилла,
Вечно юная, живет,
Что ей все открыли боги,
Что в груди чужой сокрыто,
Что таит небесный свод.
Только избранным доступно
Хоть не самую богиню,
А священное жилище
Чародейки созерцать…
В ясном зеркале ты можешь,
Взор в глаза свои вперяя,
Ту богиню увидать.
Неподвижна и безмолвна,
Для тебя единой зрима
На пороге черной двери, —
На нее тогда смотри!
Но, когда заслышишь песню,
Вдохновенную тобою, —
Эту дверь мне отопри!
– Ну, что это? не понимаю; почему черная дверь, а не пунцовая? А ну, кто это поймет, тому двугривенный дам.
Алмаз
Не украшать чело царицы,
Не резать твердое стекло,
Те разноцветные зарницы
Ты рассыпаешь так светло.
Нет! За прозрачность отраженья,
За непреклонность без конца,
Ты призван разрушать сомненья
И с высоты сиять венца.
– Если алмаз, как вы говорите, обозначает возлюбленного, то как же он может сиять в венце царицы? на голову он ей сядет, что ли? Ну-ка, Николай Николаевич, вы специалист по этой части, объясните! Э, вижу, сами не понимаете[73].
Графиня стала рассказывать о Фете, о его процессе творчества, как сам он говорил: «Он не сочинял, а ходит, и вдруг является».
– Ну уж, скорей чудесам Иверской поверю, чем этому, – сказал Лев Николаевич. – Все сочиняют. Может быть, что-нибудь явится – настроение, мысль, а все остальное сочиняют. И зачем пишут? Еще повесть так-сяк; когда отупеешь, можно читать, а стихи – это какой-то умственный разврат.
Все, впрочем, относились к словам Льва Николаевича как-то несерьезно, да и он говорил полушутя ‹…›.
Николай Николаевич хотел взять к себе книжку с рассказами Чехова «Нахлебники»[74]. Я попросил ее себе, чтобы прочесть здесь. Лев Николаевич сказал: «Ну что ж, прочтем вместе; присядьте» ‹…›.
– Недурно, – заметил Лев Николаевич по окончании чтения. – Только несколько небрежно разговоры сделаны. Я помню, вы, Николай Николаевич, давно выделили Чехова из числа других, когда и книжками он еще не выходил. Действительно талантлив. Да уж больно легко стали писать; технику разработали, техникой и щеголяют.
17 июня
‹…›Лев Николаевич пригласил меня держать с ним корректуру сделанного для «Северного вестника» перевода «Дневника Амиеля»[75] ‹…›.
Лев Николаевич – превосходный знаток французского языка. Monsieur (так здесь называют француза-гувернера) говорит, что любит очень с ним разговаривать, так как граф употребляет настоящие французские выражения. Читая французский текст для исправления кому-то заказанного и дурно исполненного перевода, все глубоко понимает и делает ясным. Фразы, которые ему кажутся неуместными, опускает (очень редко), но для добросовестности велит ставить многоточия. Для того чтобы удачнее подобрать соответствующие русские слова и выражения в передаче трудного отвлеченного языка, призывал на помощь Н. Н. Страхова. Были приняты два моих слова. Мои знания языка, моя способность углубляться и понимать – ничто, какая-то детская погремушка перед громадной паровой машиной ‹…›.
18 июня
Разговаривая за вечерним чаем о Мопассане, Лев Николаевич сказал:
– Я не могу себе вообразить теперь хорошего беллетриста; лишь только проявится талант, сейчас его зазывают во все редакции и заваливают деньгами. Поневоле писать начинает наскоро и портится, когда платят до четырехсот рублей за лист! Григорович говорил мне, что ему платили пятьсот рублей за лист. А лист можно продиктовать в два часа. Я сам писал лист в рабочую упряжку, то есть часов от десяти до трех, когда в хорошем расположении ‹…›.
20 июня
‹…› Вечером я читал рассказ Стриндберга («Русская мысль», май) «Муки совести». Лев Николаевич внимательно слушал и рассказ похвалил, сказав, что разобрано основательно. Смотрели вместе художественный альбом «Figaro» последнего салона. Лев Николаевич вообще отзывается о картинах похвально – о технике, выражении лиц. По поводу хромолитографированной одной заметил, что через каких-нибудь лет двадцать, мы можем надеяться, нам будут прекрасно воспроизводить картины в красках. Посмеялся лишь над «вдохновением», которое является в виде дебелой, мускулистой женщины-гения, парящей у стула молодого, задумчиво сидящего поэта. Осудил картину «Император и папа», где Наполеон, как мальчишка, стоит в задорной позе, сказав, что это не в духе Наполеона. Сам взял разобрать на рояле присланную кем-то «Rapsodie des steps». Читает ноты довольно бегло и перебирает своими огромными пальцами довольно быстро. Проигравши, сказал:
– Вот так рапсодия! Самая пошлая музыка.
21 июня
Косил с Львом Николаевичем. Он давал мне урок косьбы. Косит сам замечательно хорошо, ровно и гладко. Рассказывал при этом, что сегодня у него был очень утомительный посетитель, какой-то тульский обитатель, сын бедного чиновника, нервный, почти больной, бывший студент; написал сочинение о необходимости физического труда, хочет напечатать. Лев Николаевич говорит, что оно очень прочувствовано; вредные последствия жизни, лишенной возможности физического труда, видно, написаны с натуры; но при всем том страшно растянуто.
– Живя в глуши, ничего не знает, думает, что он первый говорит эти вещи. Вообще, молодые писатели часто грешат тем, что пишут все, что бродит у них в голове. Мало иметь мысли, нужно их привести в порядок, из сотни выбрать одну, наиболее яркую, просеять их.
Вечером увидел, что я читаю статью Гольцева о Чехове[76](«Русская мысль», май), и говорит:
– Вот это очень смешной факт. Гольцев почему-то вздумал, что ему нужно писать о вопросах эстетики; сам юрист, не занимается этими вопросами, не любит, не имеет чутья, а пишет и говорит ‹…›.
По поводу известия о том, что Пантелеев намерен издавать в переводе европейских классиков, Лев Николаевич высказался, что всегда этому чрезвычайно сочувствовал, сам делал попытки и считает это делом не легким. Нужно переводить не все, а только лучшее. Но тут приходится брать на себя ответственность, что считаешь лучшим, что нет. Что ж делать, нужно.
– У нас существует педантический взгляд, что раз переводить, то нужно переводить все; и что же в конце концов? Все и стоит на полке, и никто его не читает. Всего никто не будет перечитывать. Вы не читали, Николай Николаевич, всего Гете?
Я прочел все сорок два тома. Из них тома четыре, не больше, следует набрать. По моему мнению, это должны взять на себя профессора западной литературы[77]. А то занимаются каким-нибудь специальным вопросом. Вот Стороженко все с своим Шекспиром[78] ‹…›.
22 июня.
Начался день веселым завтраком. В комнату ворвалась толпа мальчиков и барышень, которые стали дурачиться. Веселье их было так заразительно, что Лев Николаевич, появившись в дверях зала, также выкинул коленце и вступил с па мазурки. Все захохотали еще больше, а он сам даже покраснел от смеха ‹…›.
23 июня.
Вечером по поводу «Распятия» Ге завязался разговор о наших художниках[79]. Я сказал, что люблю больше всех Поленова, Мария Львовна выше всех ставит Ге, требует прежде всего глубокой мысли (в христианском смысле), красоту считает ни к чему. Вошел Лев Николаевич. Она и ему на меня донесла, что я, мол, «Христа и грешницу»[80] выше всех картин ставлю.
– Да, Поленов красив, но бессодержателен, – сказал Лев Николаевич. – Правая сторона этой картины написана очень хорошо – сама грешница, евреи; левая никуда не годна: лица банальные, Христос у него – какой-то полотер, а апостолы плохи; сзади – декорация.
Подсел Николай Николаевич. Разговор перешел на статью Николаева о Тургеневе[81]. Лев Николаевич сказал:
– Я помню, Тургенев произвел на меня сильное впечатление «Записками охотника». Потом я слушал «Рудина»; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это – Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь. Потом пошли плохие вещи. Иногда прорывались превосходные, цельные, несочиненные.
Николай Николаевич, со своей всегдашней манерой, стал спрашивать относительно разных тургеневских вещей. Лев Николаевич отлично помнит все. Выше всех он ставит «Довольно» и статью «Гамлет и Дон-Кихот». Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты)[82]. Хотел читать на тургеневском празднике, но ему «запретили»[83]. Высоко ставит «Живые мощи»[84].
– «Новь» мне, представьте, понравилась;[85] «Пунин и Бабурин», «Колосов» – это бог знает что такое; «Вешние воды» – это к тому же разряду:[86] все выдуманное, хотя хорошо выдуманное. Критики, – иному некогда, другой не любит, – все валят в кучу; а ведь нужно различать двух Тургеневых: один там, под землею на десять футов, а другой сверху. Я часто удивлялся, как Тургенев, такой умный, изящный, образованный, мог писать такие глупости. Иногда он писал, как… ну, как Немирович-Данченко[87], еще хуже… как Мачтет, самый плохой Мачтет[88]. Средние таланты пишут ровнее; высоко не залетают, но и особенно низко не спускаются; Писемский, например; даже Гончаров. Вот Пушкин, впрочем, почти всегда на высоте стоит. Лермонтов – в печатных произведениях. А вот мой враг – Шекспир, которого я терпеть не могу…
– За что? – вырвалось у меня.
– За то, что все считают обязанностью превозносить его и почти никто не читает. Вот ваш приятель Стороженко при слове «Шекспир» всеми членами на караул делает, а у него много дрянного есть.
Об описаниях природы у Тургенева говорил: «Они удивительны; ничего лучшего ни в одной литературе не знаю»[89]. Восхищался его манерой, не выписывая подробно всего, дать понять несколькими штрихами.
24 июня.
После обеда отправились гулять по шоссе: Лев Николаевич, Страхов и я. Разговор, сначала не клеившийся, сделался оживленным, когда Лев Николаевич наскочил на интересующую его теперь больше всего тему о национализации земли и о проекте Генри Джорджа:[90]
– Владение землей так же незаконно, как и владение душами. Кто держит у себя источник питания, тот держит в своей зависимости неимущих. Для меня это теперь понятно с поразительной ясностью. А сколько нужно еще времени, чтобы эта мысль вошла в общее сознание! Я сам жил двадцать лет, не сознавая этого. Вот Генри Джордж лет тридцать как ясно и просто выяснил все, и о нем как-то не слышно, и какие-нибудь Янжулы[91] его опровергают. Вчера я видал: лежит у дороги женщина, спит, ее рука завязана веревкой, на которой привязана пасущаяся лошадь. Очевидно, устала, а боится упустить лошадь: сделает потраву – штраф. Совсем стеснили мужика, шагу ступить некуда. Ведь это страшное зло. Ну, опровергайте меня!..
Но мы с Николаем Николаевичем не показывали желания опровергать. Я всегда в таких случаях молчу и слушаю, а Николай Николаевич – эстетик и философ, и все это для него далекие материи, хотя по мягкости сердечной он поддакивает и соглашается с Львом Николаевичем. Скоро он перевел разговор на декадентов. Лев Николаевич знаком с ними, читал Бодлера, Метерлинка[92]; говорит, что некоторые вещи у них не лишены интереса и своеобразной красоты; но вообще называет это движение болезненным и радуется, что оно у нас не прививается. «Ведь прочти произведение в таком роде нашему мужику и скажи ему, что это написано серьезным и умным человеком, он расхохочется: разве может умный человек заниматься такими вещами? А ведь вот занимаются же».
Николай Николаевич спросил, какого мнения он о Чайковском.
– Так, из средних[93].
Я спросил о Рубинштейне.
– Тоже, хотя Чайковский оригинальнее Рубинштейна. Этот – хороший исполнитель, переиграл массу хороших вещей, и у него постоянно в собственных произведениях являются воспоминания, отзвуки чужого. Много все они пишут фальшивого, выдуманного. Вообще, если говорят, что искусству нужно учиться, это уже вступают на опасную дорожку.
Возьмите вы, например, роман Вальтер-Скотта, даже Диккенса и прочтите его мужику; он поймет. А приведите его слушать симфонию Чайковского или Брамсов разных, он будет слышать только шум.
26 июня
С инженером Берсом ходили после обеда на место, где крестьяне берут песок[94]. Лев Николаевич очень озабочен тем, что при их системе подкопов может случиться обвал и произойти несчастье. Поэтому повел инженера, чтобы тот ему рассказал, как снять верхний пласт, чтобы открыть песок, и сколько это приблизительно будет стоить. Тот вычислил расходы рублей в восемьдесят, Лев Николаевич уже хлопочет о копачах ‹…›.
27 июня
Сегодня утром у меня завязался разговор с Николаем Николаевичем. Не помню, с чего заговорили о Скабичевском. Николай Николаевич сказал, что его «Историю русской литературы» не читал, так как за Скабичевским не признает ровно никакого критического таланта и литературного значения. Я стал возражать и указывать заслуги Скабичевского. Лев Николаевич подсел к своей похлебке и скоро вмешался. Он также не читал «Историю русской литературы», но знает Скабичевского по статьям.
– Я принимался его читать и бросил: ничего не понимаю. Вот скоро переведут статью Мэтью Арнольда с английского[95]. Он прекрасно говорит: задача критика – выделять все выдающееся из подавляющей массы написанного. А они привязываются к случаю, чтобы высказывать свои мысли. Да и мысли самые банальные. Судят же обо всем сплеча. Чтобы критиковать, нужно возвыситься до понимания критикуемого, и в этом уже важная заслуга. А у них выходит так, как прекрасно сказал мой приятель Ге: «Критика – это когда глупые судят об умных»[96].
– А потом пишут историю того, как глупые судили об умных, – вставил Николай Николаевич.
Я заметил, что имя Писарева здесь упоминают с насмешкой. О Златовратском Лев Николаевич сказал: «Читал, что-то глубокомысленное; видно, добрый человек, но путаница в голове страшная». Михайловского Николай Николаевич называет «умным человеком», Буренина «талантливым», и, по-видимому, здесь все согласны с этим. Имя Мачтета – синоним полной бездарности, Немировича-Данченко – чего-то пустопорожнего, никому ни для чего не нужного ‹…›.
28 июня
Лев Николаевич ‹…› стал расспрашивать газетные подробности о новом президенте Казимире Перье и о чикагских беспорядках рабочих[97]. Подошел приезжий родственник (муж сестры графини)[98] и, послушав, стал ужасаться этими волнениями.
– Что ж тут удивительного? – спокойно сказал Лев Николаевич. – Естественно, что после долголетнего угнетения начинают бунтовать. Вот у нас был царский проезд[99]. Это бог знает, что такое. Мужиков отрывают от работы, заставляют их неделю дежурить у дороги и хоть бы копейку заплатили. Я высчитывал: пусть, считая по пятидесяти копеек в день, пришлось бы заплатить десять тысяч за весь проезд. Ведь это пустяки для казны, а между тем они избавились бы от перекрестной руготни, которой осыпают царя по всему пути. Я уже просто избегал заводить с мужиками разговор об этом. А кто виноват? Эти сукины дети, которые состоят в свите. Я говорил Зиновьеву[100]. Это такая бестактность! Они вызывают неудовольствие ‹…›.
– Это просто забывчивость с их стороны, – пытался оправдать родственник.
– Какое забывчивость! Просто думают, что с мужиком так и нужно поступать. Ведь он собака, животное какое-то.
Вечером барышни стали петь у рояля. Лев Николаевич очень любит старинные романсы с терциями и квинтами. Минорного не любит. «Минор с мажором – хорошо». Аккомпанировал нам «Тучи черные» для голоса со скрипкой; немножко грубо, но верно.
29 июня
За обедом Лев Николаевич сказал:
– А я нет-нет да и почитаю Шопенгауэра. Сегодня читал насчет музыки. Очень хорошие есть замечания[101]. Вот насчет оперы он так пишет, как и я думаю. Я терпеть не могу оперы и, кроме скуки, в ней ничего не испытываю.
30 июня
‹…›Лев Николаевич стал спрашивать, нет ли свежих газетных известий о рабочем движении в Чикаго.
– Сказать вам по правде, я не только не опечален этим, я радуюсь. Все ругают анархистов и считают их за зверей, и никто не хочет понять, что анархизм – естественное следствие современного порядка вещей. Ведь анархист убивает Карно[102] не потому, например, что шуба у него хорошая. Он прямо говорит, что делает это для того, чтобы заставить всех обратить внимание на ненормальность современного положения вещей. До тех пор пока будут держать громадные войска; до тех пор пока богатые будут угнетать бедных; до тех пор пока будут учить, что Христос воскрес и улетел на небо и там сидит и так далее, – до тех пор будет существовать и анархизм. А вы как думаете? – обратился Лев Николаевич ко мне.
– Я думаю, что вы прописываете слишком жестокое лекарство.
– Ну вот, и вы принадлежите к безнадежным в этом отношении в настоящем положении. Всякий говорит: я не хочу никого обижать, лишь бы у меня была чашка кофе, сигара и жена в шелковом платье; и никто не хочет подумать, что вся эта обеспеченность основана на грабеже других.
– Но какую же роль должно при этом играть правительство? – стал говорить Николай Николаевич. – Оно или должно отказаться от власти, или принять меры.
– Да, принять меры, но какие? – опять начал Лев Николаевич. – Конечно, при нынешнем положении вещей оно прежде всего позаботится об увеличении войск и усилении власти; но если бы оно хотело действительно излечить болезнь, оно должно приняться за реформу современного строя, за национализацию земли и так далее. Право, странно. Стоит правительству лишь прислушаться к тому, что говорят кругом, чтобы понять окружающие нужды. Но разве об этом заботятся правительства? Наше правительство о чем заботится? О сохранении власти quasi-романовской династии и власти тех придворных, которые их окружают, а относительно другого всего – для них хоть трава не расти. Мне говорят: но как же выйти из такого положения? Я не знаю пути. Я знаю только, что вот эта проторенная дорожка ведет в пропасть, но я не знаю другой дороги; нужно искать, нужно проторить другую дорожку, а где – это покажет сама жизнь. А у нас все верят, что так и должно быть, как есть, лишь немножко нужно полечить. Человек пьет, курит, развратничает и спрашивает доктора, какие ему нужны пилюли, чтобы быть здоровым. То же и в деле воспитания детей. Систематически развращают их и потом призывают воспитателя, чтобы он исправил. Часто Сонечка говорит мне: «Укажи же мне другой путь воспитания». Я не знаю другого пути, но я знаю только, что этот безобразен и что нужно его изменить.
1 июля 1894 г.
От завтрака до вечера был князь Абамелик, армянского происхождения, миллионер, владелец 980 000 десятин земли и четырех чугунолитейных заводов в Пермской губернии. У него небольшое имение в Тульской губернии. Красив, много путешествовал, состоит главным попечителем Лазаревского института восточных языков, племянник министра Делянова, во французской Академии наук премирован за открытие какой-то сирийской надписи. Чего еще нужно? Он ездит в Ясную Поляну для поддержания знакомства, но его здесь не любят. Лев Николаевич говорит:
– Всякий раз стараюсь говорить с ним дружелюбно, но в конце концов начну говорить резко. Это настоящий тип петербуржца во вкусе нынешнего правительства. Кажется образованным, а между тем все это нахватано отовсюду лишь для того, чтобы оправдывать свое положение. Полнейшее непонимание самых элементарных понятий гуманности.
У князя на заводах было уже два бунта рабочих, усмиренных самыми крутыми мерами, и он рассказывает об этом с самодовольством. Говорят, что Лев Николаевич по этому поводу имел с ним энергичный разговор. «Ну, и досталось князю», – передавал потом доктор Флеров ‹…›.
2 июля
После обеда мы косили с Львом Николаевичем и тремя мужиками в саду. Солнце стало заходить, мужики ушли, и мы остались одни. Лев Николаевич перестал косить; облокотившись на косу и смотря на горизонт, стал припоминать стихотворение Фета, где описывается наступление ночи:
Летний вечер тих и ясен,
Посмотри, как дремлют ивы!
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.
От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью[103].
– Это превосходно, здесь каждый стих – картина ‹…›.
Вечером я хотел играть с гувернанткой мисс Уэльш сонату Моцарта, но она рано легла спать, и за нее сел играть Лев Николаевич. Он очень любит Моцарта и, разбирая, часто повторяет: «Как это мило!» Первую сонату мы сыграли еще сносно. Но вторую было разбирать труднее. «Ну, больше не будем, – сказал Лев Николаевич, обращаясь к сидевшим за столом, – сам знаю, что мучительно». Если какая-нибудь часть не идет, он говорит: «Ну, это пощадим». И мы оставляем.
Мы уселись за стол, и завязался длинный разговор о литературе. Николай Николаевич спросил, какого мнения Лев Николаевич о Глебе Успенском.
– Талант очень узкий и односторонний, – отвечал Лев Николаевич. – Утомительно однообразен. Вечно один и тот же язык. По моему мнению, Николай Успенский гораздо талантливее Глеба. У того был юмор, некоторые картинки были чрезвычайно живо схвачены[104]. У Глеба есть еще один крупный недостаток, который свойственен всей этой компании – Щедрину и их критикам. Все они что-то недоговаривают, скрывают от читателя; как маленькие дети: знаю, да не скажу. Что им мешает? Цензура, что ли, – уж этого не могу сказать.
Я спросил, как ему нравится Щедрин.
– Слишком длинно и утомительно. Вот эти последние еще лучше: «Пошехонская старина» и другие[105].
– Неужели вам не нравятся его сказки или «Господа Головлевы»?
– Некоторые сказки – да, другие – не выдержаны; например, про карася[106], вообще аллегорические. «Господ Головлевых» забыл. Самая лучшая мерка – это переводы на иностранный язык. Щедрина пробовали переводить – ничего не выходит[107]. Читает иностранный читатель и ничего не понимает.
Похвалив очень Слепцова, сказав, что его совершенно напрасно забыли, и воскликнув по этому поводу: «Вот наша критика!», Лев Николаевич обратился ко мне. «Я противоречу всем вашим литературным понятиям», – сказал он, улыбаясь.
Из молодых Лев Николаевич признает талант лишь за Гаршиным (указывает его «Ночь», «Глухарь», «Два художника» и др.) и Чеховым. Короленко он недолюбливает. Возмущается его повестью «В дурном обществе»: «Так фальшиво, выдумано; сказка – не сказка, бог знает, что такое». «Сон Макара» ему не нравится. Но больше всего смеется он над Короленко за то, что тот написал в «Светлом воскресении», как бежал острожник через освещенную ярко луной стену. Он говорит: «Когда я открою такую штуку у писателя, я закрываю книгу и больше не хочу читать».
У него есть в памяти несколько таких курьезов из Печерского, Салиаса; у Немировича-Данченко, по его словам, сколько угодно найдете. Попадаются даже у Мопассана (в каком-то рассказе, прежде чем срубить дерево, лезут на него, чтобы обрубить сучья[108]). Тут же он вспомнил, что читал по-французски рассказы и биографию одного талантливого молодого испанского писателя. Служанка этого писателя рассказывает, что была раз очень удивлена тем, что он ночью вдруг выскочил в окно и стал лить воду в колодец. Он писал в это время, и ему нужно было описать звук падающей воды.
– Вот это писатель! – прибавил Лев Николаевич. – Нужно знать то, о чем пишешь, и совершенно ясно видеть это перед глазами.
Разговор перешел на иностранных писателей.
– Да, нам, старикам, можно говорить об этом. Сколько мы пережили! При мне выступил Eugène Sue, наделавший много шума, пустивший в ход слово «пауперизм» («Les mystères de Paris»)[109]. Потом Alexandre Dumas-père. Я помню, когда был семнадцати лет, ехал в Казанский университет, купил на дорогу восемь томиков «Monte-Cristo»[110]. До того интересно, что не заметил, как дорога окончилась. Тогда вся большая публика увлекалась им, а я принадлежал к большой публике. Но он очень талантлив, как и сын. В 1862 году я читал «Les misérables» Виктора Гюго и восхищался[111]. Это один из лучших романов. Однако, заметьте, французы воздают ему какие почести и в то же время всегда немного пощипывают.
Николай Николаевич стал говорить, что хотя у Гюго есть много преувеличений, но это только преувеличения, а не выдуманные черты. Лев Николаевич согласился с этим и стал перечислять целый ряд типов из В. Гюго, которые до того оригинальны и ярко написаны, что никогда не могут быть забыты.
– Вот у Золя, – прибавил он, – никогда так не выйдет, несмотря на то, что он выписывает очень старательно. Я «Паскаля»[112] так и не одолел, хотя перечитал почти все его романы. Для «Посредника», для переводов, мне пришлось перечитать много всякого старья. «Векфильдского священника» Гольдсмита я с удовольствием прочел; сказки Вольтера скучны; Руссо могу перечитывать.
4 июля
Когда мы после обеда косили, Лев Николаевич припомнил вчерашний разговор:
– Что это вы все задираете Николая Николаевича? А я нарочно прочел сегодня лист Данилевского[113], где он говорит, что мы хороши, а Европа нехороша. Николай Николаевич защищает его, и это его слабая сторона. Это у него старые предания о совместной работе с Достоевским и славянофилами. Он – друг Данилевского.
– В чем же его главная сила? – спросил я о Николае Николаевиче. – В тонком художественном чутье?
– Отчасти в этом. А главное, он очень осторожен и имеет то, что китайцы называют «уважением» (у них это особенная духовная способность – уметь уважать). Он всегда сумеет взглянуть на предмет с наиболее выгодной его стороны и осветить ее. Но вообще он не блестящий талант; это я должен сказать, хоть и очень его люблю.
5 июля
‹…› Когда собирались у крыльца, подъехал Миша[114] на своей Вяточке. Стали смеяться над этой нескладной лошадью.
– Это ублюдок верблюда и цыпленка, – сказал Лев Николаевич, – но она мне нравится: в ней плоть немощна, но дух бодр; и, кроме того, в ней есть что-то человеческое. Это, наверное, заколдованный принц.
И Лев Николаевич рассказал арабскую сказку из «Тысячи и одной ночи», где принц был обращен колдуньей в лошадь. Он очень любит и высоко ценит арабские сказки; говорит, что в старости уже неловко, а молодым людям обязательно следует их читать: гораздо поучительнее, чем, например, статья «Что такое либерализм» из «Русского обозрения»[115] (ее читал Николай Николаевич).
Вечером заговорили о классиках. Николай Николаевич вспомнил, что Ренан жаловался на то, что образованные люди из французов бросают совсем древних, когда отделываются от них после школы. Лев Николаевич сказал, что такая же жалоба есть у Шопенгауэра на немецкую молодежь.
– Я помню, с каким наслаждением читал я «Анабазис» Ксенофонта, когда учился по-гречески. Это прелестное произведение. Но что становится в школах предметом изучения, то сразу делается противным. Приходит простое сравнение в голову: человеку не хочется есть, а его насильно кормят. И я думаю, что это справедливая кара, которую несут образованные классы. Они считают себя такими умными, а на самом деле они забивают себя. Я уверен, что средний мужик умнее среднего барина; то есть ум я понимаю в смысле знания того, что действительно нужно для жизни. Я думаю, что у нас правильно идет лишь первоначальное образование ‹…›.
7 июля
‹…› К обеду приехал Тернер, лектор английского языка при Петербургском университете, писавший о Толстом и русской литературе и читавший о тех же предметах лекции в Кембридже ‹…›.
Разговаривали по-английски, но Лев Николаевич с трудом объясняется на этом языке, хотя, когда читает, очень хорошо понимает оттенки языка. На днях мисс Уэльш переводила на английский язык его письмо[116]. Лев Николаевич работал вместе с ней и одобрял или отвергал предлагаемые ею английские выражения.
Прекрасно он говорит, что слова двух разных языков нигде вполне не покрывают друг друга, и наглядно показывал это соотношение на двух ладонях, прикрывая одной другую больше то с одной, то с другой стороны.
Так как Лев Николаевич чувствовал себя весь день не совсем здоровым, то в своей комнате он прочел июньскую книжку «Русской мысли». Содержание ее не показалось ему интересным, но особенно посмеялся он над повестью Мачтета «Пять тысяч».
– И зачем приняли это и напечатали? Я часто получаю от молодых авторов гораздо лучше. Во-первых, сюжет самый невероятный, чего никогда быть не может. Все действующие лица говорят одним и тем же языком, и притом таким языком, каким никто никогда не говорит. Наконец, все действующие лица ведут себя как раз противно тому характеру, который хотел им приписать автор.
8 июля
‹…› Лев Николаевич подсел к нам в ту минуту, когда Тернер жаловался, что русские не имеют обыкновения рядом с русским начертанием иностранной фамилии в скобках обозначать подлинную фамилию, так что нередко иностранцу трудно догадаться, о ком тут идет речь. Лев Николаевич согласился с этим и стал говорить об английском начертании и убийственном своею произвольностью произношении. Возмущает его манера некоторых молодых английских писателей, при передаче народной речи, коверкать слова так, что иностранец уже совсем ничего не понимает. «У нас эта манера, к сожалению, также прививается: пишут «тыща» вместо «тысяча».
Николай Николаевич на это заметил, что он всегда восхищался манерой Льва Николаевича при передаче народного говора достигать этого не извращением слов, а употреблением известных типических, свойственных изображаемому классу выражений, и припомнил разговор казака из «Войны и мира».
– Да, они всегда говорят так, – сказал Лев Николаевич и продолжал: – Достигать такими средствами эффекта, это все равно, что на картине изображать эполеты сусальным золотом. Нужно достигнуть иллюзии, а не изображать так, как есть.
Разговор стал переходить на английских писателей. По поводу какого-то англичанина, который расхваливает очень англичан, Лев Николаевич повторил, как и часто повторяет, что ему всегда это отвратительно. Напротив, если кто начнет горячо осуждать недостатки своего народа, тогда он говорит: «Какой он милый, как я его люблю; вот это настоящий патриот». За это, между прочим, он очень любит Диккенса. Кто-то упомянул Карлейля. Тернер пришел в движение и сказал, что это его любимый писатель и что он имеет громадное влияние в Англии. Лев Николаевич на это сказал, что лично он никогда не мог увлечься Карлейлем и «не понимает его» (его любимое выражение).
– Я не могу точно передать своих впечатлений, но мне всегда казалось, что я знаю заранее, что он скажет. Как будто бы близко возле хорошего, а не хорошее. Потом это его увлечение героями, аристократизм и презрение к массам – это отвратительно.
Николай Николаевич при этом вспомнил, что Карлейль в эпоху движения за освобождение негров писал против освобождения, так как, по его мнению, эта глупая толпа нуждалась в руководителях.
– Ну, вот видите! – сказал Лев Николаевич.
В этот день Лев Николаевич не обедал, а сидел под деревом, рядом с обедавшими, и читал «Русскую мысль». Дочитав в «Семействе Поланецких» Сенкевича до того места, где у одного действующего лица оказалась «родинка на веке» (вероятно, ошибка переводчика), он объявил об этом во всеуслышание и закрыл книгу[117]. После обеда уселись вокруг него, и Лев Николаевич еще раз по поводу Сенкевича распространился о губительности для таланта большого гонорара. По его мнению, Сенкевич – талант хоть не слишком большой, но в своем кульминационном произведении «Без догмата» был очень хорош[118]. Дальше все идет хуже и хуже. Последние главы «Поланецких» интересного не представляют. Очевидно, характеры исчерпаны, и автор бесконечно будет комбинировать. «У героини заболели зубы, я сейчас смотрю дальше, что из этого будет – оказывается, ничего; герой ушиб ногу, и опять ничего. Это автор дает черты реализма» ‹…›.
Вечером среди привезенной со станции корреспонденции увидели французский журнал «La Plume», который, как оказалось, был прислан редакцией потому, что в нем была статейка о русской цивилизации в отношении к западной и о Толстом, как самом великом писателе России. Лев Николаевич стал читать ее вслух. Статейка совершенно глупая и пустозвонная. Объявив Россию варварско-азиатской страной, а Толстого обер-варваром, автор предупреждает, чтобы берегли западную цивилизацию. Лев Николаевич очень смеялся и в самых бойких местах говорил: «Ишь, как он раскуражился».
9 июля
‹…› В полученных книжках журналов Лев Николаевич прочел что-то, подтверждающее отзывы Репина о заграничном искусстве (в «Неделе»)[119], и это повело к разговору о новом искусстве. Лев Николаевич стал говорить о новых композиторах:
– Я их решительно не понимаю. Был у меня Танеев, играл свой квартет, и для меня все в нем – и аллегро и скерцо – все шум, и только. Они, правда, толкуют об этом, находят одно лучше, другое хуже; но что же это за музыка, которая доставляет удовольствие лишь тем, кто ее делает? Я, конечно, не беру на себя смелость судить об этом, но я много слышал, сам играл, занимался, и на меня эта новая музыка не производит ровно никакого впечатления. Вот Глинка – другое дело, здесь и мелодия и все.
10 июля
За обедом Лев Николаевич обратился ко мне:
– А я получил от вашей знакомой, Фоминой, письмо. Она прислала мне книжку Марселя Прево[120]. Пишет, что перевела уже около половины; думает, что роман этот будет иметь нравственное значение; просит меня написать к нему предисловие; говорит, что она хочет издать его для дохода, пока муж пишет диссертацию. Я прочел роман: грязный и безнравственный. Хочу в письме к ней дать понять как-нибудь в вежливой форме, что она дура.
В продолжение обеда он несколько раз обращался ко мне с вопросами относительно Фоминой; говорит, что он целый день думает о письме к ней.
Возвратившись домой около десяти часов вечера, застали Николая Николаевича читающим книгу В. Розанова о Достоевском[121]. Мы подсели и стали слушать. Чтение книги Розанова, как условились Страхов с Львом Николаевичем, будет продолжаться и в следующие дни. Поэтому я думаю, что мнение Льва Николаевича о Достоевском дальше обрисуется рельефно. Теперь, между прочим, он говорил, что Достоевский – такой писатель, в которого непременно нужно углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту. А небрежность формы у Достоевского поразительная, однообразные приемы, однообразие в языке.
11 июля
‹…› Слушали чтение «Учителя словесности» Чехова из «Русских ведомостей»[122]. Когда Лев Николаевич окончил чтение и стали обмениваться впечатлениями, Лев Николаевич сказал, что рассказ ему нравится. В нем с большим искусством в таких малых размерах сказано так много; здесь нет ни одной черты, которая не шла бы в дело, и это признак художественности. При этом он сделал несколько замечаний о Чехове вообще. Для Льва Николаевича это человек симпатичный, относительно которого можно всегда быть уверенным, что он не скажет ничего дурного. Хотя он и обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить. Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо.
Вечером читали вслух из июльской книги «Северного вестника» «Эшафот» Виктора Гюго[123]. Лев Николаевич нашел перевод несколько прозаическим, но в общем довольно хорошим. Относительно же самого произведения сказал, что он его раньше не знал, но что это превосходная вещь (против смертной казни). У него есть почти все сочинения Гюго, кой-чего недостает. Перечитывал он все, что достал. Признает в нем много странных вещей, но все искупается высотой содержания. «И теперь пигмеи вроде Бурже подсмеиваются над ним; ведь Гюго – гигант в сравнении с ним».
12 июля
‹…› Когда Николай Николаевич по поводу Сони из «Преступления и наказания» Достоевского сказал, что это совершенная выдумка, что просто стыдно читать об этой Соне, Лев Николаевич сказал:
– Вот как вы строго судите, и верно. Я считаю в «Преступлении и наказании» хорошими лишь первые главы; это шедевр. Но этим все исчерпано; дальше мажет, мажет.
По поводу «Нови» опять повторил раньше высказанный им взгляд, что «Новь», вопреки общему мнению, – лучшая вещь Тургенева, лучше «Рудина» и других его романов; что она отличается цельностью, верно рисует время и верно изображает типы.
13 июля
После обеда за разговором кто-то упомянул Лескова, и графиня спросила Льва Николаевича, нравится ли ему он. Тот отвечал, что, по его мнению, некоторые места у Лескова превосходны (стал припоминать названия вещей и сцены из них), но основной его недостаток – искусственность в сюжетах, языке, особенные словечки. Он даже при личном свидании с Лесковым «осмелился ему это высказать», но тот отвечал, что иначе писать не умеет.
Вечером Лев Николаевич, возвратившись с длинной прогулки пешком (ходил в деревню за делом), был в добром настроении и разговорился. Чертков получил письмо от Эртеля, с которым он в дружбе, и это послужило поводом к разговору об Эртеле.
– Странно у нас как-то выдвигают, – сказал Лев Николаевич. – Теперь выдвинули Чехова и Короленко, а там все остальное безызвестное. А по моему мнению, Эртеля скорее нужно было бы выдвинуть, чем Короленко. Это, несомненно, талантливый человек, живой. Сначала он писал, рабски подражая Тургеневу, все-таки очень хорошо. Потом явилась самостоятельная манера. Есть прекрасные места (Лев Николаевич стал припоминать)[124]. Он любит лошадей, знает их и прекрасно описывает. Только это талант, который не знает, зачем живет.
Николай Николаевич опять вспомнил Засодимского и Златовратского, и Лев Николаевич опять по поводу Златовратского сказал, что решительно не понимает, откуда он получил такую популярность: «Это, верно, объясняется тем, что он, как и Мачтет, был, кажется, пострадавшим. По крайней мере, он был близок с некоторыми революционерами» ‹…›.
18 июля
‹…› Говоря об образовании народа, Лев Николаевич, между прочим, вспомнил, что в период увлечения школой у него была мысль устроить «университет в лаптях»[125]. Хотели доставлять возможность желающим крестьянам учиться (по силам и в пределах знаний учащего персонала) разным наукам. Лев Николаевич помнит, что в числе желающих было несколько взрослых, и они с удивительной быстротой и жадностью учились, например, алгебре. На замечание графини, что это ни к чему не повело бы, так как такой мужик сейчас же ушел бы из деревни, Лев Николаевич сказал, что в том и задача «университета в лаптях», чтобы не отрывать, как делает учительский институт, мужика, а дать деревне образованного человека в их же среде. Проект этот разрушился о формализм министерства. На запрос Толстого министерство народного просвещения прислало программы занятий, со строгим разграничением часов и сообщением, что за всем будет следить инспектор. Тогда Лев Николаевич остыл к «университету в лаптях».
19 июля
Вечером на утверждение Льва Николаевича было представлено два списка для издания «Посредника»: 1) Николай Николаевич выбрал около десяти стихотворений Фета для проектируемого сборника из русских поэтов; 2) Касаткин с Татьяной Львовной[126] составили список картин русских художников для дешевых лубочных изданий. Что касается Страхова, то Лев Николаевич огорчил его. Он утверждал все стихотворения описательные, так как эти особенно любит и ценит у Фета; но отвергал все с неясными порывами и стремлениями, воспеваниями чего-то полуясного, – этих он не любит. Отвергал также стихотворения анакреонтического рода, сверкающие античной красотой, говоря, что эта красота слишком условна.
В картинах он настаивал, чтобы брали больше из Маковского; хвалил мальчика с калачом[127], говорил, что это трогательно и глубоко, настаивал, чтобы брали картины с поэтическими сюжетами. «Самосжигателей» Мясоедова забраковал. О Максимове и его «Разделе»[128] говорил, что он кажется знатоком народа лишь для интеллигенции, а на самом деле он, как Печерский[129] в литературе, народа и его быта не знает.
В этот же вечер пересматривали полученные Татьяной Львовной альбомы снимков с картин лондонской академической выставки и Парижского салона. Лев Николаевич удивлялся технике картин и изяществу выполнения гравюр. Однако по поводу картины, изображающей, как полк конных гусар под Ватерлоо, внезапно налетев на пропасть, низвергается в нее, он пожалел о массе бесполезно потраченного труда. Смеялся над всякими аллегорическими и мифологическими картинами и утверждал, что сам никогда не мог запомнить, кто была Психея и кто у кого вышел из головы в полном вооружении. «А тут еще имена: сегодня замечу Юнону, а завтра она оказывается Герой, да еще волоокой».
20 июля
‹…› Вечером Лев Николаевич прилег на диван. К нему подсел Николай Николаевич и заговорил о каком-то неизвестном еще рассказе, который Лев Николаевич дал ему прочесть. Мало-помалу стали подсаживаться другие, и образовалась группа. Графиня в стороне просматривала Фета и читала вслух те стихотворения, которые ей особенно нравились или были новы для нее.
В параллель к одному стихотворению Фета Лев Николаевич вспомнил стихотворение Тютчева и стал говорить о нем. «По моему мнению, Тютчев – первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин. Вот видите, какие у меня дикие понятия, – сказал он, обращаясь ко мне. – А у вас как Тютчев считается?» Я отвечал, что совсем мало с ним знаком, что он мало встречается в библиотеках. Николай Николаевич стал говорить об изданиях его стихотворений. Лев Николаевич рассказал, что с Тютчевым его познакомили Некрасов[130] («ему нужно отдать справедливость: хоть у самого в стихах не было нисколько поэзии, а ценить умел»), Дружинин и др., которые составили первый сборник стихотворений Тютчева[131]. Я стал расспрашивать о последующих сборниках. «А потом он стал писать вздор, чепуху такую, что ничего не поймешь – эти славянофильские стихотворения». Николай Николаевич рассмеялся. «Это для меня сказано, – пояснил он нам. – Но ведь среди этих есть превосходные», – обратился он к Льву Николаевичу. «Все вздор», – шутливо, но упорно твердил тот…
– Так не забудьте же Тютчева достать, – сказал Лев Николаевич, когда я с ним прощался. – Без него нельзя жить.
21 июля
Сегодня я достал из библиотеки Тютчева, сидел в зале и читал. Лев Николаевич подходил ко мне, указывал те, которые ему особенно нравятся, а о славянофильских говорил: «Это вздор».
Вечером Лев Львович заговорил об Островском. Николай Николаевич спросил, был ли с ним лично знаком Лев Николаевич.
– Как же, я с ним почему-то был на «ты». Помню, в последнее время пришел к нему, он после болезни, с коротко остриженной головой, в клеенчатой куртке, пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона – придавать себе большое значение: «я, я». Он и разговор постоянно наводил на эту тему. Островский был окружен всегда своим кружком поклонников, которые превозносили его, и потому говорить с ним было довольно трудно.
Из пьес Островского Лев Николаевич особенно любит «Бедность не порок», называет ее веселой, сделанной безукоризненно, «без сучка и задоринки». Хваленой «Грозы» не понимает;[132]и зачем было изменять жене, и почему нужно ей сочувствовать, тоже не понимает. Жадова[133] находит сделанным слишком по рецепту, «с ярлычком». Высоко ставит у Островского совершенное знание языка действующих лиц.
Лев Львович о Гончарове высказал мнение, что из русских писателей он, как человек, был из лучших.
– Да, но он был до мелочности щепетилен, обижался, завидовал, что ли. Это смешное его обвинение Тургенева, что будто бы тот его обкрадывал, называл Лизой свою героиню, когда у него была Лиза, и так далее[134].
Стали считать года. Лев Николаевич сказал, что он считает себя зажившимся. Он помнит за шестьдесят лет. На его глазах картина жизни изменилась до неузнаваемости.
– Меня всегда занимал вопрос, что сказали бы, например, самые умные римляне эпохи Сенеки, если бы собрать их и спросить, что произойдет в будущем. Наверное, ничего не угадали бы. Они говорили бы, что цирк разовьется до совершенства, или что-нибудь в этом роде. Трудно, невозможно предвидеть.
23 июля
‹…› Богуславский вступился за обряд ‹…›. Говорит медленно, как бы выжимая мысли из головы, и, в конце концов, разряжается банальностью. Лев Николаевич стал выказывать признаки нетерпения. Когда Богуславский произнес: «Я думаю, вы признаете, что обряды нужны для масс», Лев Николаевич заявил ему: «Для каких масс? я сам масса». Богуславский стал говорить что-то о гипнотизирующем действии обрядов, на что Лев Николаевич привел слова Шарко, что загипнотизировать можно лишь к дурному поступку, но не к хорошему.
«Но вот что меня занимает, – продолжал глубокомысленный собеседник, – ведь слово не вполне передает мысль, значит, идеи будут искажены». Лев Николаевич, недоумевая, к чему все это, сказал, что Тютчев говорил: «Мысль изреченная есть ложь», а Гете говорил: «Что я пишу, то хуже того, что я говорю; что я говорю, то хуже того, что я думаю». Богуславский глубокомысленно кивал головой, а относительно слов Гете изволил заметить, что это очень и очень интересно.
Стали прощаться и расходиться по комнатам. Я с Николаем Николаевичем пошли через сад и стали ходить по аллее, делясь своими впечатлениями, очень нелестными для нового человека. Скоро вышел Дунаев и с ним Лев Николаевич, тоже оживленно разговаривая о нем, окликнули нас в темноте, и мы пошли вместе.
– Кто это такой? – спросил я Льва Николаевича.
– Нет, я вас спрошу, кто это такой и зачем он приехал сюда.
– Это самодовольный дурак, – решительно отрапортовал я.
– Ого, я и не думал, что вы такой сердитый, – сказал Лев Николаевич и стал рассказывать, что этот математик явился к ним в Москве в тот самый час, как им нужно было уезжать, очень нетактично задерживал их, стал читать свое какое-то сочинение по высшей математике. «Я ничего не понял, но мне показалось, что там есть что-то хорошее. Теперь опять явился неведомо зачем».
Прощаясь с нами, Лев Николаевич еще повторил: «Так я и не знал, что вы такой сердитый». При этом он рассказал, как говорил Писемский: «Человек – это дробь, у которой заслуги числитель, а мнение о себе – знаменатель. Отсюда происходит, что люди с небольшими заслугами, но с большою скромностью очень приятны; а люди даже с заслугами, но и огромным самомнением крайне неприятны».
25 июля
‹…› Лев Николаевич заговорил на всегда волнующую тему – о контрасте людей праздных, утопающих в роскоши, болеющих от излишеств, и забитых работою, бедностью и недостатком во всем. Он глубоко верит, что это не будет продолжаться вечно, что, подобно тому, как постепенно уничтожено рабство, крепостничество и т. д., и эта зависимость одних людей от других будет прекращена ‹…›.
27 июля
После обеда сидели и говорили о том о сем. Вдруг Лев Николаевич обратился ко мне:
– Я вам завидую: вам придется жить в новую эпоху и переживать такое время, какое мы переживали в эпоху освобождения крестьян.
– В каком же отношении это время будет новым? – спросила графиня.
– Земельной собственности не будет.
– Ну, это еще не скоро настанет.
– Нет, скоро, уже есть признаки ‹…›.
29 июля
Здесь очень интересуются процессом анархиста Казерио, убившего президента Карно[135]. Просматривая полученные газеты, Лев Николаевич только это и ищет. Мужественное поведение Казерио вызывает одобрение; отказ правительства допустить в печать объяснения Казерио, где он высказывает свое profession de foi[136], как анархиста, возмущает Льва Николаевича:
– Какое малодушие со стороны правительства! Они прямо показывают этим, что боятся растущей силы. Если анархисты – дикие звери, так почему же нам нельзя читать их бред?
30 июля
Много говорили о картине Ге[137]. Чертков говорит, что если картину увезут в Англию, то и там ведь люди. Но Лев Николаевич высказывает надежду и какое-то предчувствие, что она останется в Москве.
– Не может быть, чтобы Третьяков оставил это так. Я писал к нему задирательные письма[138], и он должен, по крайней мере, обидеться и ответить мне в таком тоне. Наконец, мало ли в Москве есть богатых людей, которым некуда девать капитал. Хоть и страшно произнести это слово, но я надеюсь, что со временем будет основан музей Ге, где будут собраны его работы.
Лев Николаевич говорит, что, работая и отдыхая теперь в мастерской, он все больше и больше всматривается в «Распятие» Ге и все больше проникает в мысль художника.
– Чтобы написать такую вещь, нужно предположить, по крайней мере, тридцатилетнюю подготовительную работу, а барыня какая-нибудь подойдет с лорнетом и хочет оценить ее в тридцать секунд. Я даже начинаю примиряться с разбойником. Прежде я не видел там ничего, кроме выражения физического ужаса. Теперь я проникаю глубже.
После обеда, по настоянию Льва Николаевича, устроили «концерт». Начали со столь любимых им сонат Моцарта. Скрипку играл я, рояль – Катерина Ивановна Баратынская, весьма изрядная музыкантша. Потом стали играть в четыре руки «Крейцерову сонату», первую часть, которую собственно имел в виду Лев Николаевич в своем рассказе[139]. Лев Николаевич играл вторую партию, хотя несколько грубо и с погрешностями ‹…›.
31 июля
‹…› Лев Николаевич в прежних книжках «Вестника Европы» отыскал письма Тургенева к Аксакову[140], очень обрадовался и стал читать вслух. Письма относятся ко второй половине пятидесятых годов. «Мое время», – говорил Лев Николаевич. Он останавливался на объяснении упоминаемых Тургеневым мест и лиц, радовался блестящему изложению, восхищался его критическими замечаниями; по поводу его характеристики современной французской литературы повторял: «Удивительно хорошо!» ‹…›.
1 августа
‹…› Вечером Лев Николаевич сообщил, что от нечего делать он взял оставленную мною на столе майскую книжку «Русской мысли», и так как там ничего не было интересного, то принялся читать статью Гольцева о Чехове[141]. Находит в ней интересными лишь выписки из Чехова; все же остальное, по его мнению, сделано крайне бездарно и неумело. О Гольцеве, как человеке, Лев Николаевич отзывается, что он симпатичный, исполнен хороших намерений и мыслей.
2 августа
‹…› Стали говорить вообще о русских либералах, и Лев Николаевич заявил, что «подлее русских либералов он ничего не знает» ‹…›. У нас сделалось обычаем, почти обязанностью ругать правительство за все его поступки. Но, стоит только правительству позвать нас, мы застегнемся в мундир и явимся; ругаем правительство, и у того же правительства просим места.
– Я знаю один случай. Три московских профессора (имен я не хочу называть) говорили что-то либеральное студентам. Об этом узнал попечитель Капнист. Всем известно, что Капнист – пьяница и дурак. Но, когда он позвал трех профессоров-либералов, они надели мундиры, поехали, ждали в передней. Он сделал им выговор, и они сами об этом потом рассказывали ‹…›.
4 августа
‹…› Сегодня графиня, убирая книги после Страхова в шкафы, спросила, можно ли унести и Тютчева. Я воспользовался этим случаем, чтобы обратиться к Льву Николаевичу за разъяснением его фразы, сказанной когда-то, что Тютчев для него выше Пушкина.
– Я перечитывал Тютчева, – сказал я, – многое превосходно; но все-таки я не могу понять, почему же он выше Пушкина? Ведь Пушкин несравненно шире Тютчева.
– Зато Тютчев глубже его.
– Итак, – продолжал я, – нужно измерить глубину одного и широту другого, чтобы определить, кто из них выше. Задача нелегкая!
Лев Николаевич улыбнулся:
– То есть как выше? Ведь и Немирович-Данченко широк: у него и поэмы, и стихи, и что вам угодно. Это не трудно. Сила Пушкина, по моему мнению, в лирических его произведениях, и главным образом в прозе. Его поэмы – дребедень и ничего не стоят. А Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина. Правда, у Пушкина нет таких пошлых патриотических стихотворений, как у Тютчева, хотя и у него «Клеветникам России» и другие.
5 августа
Лев Николаевич вышел к завтраку с новой книжкой «Русского обозрения». Там печатаются письма Аксаковых к Тургеневу[142].
Лев Николаевич начал говорить об Аксаковых:
– Как они самоуверенны, а в сущности, они не оставили после себя никакого следа. Литературная известность отца раздута, у него было лишь среднее дарование. Константин из них был самым интересным. Иван был талантливее, но Константин был чистая, благородная натура[143]. Он сорока лет умер девственником, а когда руку подает, как Тургенев выражался, словно дверью защемит. Но мне всегда неприятно было в них то, что все у них делалось напоказ. И православие их, которое стояло в связи с славянофильской системой, было напоказ. Тургенев был гораздо искреннее. Он был неверующим, но когда одна барыня заставляла его «Отче наш» читать, он и «Отче наш» читал, и делал все это простосердечно и искренно. За это он был всегда ближе мне ‹…›. Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать последовательно: «Фауст», «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот». Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина[144].
6 августа
К вечеру пришли посетители: студент-медик, бывший учитель здесь[145], и ординатор Благоволин, оба – снегиревские ученики[146]. Рассказывали о всяких операциях и других медицинских чудесах. Лев Николаевич стал их «задирать». По его мнению, медицина лишь тогда может быть названа благодетельной, когда станет популярной. Но пока она служит лишь богатым классам, то черт с ней. Это какой-то возмутительный, безнравственный порядок, при котором богатая купчиха, имеющая возможность выписать Шарко из Парижа, вылечивается, а жена ее дворника, страдающая такой же болезнью, даже в меньшей степени, умирает, так как никто к ней не придет на помощь. Если существует такого рода справедливость, то из-за этого можно бы повеситься. Поэтому ему какой-то голос подсказывает (хотя этого нельзя доказать статистикой), что медицинская помощь и для богатых классов уж не так благодетельна, как кажется ‹…›.
9 августа
‹…› Вечером стали вслух читать из «Северного вестника» статью П. Вейнберга о Жорж-Занд[147]. В первой части делался общий обзор предшествовавшего романа (Руссо, Сталь, Шатобриан и др.). Лев Николаевич в промежутках между чтением высказывал свои замечания. Руссо он читал с самых молодых лет и перечитывал все, даже его переписку[148]. Он его считает величайшим писателем и удивляется, как можно сопоставлять с его романами романы мадам Сталь, которая была, конечно, умной женщиной, но романы писала прескучные. «Это все прагматизм!» Шатобриана он пробовал много раз читать, но никогда не мог одолеть ни его «Рене», ни его «Духа христианства». Между прочим, очень хвалил Стендаля и находил, что Пушкин высказывал несправедливые о нем мнения («Записки Смирновой» в августовской книжке «Северного вестника»)[149]. К Бальзаку он никогда не чувствовал особого влечения и все из него перезабыл[150].
10 августа
‹…› Я спросил, какое впечатление производил на него Данте.
– Скука страшная: я несколько раз пытался его читать и никогда не мог окончить; читал и по-итальянски, когда учился итальянскому языку. Жаль, что некогда, хотелось бы почитать еще. Как это создаются иногда репутации![151]
– А Боккаччио?
– Боккаччио лучше; по крайней мере, интересно, и живо рассказано. Я читал по-французски[152].
Потом стали вслух читать повесть Маркова из «Недели»[153]. Лев Николаевич сначала, пока шли описания и разговоры разных лиц четвертого класса в поезде, очень восхищался верностью изображения, а потом, когда на сцену явился старец с веригами, сказал, что этого старца Марков сочинил и что это отвратительно.
11 августа
‹…› Вечером мы прочли вместе повесть Ольдена «Женитьба Кабуса» (перевод с немецкого) в августовской книжке «Северного вестника»[154]. Вещь эта всем мало понравилась, хотя Лев Николаевич сказал: «Недурно». От повести, как и вообще от немецких повестей, несло особенным немецким духом, и я это высказал.
– Да, – сказал Лев Николаевич, – они имеют особенности. У меня явилась мысль, если бы я был помоложе, написать три романа – подделку под французский, немецкий, английский. Особенно удался бы мне английский ‹…›.
12 августа
‹…› Прочли вслух из «Русской жизни» фельетон Гарина «Наброски с натуры». Льву Николаевичу Гарин не нравится. Он причисляет его к тому же типу выдумщиков, как Немирович-Данченко и Мамин-Сибиряк. Прочтенный рассказ он нашел так себе: ничего особенно дурного (хотя об охоте на медведя заметил, что это все – вранье), но и хорошего ничего нет.
26 декабря, 1894 г., Москва
‹…› Я сообщил, что «Русская мысль» приобрела себе в критики Скабичевского.
– Тупой и бездарный человек, – сказал Лев Николаевич[155] ‹…›.
Лев Николаевич встал и вышел зачем-то из залы.
– А какое впечатление на вас произвела вся эта история с Александром Миротворцем?[156] – послышался его голос из другой комнаты.
Я отвечал неопределенно.
– Отвратительная история, – продолжал, входя и снова садясь за стол, Лев Николаевич. – После глупого, ретроградного царствования вдруг со всех сторон подымаются восхваления, самая бесстыдная ложь. И эта печальная студенческая история… Впрочем, почему же печальная? Это – единственное светлое явление во всей этой истории. Одна молодежь осмелилась высказать правду ‹…›.
Я нарочно навел разговор на поведение профессора Ключевского и передал мнение профессора Стороженко, что он смотрит на его хвалительную лекцию[157] памяти Александра III как на долг вежливости по отношению к обласкавшей его семье царской[158].
Лев Николаевич ничего не сказал на этот счет, но высказал несколько мнений о Ключевском как профессоре, которые поразительно расходились с тем, что я привык думать и слышать от других. По его мнению, Ключевский – бездарный человек. Он читал в «Русской мысли» его исследование о боярской думе[159]. «Скучно, ни одной новой мысли, написано таким языком, что ничего не поймешь. Читал его лекции. Неприятно, всюду эти словечки, либеральная подковырка и ничего больше».
29 декабря 1895 г.
Был в первый раз на субботнем журфиксе у Толстых.
Лев Николаевич показал статью «Московских ведомостей», присланную Дунаевым, где Николаев[160] доказывал, что самое христианское государство должно быть монархическим; отпустил несколько иронических замечаний по этому поводу; сел возле меня. Я неловко молчал. Спросил, читал ли я статью Арнольда[161] в «Северном вестнике» о задачах современной критики (перевод с английского).
– Не читал.
– Пожалуйста, прочтите. Я эту статью давно рекомендовал; теперь ее прекрасно перевели, но она прошла как-то незаметно. Я все рекомендую ее молодым людям. Автор в статье говорит о том, что подъем художественного творчества бывает тогда, когда критика соберет весь запас того лучшего, что сделано у других. В этом и должна быть задача критики ‹…›. Критик должен быть всесторонне образованным человеком, знать литературу и древнюю, и западноевропейскую, и русскую. У Белинского есть хорошие места. Но если перевести и его и других русских критиков на иностранный язык, то иностранцы не станут читать, – так все элементарно и скучно. На Западе есть хорошие, серьезные критики, Сент-Бев, например, Лессинг, Карлейль; последний, правда, как бы из упорства, наперекор всем, носится с этим своим прославлением героев, вопреки и времени и христианству. Литература у нас была всегда выше критики. Хоть бы Пушкин – действительно европейски образованный человек.
Я заявил, что все-таки люблю Белинского, что при его описании, например, игры Мочалова дрожь проходит по коже. Он обладал большим вкусом, и великая его заслуга, что он восхищался, например, Гоголем и других увлекал своим восторгом, в то время как другие, например Сенковский, Полевой, ругали Гоголя[162].
Лев Николаевич молчал, прислонившись к печке. Очевидно, он о многом говорит по старым общим воспоминаниям, к одностороннему усилению которых служат какие-нибудь ближайшие впечатления, например статьи Волынского[163]. Потом сам стал говорить, что кто-то ему в защиту Белинского приносил читать некоторые его места, и действительно хорошо, особенно из первого периода.
Толстовец Страхов, с которым я в этот вечер возвращался домой, сообщил, что сам слыхал от Льва Николаевича другое мнение о Белинском. Он разговаривал с одним фабричным о том, какие книги он читает, и, удивленный его выбором, спросил, по чьему совету он это делал.
– По рекомендации господина Белинского, – отвечал тот.
– Вот видите, – сделал заключение Лев Николаевич, – какое благотворное действие оказывает Белинский[164].
За чаем говорили о музыкантах: Гофмане, чешском квартете, Игумнове. Чешский квартет, который Лев Николаевич слушал из артистической комнаты Благородного собрания, изъявил желание поиграть у Льва Николаевича. Играли квартет Бетховена (из первых), Шуберта, Гайдна. От всего Лев Николаевич был в восторге: «Ясно, прозрачно». Квартет же Танеева между ними, по его мнению, похож на стихотворение, которое составлено из набора всяких слов без связи, но с соблюдением размера и рифмы. Игру Игумнова он находит безукоризненной. Тот был так любезен, что для него выучил прелюдию F-dur Шопена, бурную, которою его восхищал еще Н. Рубинштейн.
Лев Николаевич был на ученическом вечере консерватории, хвалит всех. Особенно ему понравился концерт Рубинштейна, к которому он питает сочувствие за искренность и задушевность. В Чайковском он находит иногда искусственность. Музыка Рубинштейна напоминает ему поэзию шестидесятых годов.
– В чем же сходство? – спросил я. – В шумливости, прямолинейности?
– Нет, нет, не могу выразить; быть может, это воспоминание молодости: в какой-то задушевности ‹…›.
Толстовец полюбопытствовал узнать, по каким побуждениям Лев Николаевич ходил слушать «Короля Лира»[165].
Ответа, сказанного тихо, я не слыхал точно (вроде того, что есть потребность). Но, когда дальше они вдвоем стали говорить о Шекспире, я переменил место и подсел ближе.
Его мнение о Шекспире, «дикое», как говорит сам Лев Николаевич, давно интересовало меня. Он напал на «Короля Лира», находит много неестественных сцен и лиц, например сумасшествие Эдмунда, характер Кента. Недавно перечитывал «Ромео и Юлию». Сцена с аптекарем, к которому приходит Ромео за ядом, возмутительна по неестественности. Во всем видна небрежная работа актера, который спешит окончить пьесу, чтобы забавлять ею публику. Клоуны его возмутительны: это глумление над простым народом. В них виден автор-шут. Конечно, он умный, и многие сцены у него глубоки. Это не Шпажинский; но полной художественности у него нет; не видно, чтобы автор любил свое создание. Наконец, возмутительно его равнодушие, называемое объективностью. Отелло ли душит Дездемону, или убивают подряд несколько человек – ему все равно. Все это для него лишь занятные картины. Мольер художественнее Шекспира, Бомарше – и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна. Даже некоторые из первых вещей Островского художественнее некоторых шекспировских.
Гете как драматурга Лев Николаевич совсем не любит: так и видно, как сидел он и сочинял[166]. Шиллера ценит очень высоко и больше всего любит его «Разбойников»[167]. Хотя там все и приподнято, но это вечно – и Карл Моор и Франц Моор. Хороши и «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева» – все ‹…›.
По поводу моего учительства заговорили о преподавании словесности. Лев Николаевич находит, что мы занимаемся совсем не тем, чем нужно. Культурную историю должны читать не преподаватели словесности, а собственно историки, а то, чем они занимаются – разные войны, – этого совсем не нужно. Я стал допытываться, как же он провел бы курс литературы.
– Я, конечно, плохо знаю историю литературы, – отвечал, улыбаясь, Лев Николаевич, – но если вы хотите, то расскажу в общем.
Начал бы он с былин, которые очень любит и на которых надолго остановился бы, потом сказки, пословицы народные. Скучными вопросами о вариантах Киреевского, Рыбникова или о том, что богатыри, как говорит Бессонов, олицетворяли собой солнце и т. д., он не занимался бы, а выбрал бы самое лучшее и познакомил бы с ним. Потом из книжной словесности остановился бы, например, на таком превосходном стилисте, как протопоп Аввакум (Лев Николаевич очень удивился, когда я сказал ему, что у нас Аввакума совсем не включают в учебники). Далее («в этом я согласен с славянофилами»), весь период литературного хищничества, когда паразиты отбились от народа, и Ломоносова, несмотря на его заслуги, и Тредьяковского и т. д., пропустил бы совсем. Потом стал бы говорить о том, как с Пушкина до настоящего времени литература мало-помалу освобождалась от этого, хотя и теперь еще не вполне освободилась. Литература должна дойти до такой простоты, чтобы ее понимали и прачки и дворники[168]. На мои слова, что мы стараемся представить непрерывное развитие литературного дерева, взаимодействие писателей, как один развивался под влиянием другого и т. д., Лев Николаевич сказал, что, может быть, это и интересно, но все это ни к чему ‹…›.
20 апреля 1896 г.
В субботу собралось у Толстых особенно много публики ‹…›.
Интересен был разговор о вагнеровской музыке ‹…›. Лев Николаевич был на последнем представлении «Зигфрида» и говорит, что такой отчаянной тоски и скуки давно не испытывал[169]. Во-первых, сюжет. «Известно, что из всех эпосов немецкий самый глупый и скучный». Вагнер в своем либретто еще больше испортил текст; музыка же его не представляет собой чего-нибудь цельного, имеющего центр, как должно иметь всякое художественное произведение, а есть только ряд иллюстраций на этот испорченный текст. Так и видно, как немец сидел и придумывал. Настоящей музыки нет, все условно. Птицы поют – играй на дудочке, выходит кто – труби в трубы и т. д. Чувства меры нет: около получаса в одном месте дудочка играет. Слушаешь и не понимаешь, играют уже или еще строятся: то как будто в животе у кого-то забурчит, то дудочки перекликаются.
– Если бы у меня было время и я не был занят другими предметами, я написал бы об этом[170]. Я могу доказать, что это не музыка. Там, в театре, со мною сидели Танеев и другие специалисты, и они ничего не могли мне возразить. Для меня очень понятно, почему вагнеристы говорят с таким экстазом. Если хлеб хорош или вода хороша, я просто говорю, что это хорошо; тут нечего восторгаться. Но если приготовлено какое-нибудь странное кушанье, тут я буду из кожи лезть и восторгаться ‹…›.
Лев Николаевич был на картинной выставке[171]. Поленовскую картину «Среди учителей» находит очень недурной: фигуры мальчика, старика-книжника, матери. Видно, что художник много думал над ней. По поводу касаткинских «Углекопов» говорил, что тот вечно чудит. Нельзя в живописи показывать то, что в темноте, так как живопись должна иметь дело с тем, что на свету. Обратил внимание на картину Орлова «Переселенцы», которая тронула его; особенно пьяненькая женщина, ласкающая детей. О последней картине я заметил, что она написана несколько грубовато, а, по моему мнению, в искусстве обязательна должна быть красота. Лев Николаевич предостерег меня от увлечения этим: красотой одной вопрос не исчерпывается. Но он также думает, что красота в искусстве должна быть для того, чтобы заставить обратить на себя внимание, притянуть и заставить вникнуть в смысл произведения. Так называемое тенденциозное искусство и теряет многое оттого, что часто бессильно в создании привлекательной формы. От этого терял и Ге, а Поленов обладает этим уменьем и привлекает к себе внимание.
19 апреля 1897 г.
У Толстого ждали Кони, которого Лев Николаевич просил прийти часов в десять, так как он сам был в этот вечер, по приглашению Сафонова, на репетиции оперы «Фераморс», которую ставили ученики консерватории[172]. Возвратившись домой раньше прихода Кони, он на вопросы присутствующих стал рассказывать, что мотивы оперы Рубинштейна ему очень понравились, но сюжет и масса условностей в постановке, из-за которых все с ожесточением бьются и которые, в сущности, никогда не могут доставить удовольствия, показались ему слишком скучными. По обыкновению он отнесся ко всему этому с юмором. Но что больше всего неприятно подействовало на него, это грубое обращение Сафонова с учениками – исполнителями оперы: «ослы», «болваны», «идиоты» сыпались с его языка.
– Какая невоспитанность, какая грубость нравов! Я не знал, как подойти к нему потом и подать ему руку.
Явился Кони, с несколько обезьяньим лицом, с прекрасными в спокойной задумчивости глазами. Необыкновенная ясность мысли, точный, простой, употребляющий новые обороты язык, склонность и способность к остроумию.
Разговор перешел на Репина. Лев Николаевич в восторге от его картины «Дуэль», которая еще не появилась перед публикой[173]. Фигура умирающего, протягивающего руку убийце («простите»), по его словам, производит такое впечатление, что он заплакал перед ней, что с ним бывает редко. Другую картину Репина – «Искушение Христа» – он находит отвратительной, что он прямо и высказал художнику. Это совсем не дело Репина, и напрасно он за это взялся. Ге был замечательный человек в отношении религиозной живописи. В разговорах с ним Толстой уяснил себе этот предмет. Прямое дело Репина – такие картины, как «Дуэль». Лев Николаевич просил Кони зайти к Репину и сказать ему, что одна из фигур лишняя. «Я долго думал об этом, тогда не успел сказать, и потом меня это мучило. Мы с Репиным уважаем и любим друг друга, и он это поймет» ‹…›.
Разговорившись о своей последней работе об искусстве[174], Лев Николаевич стал говорить, что это работа очень сложная, что у него около семидесяти выписок из разных сочинений. При этом он обратился ко мне с просьбой взять на себя труд сверить его изложение взглядов разных эстетиков и писателей с цитатами, на основании которых это изложение сделано. Он боится, как бы не стали говорить, что он неверно передал такое или такое место, а делать прямо выписки в тексте он не хотел бы: выйдет слишком громоздко. Я обещал зайти через неделю, когда рукопись будет переписана рукой Татьяны Львовны, а он просил при проверке «быть построже».
Раньше еще, в начале разговора, я был сконфужен тем, что Лев Николаевич, как-то вскользь, в разговоре упомянул обо мне как о специалисте по русской литературе. Кони, «пользуясь тем, что он имеет удовольствие говорить со специалистом», несмотря на мой протест на слова Льва Николаевича, спросил, не знаю ли я, какая полная биография Никитина. Одна из присутствовавших дам прежде меня назвала Де Пуле, и я мог только прибавить, что она печатается при полном собрании сочинений Никитина[175]. Лев Николаевич при этом сказал, что он очень любит Никитина.
В тот же вечер говорили о новой повести Чехова «Мужики»[176]. Все, и в особенности Лев Николаевич, который признает за Чеховым громадный талант, поражены силой рассказа. В конце его какое-то место не пропущено цензурой. Но Лев Николаевич находит и односторонним талант Чехова, именно потому, что он производит такое удручающее впечатление.
14 февраля 1898 г.
‹…› За чаем он, полный интересов своего эстетического сочинения, говорил о том, что подбирает примеры из всемирной литературы для того, чтобы указать образцы истинного, по его мнению, искусства: 1) проникнутого христианским чувством, 2) объединяющего людей. Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера. О «Натане мудром» Лессинга еще подумает, перечитает[177].
Я говорил, что трудно приводить такие примеры, что сразу не сообразишь, что это значит – горстью черпать из моря, а он утверждал, что и черпать-то нечего. Спросил его, под влиянием только что прочитанной брошюры Вейнберга[178], что он думает о поэзии Гейне. Лев Николаевич отвечал, что причислить сочинения Гейне к истинным произведениям искусства он не может, скорей причислил бы их к дурному искусству. У Гейне безотрадный пессимизм и цинизм, глумление над всеми и над собой, не смягчаемое любовью, полная неспособность, «свойственная евреям вообще», понять дух христианства. Но тут же он прибавил, что недавно перечитывал Гейне и восторгался им, хотя объясняет это тем, что он сам испорчен нашими искаженными взглядами на искусство. У Гейне удивительное остроумие, необыкновенная ясность ума, когда он характеризует разные философские направления, «как не охарактеризует ни одна история философии», чрезвычайно умные изречения.
Заговорили об отрицательных фактах биографии Гейне, и по этому поводу Сулержицкий сказал, что его обижало при чтении биографии Руссо его отношение к женщинам.
Лев Николаевич отвечал, что ему никогда это не казалось странным для Руссо. Он всегда был легкомыслен, то есть лучше сказать, до того глубокомыслен в том, что занимало его ум, что оказывался вполне беспомощным со своей наивностью в практической жизни и нуждался в ухаживании женщины ‹…›.
Присутствовала, между прочим, какая-то графиня ‹…›. У нее Лев Николаевич брал журналы и книжки декадентские, чтобы «понюхать, как скверно пахнут». По этому поводу произошел разговор. Лев Николаевич только что пришел от Льва Поливанова и передавал его отзыв об «Искусстве»[179]. «И зачем Лев Николаевич упоминает о декадентах? – говорил Поливанов. – Что с ними возиться? Они уже погребены». Возражая на это, Лев Николаевич говорил, что напрасно так мало обращают внимания на декадентов, что это болезнь времени, и она заслуживает серьезного отношения.
Дальше был разговор довольно длинный вообще об искусстве, его идеалах (простота, общедоступность). Лев Николаевич охотно и много раз может повторять те мысли, которыми он занят в своей работе. Нового из этого разговора я ничего не вынес. За борт вылетели Шекспир, Данте, Бетховен, Грибоедов, как не общедоступные и потому не истинные.
– Не нужно бояться отбрасывать, – говорил на мое слезное заступничество Лев Николаевич. – Чем меньше останется, тем лучше.
По глазам моим он, верно, видел, что я не верю. После играл Гольденвейзер, и мы разошлись во втором часу ночи.
7 февраля 1899 г.
‹…› Состоялось трио. Играли Бетховена: довольно хороший скрипач Алмазов, виолончелист из учеников консерватории, рояль – Гольденвейзер, который превосходно читает ноты. Потом пела романсы дочь Алмазова, сильный и довольно приятный голос.
Лев Николаевич, по обыкновению, принимал в музыкантах живейшие участие. Оставлял сейчас же разговор, как только начиналась музыка, усаживался отдельно где-нибудь в углу и слушал. Певица просящим голосом сказала, что она пропоет Чайковского «Травушку». Алмазов-отец по окончании говорил, что не может равнодушно слышать этот романс, так он его захватывает. А Лев Николаевич и до пения сказал, что не любит этих подделок под народные песни, и слушал одним ухом, и по окончании твердил с улыбкой: «Нет» ‹…›.
14 февраля 1899 г.
В воскресенье у Толстых был Суриков, художник; разговаривал с Львом Николаевичем. Я подсел к ним. Суриков рассказывал о Суворове, альпийский поход которого он взял сюжетом для своей последней картины[180], описывал его наружность, говорил о его семейных обстоятельствах, чудачествах, народном духе, о том, что из деятелей эпохи Екатерины народ помнит Суворова и Пугачева ‹…›.
Графиня, между прочим, сказала, что мы несправедливо, пристрастно судим царственных лиц, и в пример привела покровительство Николая Павловича Пушкину. Я возразил, что обещание царя быть цензором поэта не было, как скоро оказалось, очень приятным для Пушкина; привел в пример отзыв Николая о «Борисе Годунове» («Лучше было бы сделать в форме романа, à la Вальтер Скотт») и ответ Пушкина: «Жалею, что не в силах переделать раз написанное». Этот ответ заинтересовал Льва Николаевича; он не знал его. Ему показалось забавным, что Николай Павлович, «этот болван, который до конца своей жизни никак не мог потрафить, где букву ять ставить, и, наконец, плюнул и стал писать совсем без ять», делал указания, как писать, «такому человеку, как Пушкин».
Я вспомнил, что у Левенфельда рассказывается, как Николай I, узнав, что на четвертом бастионе осажденного Севастополя находится молодой, подающий надежды писатель, велел его перевести в более безопасное место на фланг[181].
– Как же понять психологию этого покровительства писателям? Или он хотел из них создать певцов своего царствования, как Екатерина Вторая? – спросил я.
– Просто, при дворе читают, хвалят. «А где он? Ах, под Севастополем! Ma chère, как опасно! Надо его перевести», – отвечал, улыбаясь, Лев Николаевич.
Разговор перешел на студенческие беспорядки[182]. К Льву Николаевичу являлись студенты с просьбой написать в их защиту, принесли ему свои прокламации. Лев Николаевич перечитал их, говорит: «Скучно, написано по-мальчишески». Но в общем он сочувствует протесту студентов, хотя еще не ясно представляет себе, как помочь делу ‹…›.
11 апреля 1899 г.
‹…› Заговорили о драматических опытах Буренина. Некоторые роли писаны им для известных актеров. Лев Николаевич возмущается этим обычаем; находит, что этот грех был и у Островского[183]. Островского он делит вообще на две половины. Первую ставит высоко, особенно «Свои люди – сочтемся». Его трогает конец этой пьесы, когда Большов падает с высоты своего величия, зритель жалеет его и негодует на жестокого Подхалюзина. Высоко ставит также «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Падение начинается, когда, из желания угодить либеральной критике, Островский стал писать «Доходное место»[184] и громить «темное царство». Жадова, этого студента-резонера, Лев Николаевич находит из рук вон плохим. Я передал рассказ (из «Русских ведомостей») очевидца, который наблюдал впечатление этой пьесы на фабричную публику. Она осмеяла Жадова за знаменитую сцену в трактире. «Все, мол, были плохи, а теперь сам хуже всех». Лев Николаевич нашел это вполне естественным. Неодобрительный отзыв его о «Грозе» известен[185]. Недавно с Софьей Андреевной видел он в театре «Горячее сердце» и ахал от невозможности сцен. Сцену объяснения городничего с просителями («А принеси законы!») находит хоть и смешной, но выдуманной[186] ‹…›.
Я рассказал, что купил на вербах «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», в переводе Аверкиева[187], и зачитался ими. Лев Николаевич оживленно подхватил.
– Сколько стоит? Я читал по-немецки. Очень интересно ‹…›.
6 апреля 1900 г.
Лев Николаевич повел в кабинет и показал гранки статьи «Новое рабство»[188]. Статью для «Северного курьера» еще будет переделывать. Там говорится о том, что на Казанской железной дороге грузовщики – хуже рабочей скотины, работают без перерыва по тридцати шести часов, зарабатывая рублей тридцать в месяц. Статья разрастается, он углубляется в этот вопрос.
За чаем были Лев Николаевич, Дунаев, Сергей Львович и я. Сергей Львович заспорил с отцом об изданном в Германии законе Гейнце против безнравственности. Лев Николаевич удивляется возмущению либеральной прессы против этого закона:
– Мы окружены насилиями, и люди работают по тридцати шести часов. Об этом молчат. А вздумало правительство умело или неумело запретить показывать на улице голых баб, и все закричали ‹…›.
10 декабря 1900 г.
‹…› Был пианист Гольденвейзер, но почти не играл. Между ним и Сергеем Львовичем[189] зашел специальный разговор о гармонии русских песен. Лев Николаевич принимал в нем участие с пониманием, хотя специальных познаний в гармонии у него нет[190]. Восхищался хором балалаечников, который недавно слышал в одном знакомом доме ‹…›.
Теперь Лев Николаевич занят Конфуцием[191]. Из Румянцевской библиотеки через Стороженко и при помощи каталожного ему доставили кучу английских книг о Китае. Он находит очень глубоким чтение Конфуция о том, что для счастья нужно устроить государство, личность, определить понятия добра и зла ‹…›.
Очень был заинтересован статьей Буквы[192] («Русские ведомости». № 243) о международной выставке картин. Спрашивал, кто такой Буква, и соглашался с ним, что в современной живописи мало идейности.
Ге потому и стоит выше их, что у него много мыслей, что он даже разбрасывался, хватался то за одно, то за другое ‹…›.
71
В начале 90-х годов известный богослов, философ и поэт Вл. С. Соловьев прочитал доклад «О причинах упадка средневекового миросозерцания». Реакционная пресса усмотрела в реферате Соловьева сплошное глумление над православною церковью («Московские ведомости». 1891. № 291). Полемика, связанная с истолкованием христианства и православия, продолжалась до 1894 г. Толстой познакомился со статьей Соловьева «Конец спора», направленной против Л. Тихомирова и В. Розанова («Вестник Европы». 1894. № 7), и писал автору 7 августа 1894 г., советуя ему «раз навсегда отказаться от полемики» и беречь силы для более серьезных дел (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 67. С. 185).
72
«Вечерние огни. Неизданные стихотворения А. А. Фета». М., 1883–1891.
73
Даже в период увлечения поэзией Фета у Толстого проскальзывали критические суждения о неясности его поэтических замыслов. В феврале 1875 г. он писал Фету, что стихотворение «Что ты, голубчик, задумчив сидишь…» «совершенно неясно как произведение слова» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 62. С. 149); в 80-е годы Толстой более категорически формулирует свои наблюдения (в дневниковой записи от 7 февраля 1889 г.): «Фету противны стихи со смыслом» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 50. С. 32–33). О Фете и Толстом см. т. 1 наст. изд.
74
Здесь допущена очевидная ошибка. «Нахлебники» не книжка, а рассказ Чехова (первая публикация: «Петербургская газета». 1886. № 246), который был включен в сборник рассказов «Невинные речи» (М., 1887), а несколько позднее – в «Пестрые рассказы» (СПб., 1891).
75
См. прим. 8 к воспоминаниям Л. Я. Гуревич.
76
Гольцев В. А. А. П. Чехов (Опыт литературной характеристики) // «Русская мысль». 1894. № 5. В. А. Гольцев, в то время редактор журнала «Русская мысль», автор ряда работ о Чехове.
77
Толстой в 50-х годах увлекался творчеством Гете, оставляя в письмах, дневниках той поры восторженные отзывы о его произведениях: «великое наслаждение», «восхитительно», «читал восхитительного Гете» (письмо к В. В. Арсеньевой от 23–24 ноября 1856 г. и дневниковые записи от 29 сентября 1856 г. и 7/19 июня 1857 г.). Однако с начала 70-х годов и в момент перестройки его миросозерцания тон отзывов меняется: Толстого не удовлетворяет «язычество» Гете, его преклонение перед античной эстетикой, искусством, драмой.
78
Н. И. Стороженко – известный исследователь истории западноевропейской литературы. Основные работы Н. И. Стороженко были посвящены творчеству Шекспира и его эпохе.
79
Картина Н. Н. Ге «Распятие» («Казнь Христа на кресте». 1892–1894). Толстой особенно высоко ценил это произведение своего давнего друга и единомышленника. См. воспоминания Л. Гуревич. Т. Л. Сухотина-Толстая была свидетельницей того большого душевного волнения, которое вызвала у Толстого первая встреча с картиной Н. Н. Ге (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. С. 286).
80
Имеется в виду картина В. Д. Поленова «Христос и грешница» (1887). По словам А. Мошина, Толстой видел ее еще в мастерской художника (Мошин А. Ясная Поляна и Васильевка. СПб., 1904.).
81
Николаев Ю. И. С. Тургенев. Критический этюд. М., 1894.
82
Рассказ И. С. Тургенева «Довольно. Отрывок из записок умершего художника» в момент появления в печати (1865 г.) вызвал отрицательные отзывы Толстого. Он увидел в произведении «субъективность, полную безжизненного страдания» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. С. 109). Однако позднее, в 80-х годах, он изменил свой взгляд на это произведение, оказавшееся созвучным его собственным мыслям. В письме к С. А. Толстой от 30 сентября 1883 г. он советует ей: «Прочти, что за прелесть» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 83. С. 397). «Гамлет и Дон-Кихот» – статья Тургенева («Современник». 1860. № 1). В дневниковой записи от 7 октября 1892 г. Толстой сближает оба произведения: «Тургеневское „Довольно“ и „Гамлет и Дон-Кихот“ – это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской. Хорошую можно составить статью» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 52. С. 74). В 1905 г. Толстой еще раз вернется к тургеневской статье «Гамлет и Дон-Кихот» в дневниковой записи 18 марта: «Тургенев написал хорошую вещь: „Гамлет и Дон-Кихот“ и в конце присоединил Горацио. А я думаю, что два главные характера, это – Дон-Кихот и Горацио, и Санчо Панса, и Душечка. Первые большею частью мужчины; вторые большею часть женщины» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 55. С. 129).
83
Толстой намеревался выступить с речью на вечере памяти И. С. Тургенева, устраиваемом Обществом любителей российской словесности, членом которого состоял с 1859 г. Однако начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов доложил министру внутренних дел, что выступление Толстого недопустимо, что он «может наговорить невероятные вещи». Последовало приказание ни в коем случае не допустить выступления Толстого и «под благовидным предлогом» объявить заседание Общества, посвященное памяти Тургенева, «отложенным на неопределенное время». Предполагаемый вечер так и не состоялся. Толстой отдавал себе отчет в том, что ему сознательно «помешали говорить» о Тургеневе (см. письмо к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г.).
84
«Живые мощи» (1874) – рассказ из цикла «Записки охотника».
85
«Новь» (1877) – последний роман Тургенева.
86
«Пунин и Бабурин» (1874), «Вешние воды» (1872) – повести Тургенева. Рассказ «Андрей Колосов» (1844) – первое прозаическое произведение Тургенева.
87
В. И. Немирович-Данченко, в 80-90-е годы – беллетрист, драматург, отличавшийся исключительной плодовитостью, автор многочисленных забытых ныне романов и повестей.
88
О Г. А. Мачтете, известном в свое время беллетристе народнического направления, Толстой был невысокого мнения. Лазурский в одной из своих записей подробно передает иронический отзыв Толстого о рассказе Мачтета «Пять тысяч».
89
Толстой повторяет мысль, которая была высказана им о Тургеневе еще в 1877 г. в письме к А. Фету от 11–12 марта: «В чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета – это природа. Две-три черты, и пахнет» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 62. С. 315).
90
Толстой испытал большое влияние работ американского экономиста Г. Джорджа. В особенности он выделял его книгу «Прогресс и бедность» (1879), к которой не раз обращался, и изложенную в ней теорию «единого налога на землю». С установлением этого налога земля, по мысли Г. Джорджа, переставала быть источником дохода отдельных лиц, а земельная рента целиком переходила в распоряжение общества. В письме к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. он относил эту книгу к числу тех произведений, которые произвели на него «очень большое» впечатление в возрасте с пятидесяти до шестидесяти трех лет. Позднее, под влиянием событий революции 1905 г., Толстой подверг критике теорию Джорджа, пола гая, что предложенные им меры не в состоянии остановить обнищания народных масс и изменить суть буржуазно-капиталистических отношений, основанных на их эксплуатации. См. воспоминания В. А. Поссе.
91
И. И. Янжул, профессор Московского университета, экономист. Толстой был знаком с ним с начала 80-х годов.
92
Переводы из Бодлера и Метерлинка были включены Толстым в трактат «Что такое искусство?» (гл. X) и сопровождались резкой критикой французского декаданса.
93
Этот отзыв не отражает истинного отношения Толстого к творчеству П. И. Чайковского. Вспоминая о музыкальном вечере в московской консерватории в декабре 1876 г., Толстой писал композитору: «Я наслаждался… Я полюбил ваш талант» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 62. С. 297). Толстой плакал, слушая andante первого струнного квартета П. И. Чайковского (Чайковский П. И. Дневник. М. – Пг.: Госиздат, 1923. С. 210–211).
94
В. А. Берс – брат С. А. Толстой. Ср. дневниковую запись Толстого от 26 июня 1894 г.: «Пошел на песочные ямы. Там мужики, влезая в яму, работают с опасностью для жизни. За обедом сказал, что надо сделать карьер. Соня сначала говорит, что она не даст денег… После обеда пошел с Вячеславом, решил сделать карьер» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 52. С. 123). Опасения Толстого оправдались. В мае 1905 г. в яме во время подкопа был засыпан песком и погиб яснополянский крестьянин С. В. Фоканов, бывший ученик Яснополянской школы. Толстой был потрясен этой смертью (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 55. С. 142, 507–508).
95
Толстой находился под сильным впечатлением от статьи «Задачи современной критики» М. Арнольда, английского поэта, историка литературы и богослова. По рекомендации Толстого она печаталась в «Северном вестнике» (1895. № 5); в несколько сокращенном виде была издана в 1902 г. «Посредником». В предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» Толстой дважды говорит о статье М. Арнольда, отмечая истинное значение критики в жизни общества: ответить на «огромной важности вопрос: что читать из всего того, что написано?»
96
Старший сын художника Н. Н. Ге, Николай Николаевич, «Колечка», как его называли в семье Толстых. В тот же день после беседы с Лазурским Толстой записал в дневнике (27 июня 1894 г.): «Разговор с Владимиром Федоровичем о критике. Вспомнил знаменитое Количкино изречение, что критика – это когда глупые говорят об умных» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 52. С. 124).
97
Имеется в виду стачка железнодорожников в Чикаго, организованная в июне 1894 г. Была жестоко подавлена полицейскими и военными силами.
98
А. М. Кузминский, муж свояченицы Толстого Т. А. Берс-Кузминской.
99
В 1894 г. через станцию Козлова-Засека проехал царский поезд, везший Александра III в Крым.
100
Н. А. Зиновьев, тульский губернатор с 1887 по 1889 г.
101
Толстой имел в виду философский трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Однако у него есть и резко отрицательные суждения об этом труде, в частности, об истолковании немецким философом природы музыкального искусства. Писатель не принимал «мистической теории» Шопенгауэра, утверждающей, что «музыка есть выражение воли, – не отдельных проявлений воли на разных ступенях объективизации, а самой сущности ее». Толстой считал пагубным влияние этой теории на творчество композиторов («Что такое искусство?», гл. XII).
102
Речь идет об убийстве 13/25 июня 1894 г. французского президента Сади Карно анархистом Санто Казерио.
103
Стихотворение А. Фета «Летний вечер тих и ясен…» (1850).
104
Это стойкое мнение Толстого об очерках и рассказах из народного быта Н. В. Успенского, печатавшихся в «Современнике» в 1858–1860 гг. См. также воспоминания В. А. Поссе.
105
Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина. Жизнь и приключение Никанора Затрапезного» был закончен автором за несколько месяцев до его смерти. О чтении Толстым заключительных глав романа («Вестник Европы». 1889. № 3) сохранилась дневниковая запись от 4 апреля 1889 г.: «Читал Щедрина. И хорошо, да старо, нового нет. Мне точно жалко его, жалко пропавшую силу» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 50. С. 62).
106
Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист» (1884).
107
Аналогичную мысль высказывал и И. С. Тургенев (Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. М. – Л.: «Наука», 1960–1968. Т. 14 (Сочинения). С. 253). Переводы Салтыкова-Щедрина на иностранные языки осуществлялись начиная с 60-х годов XIX в.
108
Этот эпизод есть в рассказе Мопассана «Маленькая Рок» (1885).
109
Роман Эжена Сю «Парижские тайны» (1842–1843, русск. перевод – 1844).
110
Толстой имел в виду 1845 г., когда он после летних каникул возвращался в Казанский университет. «Граф Монте-Кристо» (1844–1845) был в то время литературной новинкой.
111
Роман «Отверженные» (1862) В. Гюго – одно из любимейших произведений Толстого. Первое упоминание о чтении «Отверженных» встречается в дневниковой записи 1863 г.: «„Misérables“ „сильно“» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 48. С. 52). Среди немногих книг, которые произвели на Толстого большое впечатление с 35 до 50 лет, только «Отверженные» определялись им по степени воздействия высшей оценкой «огромное» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 66. С. 68). В ряду совершенных образцов «высшего искусства» нового времени Толстой называет «Отверженные» и в трактате «Что такое искусство?» (гл. XVI).
112
Роман Э. Золя «Доктор Паскаль» (1893).
113
Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб., 1871) славянофильской ориентации. Отдельные ее фрагменты Толстой читал в июле 1894 г. в корректуре (при повторном ее издании).
114
Михаил Львович Толстой.
115
В «Русском обозрении» (1894. № 6) была напечатана статья Л. Тихомирова «Люди без собственного содержания».
116
Письмо к Джону Кенворти (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 67, т. 165–168).
117
Несколько позднее, 25 октября 1894 г., Толстой писал в благожелательном тоне о романе Г. Сенкевича: «Мы целый вечер – я читал – читали „Поланецких“ с большим удовольствием. Прекрасный писатель, благородный, умный и описывающий жизнь, правда, одних образованных классов, во всей широте ее» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 84. С. 228).
118
О сильном впечатлении, оставленном чтением романа Г. Сенкевича «Без догмата», сохранились дневниковые записи Толстого от 18 и 20 марта 1894 г. См. также письмо Толстого к Г. Сенкевичу от 27 декабря 1907 г.
119
Статья И. Е. Репина «Заметки художника (Письма из-за границы)». Репин резко критиковал французскую новейшую живопись.
120
Н. Д. Фомина прислала Толстому роман Марселя Прево «Les demi-vièrges» («Полудевы»). Толстой в ответе Фоминой (11 июля 1894 г.) отказался написать предисловие, находя роман безнравственным и «вредным, как всякое порнографическое сочинение». В дневниковой записи от 11 июля 1894 г. он называет книгу Марселя Прево «глупой, гадкой, мерзкой».
121
Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. СПб., 1894.
122
Некоторая неточность. В «Русских ведомостях» (1894. № 188, 10 июля) была напечатана лишь гл. 2 «Учителя словесности» с подзаголовком: «Рассказ». Гл. I под заглавием «Обыватели» впервые появилась в газете «Новое время» (1889. № 4940, 28 ноября). Полностью «Учитель словесности» был опубликован только в 1894 г. в сборнике Чехова «Повести и рассказы» (М., 1894).
123
Стихотворение «Эшафот» (из книги «Легенда веков») было опубликовано в «Северном вестнике» (1894. № 7).
124
Толстой высоко ценил роман А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».
В 1909 г. вдова А. И. Эртеля, предпринимая издание сочинений своего мужа, обратилась к Толстому с просьбой написать предисловие. Но Толстой написал предисловие только к роману А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (опубликовано в Эртель А. И. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1909). Автор предисловия особенно отмечал в романе «удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 243). С романом А. И. Эртеля Толстой познакомился значительно раньше. В дневнике 1889 г. (запись от 28 сентября) содержится краткий отзыв о «Гардениных»: «Лег поздно, зачитался Гардениными. Прекрасно, широко, верно, благородно» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 50. С. 149).
125
Толстой намеревался в 1875–1877 гг. открыть в Ясной Поляне курсы для народных учителей, учительскую «семинарию» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 62. С. 302). Толстому действительно было предложено департаментом народного просвещения составить учебный план, таблицы распределения занятий и т. п. Задуманные Толстым курсы для учителей народных школ не были открыты.
126
Татьяна Львовна Толстая.
127
Картина В. Е. Маковского «Свидание» (1883).
128
Картина В. М. Максимова «Семейный раздел» (1876).
129
П. И. Мельников (псевдоним – Андрей Печерский).
130
Некрасов был одним из страстных пропагандистов творчества Тютчева. Он способствовал возрождению его популярности, опубликовав свою статью «Русские второстепенные поэты» («Современник». 1850. № 1), где стихотворения Тютчева рассматривались как «блестящие явления в области русской поэзии». В 1854 г. в приложении к мартовской и майской книжкам «Современника» было помещено более ста стихотворений Тютчева.
131
Инициатором подготовки к печати первого собрания стихотворений Ф. И. Тютчева был И. С. Тургенев. Он же выступил и редактором первого (1854) издания Тютчева См.: Благой Д. Д. Тургенев – редактор Тютчева // Тургенев и его время. М. – Пг., 1923. С. 144–145.
132
Неодобрительный отзыв Толстого о «Грозе» появился уже вскоре после выхода в свет пьесы: «„Гроза“ Островского же есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех» (письмо к А. А. Фету от 23 февраля 1860 г. – Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 60. С. 325).
133
Герой пьесы Островского «Доходное место» (1857).
134
Гончаров обвинил Тургенева в литературном плагиате, полагая, что писатель воспользовался идеями и образами «Обрыва», с содержанием которого его познакомил сам автор еще до публикации романа. Дело дошло до третейского суда, который не признал справедливой жалобу Гончарова. В 1875–1876 гг. Гончаров написал «Необыкновенную историю», где все романы, за исключением «Рудина» («Новь» еще не была опубликована), рассматривал как вариации на темы «Обрыва».
135
Речь идет об убийстве 13/25 июня 1894 г. французского президента Сади Карно анархистом Санто Казерио.
136
Точка зрения (франц.).
137
Картина Н. Н. Ге «Распятие» («Казнь Христа на кресте». 1892–1894). Толстой особенно высоко ценил это произведение своего давнего друга и единомышленника. См. воспоминания Л. Гуревич. Т. Л. Сухотина-Толстая была свидетельницей того большого душевного волнения, которое вызвала у Толстого первая встреча с картиной Н. Н. Ге (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. С. 286).
138
Толстой писал П. М. Третьякову трижды, обращаясь с предложением приобрести картины умершего Н. Н. Ге (14 июня и два письма 14 и 15 июля 1894 г.).
139
Повесть Толстого «Крейцерова соната».
140
«Из переписки И. С. Тургенева с семьею Аксаковых. Сорок лет тому назад. 1852–1857 гг.» («Вестник Европы». 1894. № 1, 2).
141
Гольцев В. А. А. П. Чехов (Опыт литературной характеристики) // «Русская мысль». 1894. № 5. В. А. Гольцев, в то время редактор журнала «Русская мысль», автор ряда работ о Чехове.
142
Толстой читал письма Аксаковых, цитируемые в статье: Майков Л. Н. Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу (1851–1852 гг.) // «Русское обозрение». 1894. № 8.
143
Толстой говорит о семействе Аксаковых. Отец – С. Т. Аксаков, известный писатель, автор любимых Толстым произведений – «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Его сыновья – К. С. и И. С. Аксаковы – идеологи славянофильства.
144
«Фауст» – повесть И. С. Тургенева («Современник». 1856. № 10), в которой отразились некоторые биографические мотивы, связанные со знакомством и с увлечением Тургенева М. Н. Толстой, сестрой Л. Н. Толстого (Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Т. 3 (Письма). С. 65).
Рассказ И. С. Тургенева «Довольно. Отрывок из записок умершего художника» в момент появления в печати (1865 г.) вызвал отрицательные отзывы Толстого. Он увидел в произведении «субъективность, полную безжизненного страдания» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. С. 109). Однако позднее, в 80-х годах, он изменил свой взгляд на это произведение, оказавшееся созвучным его собственным мыслям. В письме к С. А. Толстой от 30 сентября 1883 г. он советует ей: «Прочти, что за прелесть» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 83. С. 397). «Гамлет и Дон-Кихот» – статья Тургенева («Современник». 1860. № 1). В дневниковой записи от 7 октября 1892 г. Толстой сближает оба произведения: «Тургеневское „Довольно“ и „Гамлет и Дон-Кихот“ – это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской. Хорошую можно составить статью» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 52. С. 74). В 1905 г. Толстой еще раз вернется к тургеневской статье «Гамлет и Дон-Кихот» в дневниковой записи 18 марта: «Тургенев написал хорошую вещь: „Гамлет и Дон-Кихот“ и в конце присоединил Горацио. А я думаю, что два главные характера, это – Дон-Кихот и Горацио, и Санхо Панса, и Душечка. Первые большею частью мужчины; вторые большею часть женщины» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 55. С. 129).
145
А. М. Новиков. В 1889–1881 гг. был учителем Андрея и Михаила Львовичей Толстых.
146
То есть ученики В. Ф. Снегирева (1847–1916), гинеколога, профессора Московского университета, крупного русского ученого.
147
Вейнберг П. Жорж Занд (Глава из истории нового французского романа) // «Северный вестник». 1894. № 8–9.
148
Ту же мысль высказал Толстой в беседе с Полем Буайе.
149
В «Записках А. О. Смирновой» приведены слова, якобы сказанные Пушкиным о Стендале: «Мне он представляется чрезвычайно буржуазным», «провинциальный офицер, чиновник в военном мундире» («Северный вестник». 1894. № 8. С. 204–206). В связи с высказанными сомнениями в достоверности «Записок» Л. Я. Гуревич вернулась к этой публикации, рассказав, как текст записок был получен ею (Русская литература XX века. 1890–1910 / под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М.: «Мир». С. 247–248).
150
Отношение к творчеству Бальзака у Толстого было сложным. В 50-х годах (в письмах, дневниковых записях, черновых набросках) нередко встречаются резкие критические суждения. В 80-е годы тон оценок меняется: «Взял я с собой Бальзака и с удовольствием читаю в свободные минуты» (письмо к С. А. Толстой от 9 апреля 1882 г.). В конце 1885 г. в письме к В. Г. Черткову Толстой отмечает «реальность произведений французского романиста, исчезающую в неловких переводах» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 83. С. 332; Т. 85. С. 286).
151
Мысль Толстого о Данте, как об «установленном критикой авторитете», наиболее полно высказана в трактате «Что такое искусство?» (гл. IV, XII, XVI). В ранней дневниковой записи (20 декабря 1896 г.) отражена та же мысль.
152
В дневнике 1898 г. Толстой записал: «Читал Боккаччио. Начало господского безнравственного искусства» (запись 29 апреля. – Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 53. С. 191–192). Ср. аналогичную мысль в трактате «Что такое искусство?» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 88).
153
Марков В. Л. Рабочий поезд.
154
Ольден Г. Женитьба Кабуса // «Северный вестник». 1894. № 8.
155
См. об этом отзыве Толстого о А. М. Скабичевском в записи Лазурского от 27 июля 1894 г.
156
После смерти Александра III (20 октября 1894 г.) верноподданнические «Московские ведомости» провозгласили его «великим миротворцем», озабоченным более всего спокойствием и миром народов России и Европы. Вслед за этим в печати, русской и иностранной, появился ряд панегирических статей об Александре III.
157
Тридцатого ноября 1894 г. на лекции В. О. Ключевского, посвященной памяти умершего царя Александра III и восхвалению его «мудрой» политики, студентами университета была устроена демонстрация протеста, за которой последовали студенческие волнения. Выступление молодежи было сурово подавлено. Пятьдесят три студента были исключены из университета и отправлены в административную ссылку.
158
В. О. Ключевский в 1893–1895 гг. читал сыну Александра III, вел. кн. Георгию Александровичу, курс русской истории.
159
«Исследования о боярской думе» – магистерская диссертация «Боярская дума Древней Руси» В. О. Ключевского, печатавшаяся в журнале «Русская мысль» в 1880–1881 гг.
160
Под псевдонимом Ю. Николаев сотрудничал в «Московских ведомостях» Ю. Н. Говоруха-Отрок.
161
Толстой находился под сильным впечатлением от статьи «Задачи современной критики» М. Арнольда, английского поэта, историка литературы и богослова. По рекомендации Толстого она печаталась в «Северном вестнике» (1895. № 5); в несколько сокращенном виде была издана в 1902 г. «Посредником». В предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» Толстой дважды говорит о статье М. Арнольда, отмечая истинное значение критики в жизни общества: ответить на «огромной важности вопрос: что читать из всего того, что написано?»
162
О. И. Сенковский отличался особенной резкостью отзывов о творчестве Гоголя. «Библиотека для чтения» (журнал, издавшийся Сенковским) «в течение семнадцати или восемнадцати лет, – отмечал Н. Г. Чернышевский, – постоянно нападала на Гоголя». Н. А. Полевой, убежденный сторонник романтизма, благожелательно встретил ранние произведения Гоголя, но отрицал «Ревизора» и «Мертвые души», полагая, что в них Гоголь «устранился от истинного пути» (см.: Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья вторая).
163
Статьи Волынского (псевдоним А. Л. Флексера), популярного в 90-е годы журналиста и критика.
164
Толстой в свое время с увлечением читал Белинского. По словам А. В. Дружинина, он в 50-х годах с целью «понять все наше литературное движение, собирался перечитать все статьи Белинского (Тургенев и круг «Современника». М. – Л.: «Academia», 1930. С. 202). В дневнике Толстого (1857) сохранились записи об этих чтениях: «Читал Белинского, и он начинает мне нравиться… прочел прелестную статью о Пушкине… Статья о Пушкине – чудо. Я только теперь понял Пушкина» (дневниковые записи 2, 3, 4 января 1857 г. – Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 47. С. 108).
165
Толстой смотрел «Короля Лира» в театре «Эрмитаж» в январе 1896 г. с участием итальянского трагика Эрнеста Росси.
166
Толстой в 50-х годах увлекался творчеством Гете, оставляя в письмах, дневниках той поры восторженные отзывы о его произведениях: «великое наслаждение», «восхитительно», «читал восхитительного Гете» (письмо к В. В. Арсеньевой от 23–24 ноября 1856 г. и дневниковые записи от 29 сентября 1856 г. и 7/19 июня 1857 г.). Однако с начала 70-х годов и в момент перестройки его миросозерцания тон отзывов меняется: Толстого не удовлетворяет «язычество» Гете, его преклонение перед античной эстетикой, искусством, драмой.
167
«Разбойники» Шиллера – одно из давних увлечений Толстого. Он относил драму к числу произведений, которые оказали на него «очень большое» влияние еще в юношеские годы (см. письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г.).
168
Толстой не раз возвращался к этой мысли о пользе «цензуры» простого народа, имея в виду предельную ясность выражения художественных идей. «Поверка одна – доступность младенцам и простым людям – чтобы было понятно Ваничке и дворнику» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 67. С. 253).
169
Оперу Р. Вагнера «Зигфрид» Толстой слушал в Большом театре 18 апреля 1896 г. С ним была его дочь Т. Л. Толстая. См.: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. С. 226.
170
Критической оценке оперной музыки Вагнера Толстой посвятил XII главу трактата «Что такое искусство?».
171
Имеется в виду XXIV Передвижная выставка 1896 г.
172
апреля 1897 г. Толстой был на репетиции оперы А. Рубинштейна «Фераморс» в постановке учеников Московской консерватории (руководитель В. И. Сафонов). Под живым впечатлением этой репетиции (ее рабочих моментов) Толстой набросал краткое описание увиденного, которое ввел в гл. IX черновой редакции трактата «Что такое искусство?». Вскоре он вернулся к черновому наброску и, значительно расширив и переработав первоначальный вариант, включил его в первую главу трактата. (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 28–30, 325, 526).
173
Толстой видел эту картину в мастерской Репина в Петербурге 8 февраля 1897 г.
174
Трактат «Что такое искусство?».
175
Биография И. С. Никитина, составленная М. Ф. де Пуле, печаталась при собрании сочинений Никитина (1-е изд. Воронеж, 1869; 10-е изд. – 1904).
176
Повесть Чехова «Мужики» была опубликована в журн. «Русская мысль» (1897. № 4) со значительными цензурными искажениями.
177
Речь идет о главе XVI трактата «Что такое искусство?», где в качестве образцов высшего искусства названы Толстым произведения Шиллера, Гюго, Диккенса, Достоевского, Бичер-Стоу, Д. Эллиота. Драму Лессинга «Натан Мудрый» Толстой не упоминает, хотя в свое время он рекомендовал «Натана Мудрого» для издания в «Посреднике» (письмо к В. Г. Черткову от 19–21 января 1887 г.).
178
Вейнберг П. И. Генрих Гейне, его жизнь и литературная деятельность. СПб.: изд. Ф. Павленкова, 1892.
179
Трактат «Что такое искусство?» Толстого. Критике декадентского искусства Толстой целиком посвятил X главу трактата.
180
Картина В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» (1899). Резкий отзыв Толстого об этой картине в марте 1899 г. слышал С. И. Танеев (Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860–1891. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1928. С. 273–274).
181
Лазурский говорит о воспоминаниях немецкого биографа Толстого Р. Левенфельда («Русское обозрение». 1897. № 10. С. 566). Перевод Толстого из осажденного Севастополя был поставлен в связь с появлением его рассказа «Севастополь в декабре месяце». Однако это сообщение к Николаю I относиться не может, так как рассказ был напечатан («Современник». 1855. № 6) уже после его смерти.
182
Студенческие волнения 1899 г. в Петербургском университете начались в связи с обращением ректора университета В. И. Сергеевича к студентам, в котором он угрожал подвергнуть репрессиям участников «беспорядков» и замешанных в нарушении «законов». 8 февраля произошло столкновение студентов с конной полицией близ Румянцевского сквера. Затем волнения перебросились в Московский университет. Толстой живо интересовался событиями студенческого движения (см.: Шохор-Троцкий К. Толстой и студенческое движение 1899 г. // Литературное наследство. Т. 37–38. С. 651–662).
183
Работая над «Плодами просвещения», Толстой признавал вполне естественным этот творческий прием и сам пользовался им. Ср. воспоминания М. В. Лопатина.
184
Известно и другое мнение Толстого о «Доходном месте». Услышав комедию в чтении, Толстой сообщал В. П. Боткину 29 января 1857 г.: «Комедия же Островского, по-моему, есть лучшее его произведение, та же мрачная глубина, которая слышится в „Банкруте“, после него в первый раз слышится тут в мире взяточников-чиновников… Вся комедия – чудо» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 60. С. 156). Ср. также дневниковую запись от 25 января 1857 г.: «Островского „Доходное место“ лучшее его произведение и удовлетворенная потребность выражения взяточного мира» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 47, с.112).
185
Неодобрительный отзыв Толстого о «Грозе» появился уже вскоре после выхода в свет пьесы: «„Гроза“ Островского же есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех» (письмо к А. А. Фету от 23 февраля 1860 г. – Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 60. С. 325).
186
Толстой вспоминает эпизоды из комедии А. Н. Островского «Горячее сердце» (действ. 3, явл. 2).
187
Книга И. Эккермана «Разговоры с Гете в последние годы его жизни. 1822–1832» в переводе Д. В. Аверкиева вышла в 1891 г.
188
В марте 1900 г. Толстой передал в газету «Северный курьер» первые главы статьи «Новое рабство». Статья была набрана и правилась Толстым в гранках, получив в окончательной редакции новое заглавие: «Рабство нашего времени». Статья в газете не была пропущена цензурой.
189
С. Л. Толстой.
190
Неверный вывод. Толстой с конца 40-х годов серьезно занимался музыкой; к 1850 г. относится его работа над статьей «Основные начала музыки и правила к изучению оной». Известен вальс его сочинения. Нотная запись вальса, сочиненного Толстым, сохранилась. См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: Записи за пятнадцать лет. Т. 1. С. 359–360.
191
Увлечение философией Конфуция (551–479 гг. до н. э.) возникло у Толстого значительно раньше. В письме к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. он называет его среди авторов, воздействие которых он испытал в период с пятидесяти до шестидесяти трех лет. Степень воздействия определена им как «очень большое». 14 ноября 1900 г. Толстой записал в дневнике: «Занимаюсь Конфуцием, и все другое кажется ничтожным» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 54. С. 62).
192
Буква – псевдоним И. Ф. Василевского, редактора юмористического журнала «Стрекоза», фельетониста «Русских ведомостей».