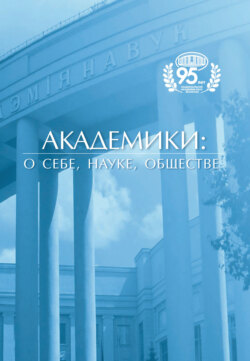Читать книгу Академики: о себе, науке, обществе - Сборник - Страница 12
О себе и о науке…
Волотовский Игорь Дмитриевич
ОглавлениеИстория науки через личный опыт ученого
Родился 25 октября 1939 г. в г. Минске в семье служащих.
В 1946 г. поступил в минскую Среднюю школу № 60. С 1948 г. обучался в Средней школе № 4 г. Минска, а с 1954 г. – в Средней школе № 2, которую окончил в 1956 г. Затем поступил в Минский государственный медицинский институт, после окончания которого в 1962 г. был по распределению направлен заведовать участковой больницей в д. Жукойни Сморгонского района Гродненской области. Сейчас трудно поверить, что 60 лет тому назад в этой деревне не было электричества, хотя и существовала инфраструктура: правление колхоза, почта, школа, магазин. Больница оказалась маленькой, стационар и амбулатория располагались в старом приспособленном здании. Коллектив больницы составлял 18 человек. Медицинский персонал (медсестры и фельдшера) – молодежь, недавние выпускники медицинских училищ, а хозяйственный персонал – местные старожилы. Для меня, городского жителя, недавнего школьника и студента, работа в деревне явилась важным этапом в судьбе, когда я узнал, что жизнь может быть разной и ее уровень может сильно различаться. Сморгонский район до 1939 г. входил в состав Польши, после присоединения Западной Беларуси к СССР прошло чуть больше 20 лет, четыре из которых пришлись на немецкую оккупацию. Видимо, этим обстоятельством и определялось сильное отставание жизненного уклада д. Жукойни от уклада деревень, находящихся на территории СССР с 1922 г.
Приехав на место распределения и приступив к работе, я сразу вспомнил «Записки врача» Михаила Булгакова. У меня было то же мироощущение. И главное – я сталкивался с теми же вызовами врачебной профессии, особенностями работы с персоналом и больными, которые дают, как писал М. Булгаков, оценку работы врача. Трудностей было много. В институте не учили тому, чем пришлось конкретно заниматься. Как руководить людьми? Какие обязанности у каждого сотрудника? Как налажена на участке диспансеризация и особенно детей в возрасте до 1 года? А больные. Правильно ли ставлю диагноз, адекватное ли назначаю лечение? А вдруг в рецепт закралась ошибка? Первая смерть больного. И хотя уже ничего нельзя было сделать по возрасту и из-за запущенности болезни, перенес я эту смерть очень тяжело. Ведь клятва Гиппократа работала.
В 1962 г. я женился. Моя супруга Ольга Александровна Волотовская окончила Минский государственный медицинский институт в 1966 г., 2 года проработала участковым педиатром, а потом перешла на работу в Институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения, где в лаборатории биохимии (заведующий лабораторией – профессор И. В. Ролевич) подготовила к защите кандидатскую диссертацию. Впоследствии она трудилась старшим преподавателем на кафедре лабораторной клинической диагностики Белорусской медицинской академии последипломного образования (заведующие кафедрой – сначала профессор В. Г. Колб, затем профессор В. С. Камышников). Мой сын Алексей Игоревич Волотовский пошел по стопам родителей – стал медиком. Он травматолог-ортопед, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание профессора, работает деканом лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). Его сын, мой внук, Павел Алексеевич Волотовский пошел по отцовской линии, работает в РНПЦ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, защитил кандидатскую диссертацию. Моя внучка Мария Алексеевна Волотовская с отличием окончила БГМУ, сейчас работает врачом в г. Флореция (Италия). Моя невестка Анна Викторовна Волотовская – тоже медик, кандидат медицинских наук, заведует кафедрой физиотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Жена внука Юлия – также медик. Таким вот образом в нашей семье сформировался целый коллектив дипломированных медицинских работников.
Несколько лет тому назад я снова посетил деревню Жукойни, где начинался мой трудовой путь. В ней мало что изменилось. Правда, электрический свет есть. Больница не сохранилась. Сначала ее ликвидировали, передали здание местной школе под интернат, а потом здание сгорело. Но в деревне остался домик, в котором я 2 года жил. Сейчас он пустует, внешне за 55 лет мало изменился.
В 1964 г., проработав 2 года, я решил продолжить свое образование, поступив в аспирантуру. Из газет узнал, что в лаборатории биофизики изотопов Академии наук БССР (АН БССР) имеется место в аспирантуре по специальности «биофизика». Оказалось, что конкурса нет. Место одно – у С. В. Конева, молодого биофизика, приехавшего из г. Москвы. Состоялось знакомство. Сергей Васильевич отнесся ко мне благожелательно, но заметил, что будет трудно, так как медики плохо знают физику: «Все зависит от вас. Придется много работать». Три года прошли быстро, но действительно было очень трудно. Пришлось себя переформатировать. К счастью, в этом очень помогли коллеги. Большое влияние на меня оказал («за руку ввел в биофизику») Евгений Александрович Черницкий – человек очень целеустремленный, основательный и последовательный. В лаборатории С. В. Конева он пользовался большим авторитетом. Евгений Александрович приучил меня много трудиться, постоянно совершенствоваться, следить за периодической литературой, все время думать о своей работе, пробовать генерировать идеи, жертвовать личным временем. Е. А. Черниц-кий по праву принадлежал к лидерам отечественной биофизики. К сожалению, его уже нет с нами.
Следует сказать, что по тем временам в лаборатории С. В. Конева сложился уникальный коллектив амбициозных, творчески активных сотрудников. Сам Сергей Васильевич задавал тон. Будучи выдающимся биофизиком с энциклопедическими знаниями, хорошей памятью и обостренным научным чутьем, он поощрял соревнование, вовремя подправляя и ориентируя сотрудников в нужном направлении, поддерживал творческий климат в лаборатории. Все это способствовало научному прогрессу. Сотрудники лаборатории Е. А. Черницкий, С. Л. Аксенцев, В. М. Мажуль и я, защитив кандидатские диссертации, впоследствии стали докторами наук, были у С. В. Конева ученики – кандидаты и доктора наук – работающие в других учреждениях.
Защита моей кандидатской диссертации состоялась в 1968 г. в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ). Тогда в СССР функционировало только два совета по защите диссертаций по специальности «биофизика», в МГУ и Институте биофизики Академии наук СССР (АН ССР) в г. Пущино Московской области.
В моей научной посткандидатской судьбе положительную роль сыграли две стажировки в ФРГ. Первая состоялась в Институте биохимии Майнцского университета, в лаборатории профессора Клауса Дозе, известного фотохимика и фотофизика белков, очень близкого нам по направлению своих исследований, а вторая – в Институте биофизической химии общества Макса Планка (г. Геттинген), в лаборатории профессора Манфреда Эйгена, Нобелевского лауреата по биофизике короткоживущих процессов в биологических системах. С М. Эйгеном я познакомился во время первой стажировки в ФРГ, и он пригласил меня поработать с ним. В Геттингене я познакомился с профессором М. Эпплбери, работавшей в области биофизики зрительной рецепции, и доктором Энтони Уоттсом, специалистом в области ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии белков и биологических мембран, который очень интересовался фоторецепцией. Тогда я стал задумываться о зрительной рецепции. Ведь в зрительном анализаторе происходили физиологические фотофизические реакции, они были локализованы в молекуле ретиналя – хромофоре родопсина. Эти исследования качественно отличались от тех, которыми я занимался ранее – повреждающим действием УФ-света на белки и биологические мембраны. Речь шла о ключевом фотозависимом процессе жизнедеятельности. Профессор М. Эйген поддержал мои намерения и планы работы во время стажировки, в результате появилась серия работ в этой области.
В 1977 г. я приступил к оформлению докторской диссертации, защита которой состоялась в городе Минске в Институте фотобиологии АН БССР. Так сложилось, что в эти годы директор нашего Института Александр Аркадьевич Шлык, выдающийся физиолог растений, биофизик, член-корреспондент АН СССР, серьезно заболел и мне предложили в 1982 г. пост его заместителя по научной работе. У меня с Александром Аркадьевичем сложилось нормальное деловое взаимодействие, так как у нас отношение к науке было одинаковым. А. А. Шлык был предан Институту и науке и все делал для ее прогресса. При нем Институт приобрел мировую известность. С Александром Аркадьевичем я проработал, к сожалению, недолго. В 1984 г. он ушел из жизни.
Мне предложили должность директора Института. Как я осознал позднее, это был не подарок судьбы, а испытание – на меня была возложена большая ответственность за Институт и его коллектив. Я часто ловил себя на мысли: не уверен, справлюсь ли. В эти же годы началась перестройка, появились первые признаки демократизации: гласность, выборность руководства, необходимость прозрачности принятых решений и т. д., чего не было в предыдущие годы. При всей привлекательности дискуссионного компонента в работе Института на фоне появления новых объективных трудностей, которые вынуждена была преодолевать наука, он мало помогал решению ключевых задач, стоящих перед учреждением, сохранению коллектива и высокого уровня исследований. С 1981 г. я начал сотрудничать с кафедрой биофизики физического факультета Белгосуниверситета, где проработал по совместительству в должности профессора до 2019 г. В течение первых лет руководства Институтом я уяснил для себя несколько правил, которыми и руководствовался в будущем: нужно хранить и поддерживать научные и человеческие традиции, которые сложились в коллективе в течение десятилетий; что-либо менять в работе института можно только после глубокого и всестороннего анализа, чтобы сделать в наиболее оптимальном варианте. Скоропалительные решения очень негативно воспринимаются коллективом. Критика предшественников, как правило, ничего конструктивного не дает. С самого начала моей директорской деятельности я ощущал активную поддержку Президента АН БССР Николая Александровича Борисевича, вице-президента АН БССР Александра Семёновича Махнача, руководителей белорусской биологической науки Леонида Михайловича Сущени, академика-секретаря Отделения биологических наук (1982–1992), впоследствии ставшего президентом АН БССР (1992–1997), и Любови Владимировны Хотылёвой, директора Института генетики и цитологии АН БССР (1971–1994), академика-секретаря Отделения биологических наук (1992–1997). Л. М. Сущеня и Л. В. Хотылёва – выдающиеся ученые и организаторы науки, ставшие в научной среде эталоном для оценки деятельности ученого.