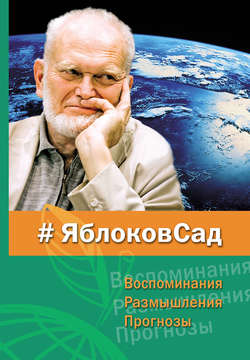Читать книгу ЯблоковСад. Воспоминания, размышления, прогнозы - Сборник - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Прямая речь
Я счастливый человек
Ученики и учителя
ОглавлениеДля меня незыблемо то, что в науке можно двигаться вперед, только встав на плечи учителей. В науке ничего нельзя сделать в одиночку. Нужно обязательно освоить то, что тебе дали учителя. Это не значит следовать их наставлениям скрупулезно и быть уж совсем эпигоном. Нет, надо развиваться обязательно. Но не освоить того, что тебе дали, отбросить то, что они тебе сказали, – нельзя.
Мои Учителя с большой буквы – это Петр Петрович Смолин и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Практически все, что они сказали, – это драгоценность, азбука, Библия.
Но мой первый учитель – Петр Петрович Смолин был много старше меня. Я был мальчишкой, 12–15 лет, а ему было уже 60. Я не понимал его поступков как человека, не мог их оценить. Он просто был моим учителем, а его слово было законом. А Тимофеева я уже понимал и одобрял. Мне нравились и его оценки людей, и его подходы к жизни, и его афоризмы. Из них, из афоризмов, почти заповедей, тоже складывается его образ. Он говорил, например: «Никогда не занимайся тем, что лучше тебя сделают немцы». То есть не абы чем надо заниматься в науке, а только своим делом. Еще одна была присказка: «Аааааааа, знаю, это седьмая ножка у сороконожки». Это о чем-то второстепенном в науке. Для меня как учитель он этим еще был велик.
Выступление в обществе «Знание» на заседании, посвященном Н. Тимофееву-Ресовскому в связи с выходом книги Д.А. Гранина «Зубр». 1987 г.
Но чем бы я был, если бы не слушал других моих учителей, например Сергея Евгеньевича Клейненберга? Чем бы я был, если бы не увлекался тем, что говорил Борис Степанович Матвеев?
Человека формируют, конечно, учителя, с одной стороны, а с другой стороны, друзья школьной и университетской поры, общество. Мне повезло, что мое становление как личности началось не в школе, а в КЮБЗе и продолжилось в университете. Другое дело, что это окружение и учителей ты сам выбираешь. Ведь в университете на курсе нас было 150–200 человек, а я в добрых, дружеских человеческих отношениях нахожусь с 5–7 людьми. И к учителям своим я сам пришел, не они меня нашли. А почему я к ним пришел? Потому, что была мама моя – умная, добрая, прозорливая, смотрела вперед и ободряла меня. Я мальчишкой был в разных кружках, а зацепился в зоопарке. Я там прилип, вошел туда и полностью погрузился. И это было сделано не только потому, что это мне нравилось, а потому, что мать сказала, что это хорошо.
Известные биологи и натуралисты (слева направо):
Петр Петрович Смолин, Алексей Яблоков, Татьяна Георгиевна Дервиз-Соколова, Станислав Михайлович Кудрявцев. Фото начала 50-х гг.
Это я выбрал Петра Петровича Смолина как учителя. Я мог в КЮБЗе не остаться, я мог уйти в другое место. Ведь каждый человек выбирает своего учителя. Это, конечно, загадка человеческой психики. Но думаю, что учителя не случайно появляются. Они появляются из какого-то твоего интереса и твоего ожидания. В отношении Тимофеева так и было. Я активно ждал какого-то «Тимофеева». Если бы не было Тимофеева-Ресовского, наверное, кто-нибудь другой появился бы. Может быть, не такого ранга и не такого масштаба. Я не видел людей такого ранга рядом с собой долгое время, да не вижу и сейчас. Говорят, Сукачев был такой, не знаю. Но даже великий и замечательный Меркурий Сергеевич Гиляров не был такого класса Человечищем. А Андрей Сахаров был. Но с Сахаровым я познакомился уже в зрелом возрасте, да и направление деятельности у него было другое. Он нес в мир гуманистическую идею, выстраданную им, и не заботился об учениках. У него не было учеников как таковых. У него были последователи. Он был как таран, и за ним шли. В эту, пробитую им брешь шли другие люди, делали то же, что делал он по правам человека, по отвращению от этого страшного коммунистического мира и т. д. Но Сахаров не был Учителем, как Тимофеев.
Тимофеев и Смолин были учителями по духу. Им было интересно работать с людьми. Тимофеев открыто говорил: «Мне интереснее потрепаться, чем написать какую-то статью». Ему было интересно общаться с людьми, он был открыт для этого общения и создан для общения. Тимофеев был прирожденным учителем. Быть учителем – это не просто быть лидером. Я сам в какой-то степени лидер. Я выдвигаю какие-то позиции, какие-то вещи я формулирую более четко, чем другие мои экологические друзья-коллеги. Я веду за собой. Но я – не учитель, а просто лидер. Я могу с компьютером, с книгами на неделю застрять и ни с кем не общаться, кроме Дильбар. Но невозможно представить, чтобы Тимофеев или Петр Петрович Смолин на неделю были изолированы от своих учеников. Такого просто быть не может.
Тимофеев рассказывал, что, когда он сидел в советских тюрьмах, они в камерах устраивали университет. Среди заключенных разные люди были: какой-то попик рассказывал о религии, кто-то – о химии, кто-то говорил о сельском хозяйстве. Тимофеев говорил, что он очень много получил от этих разговоров, многое понял. Когда они вместе с попом сидели, то глубоко говорили о религии, а Тимофеев рассказывал о генетике. Они вместе росли в этих разговорах. Оказывается, в любом месте, даже в экстремальных условиях, учителя остаются учителями.
Я по духу не учитель. Я довольно сухой человек. В застолье я мрачный. Я не рассказываю анекдотов и не помню их даже. Мне иногда скучно за рюмкой.
Есть, наверное, человек двадцать, сделавших свои докторские диссертации под моим влиянием, по моей консультации. Кандидатские диссертации я не считаю, их, наверное, больше пятидесяти. Я многих с удовольствием консультировал, помогал защититься и делаю это по сей день. Вот недавно понравилась работа одной девочки по ладожской нерпе. Я ездил в Питер, с удовольствием выступил официальным оппонентом. Девочка звездочкой оказалась, но, к сожалению, уже собралась в США. Где-то там уже и место для нее есть. Но думаю, что она запомнит и мой приезд, и наши разговоры, и мою критику.
Моими учениками смогли стать те, кто оказался достаточно стоек, чтобы вынести мои резкие оценки. Я не злой человек, но резкий. И мои оценки не всякий выносит. Я знаю, что многие обижались и уходили, и больше не появлялись. Есть те, кто на меня глубоко обижен. Но я не хотел никого унизить или оскорбить. Я всегда искренне высказывался, что это мура, что этого делать не надо, этим заниматься не надо, а вот в этом направлении надо идти. Для тех, кто преодолевал мою жесткость, я, наверное, становился учителем. Таких очень мало. И я очень расстраиваюсь.
Я всегда считал своим главным учеником и по научной, и по общественной линии Володю Захарова. Оказалось даже, что я читал лекции у него в школе. Было поветрие, что ученые должны идти в школы, помогать там. И так вышло, что я читал лекции в классе, где учился Захаров. Я не знал этого. Он мне потом сам сказал: «Вы к нам приходили. И я, в какой-то степени, благодаря вам пошел в биологию». И поэтому мне так обидно, что Захаров не продолжил мою работу.
Я, наверное, могу считать своим учеником Саню Баранова. Он не бог весть какой самостоятельный исследователь, но натуралист замечательный. Глаз у него действительно замечательный, и он абсолютно приличный человек. Это очень существенно. Есть ли те, кто не работал в нашей лаборатории, но считают себя моими учениками? Я не знаю, это не ко мне вопрос, даже интересно было бы спросить. Например, Чинара Садыкова. Она изначально была биологом, а сейчас занимается благотворительной деятельностью в Киргизии. Мы изредка переписываемся.
Я надеюсь, что найдется немало людей, которые скажут, что были в какой-то степени моими учениками по фенетике. Фенетика – это очень интересная область биологии, которая была придумана мною вместе с Тимофеевым-Ресовским. Трудно сказать, кто придумал первым. Наверное, Тимофеев придумал, а я, уцепившись, идею развил. Первая большая статья о фенетике «Фены, фенетика и эволюционная биология» была опубликована нами с Тимофеевым и Глотовым в «Природе». С этой статьи все началось, а потом было четыре всесоюзных совещания по фенетике. Были публикации по фенетике. Люди, уже не связываясь с нами, защищали диссертации в рамках этого направления. Мы с профессором Саратовского университета Ниной Ивановной Лариной опубликовали в «Высшей школе» пособие «Основы фенетики популяций». Эта книга сыграла огромную роль в том, что десятки, а может быть, и сотни ученых заинтересовались фенетикой и последовали за нами.
Еще один учебник – «Эволюционное учение» – мы создали вместе с Маликом Юсуфовым. Получилась совершенно удивительная книжка, которая жила невероятно долго. Он ботаник, физиолог, заведовал кафедрой в Махачкале. Благодаря ему, конечно, наш учебник выдержал шесть изданий.
Перед входом в Институт биологии развития. Стоят слева направо: А. Кирпичников, А. Яблоков, Эдвард Митчел (Канада) и С. Клейненберг. 1968 г.
Мне многие люди, которых я не знал, говорили: «Мы – ваши ученики, потому что выросли на ваших книгах». Наверное, таких учеников – по науке, по книгам – у меня много. Но когда я говорю об учителе, я имею в виду не только науку. Если человек – твой учитель, то он учитель и в жизни.
Скажем, тот же Клейненберг был очень приличным человеком. И он был учителем по духу, общительным, мастером всяких анекдотов по любому поводу. Расскажу два анекдота из его репертуара, которые запомнил из множества. В них есть дух коллектива научного, где я жил и развивался.
Одноклассником Клейненберга был Махотин, один из учеников Северцова. Махотин был жутким любителем розыгрышей. А в лаборатории Северцова жили аксолотли. На них изучали регенерацию и развитие. Махотин обратил внимание, что если кинуть дробинку, то аксолотли принимают ее за корм и проглатывают. Ну, он и накидал в аквариум дроби, а аксолотли все проглотили и повисли в аквариуме торчком, как поплавки. Дробинки в животе у них центр тяжести изменили, и они уже не могли плавать горизонтально. Приходит Северцов и в изумлении смотрит, что аксолотли все вертикально плавают. Он их всю жизнь изучал, а вот такого феномена не видел. Чем там все закончилось, не знаю, но как хохма эта история ходила.